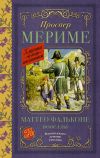Текст книги "Предательство интеллектуалов"

Автор книги: Жюльен Бенда
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Второе учение внушает людям, что факт многочисленности группы составляет для нее некое право. Такую мораль слышат от большинства своих мыслителей нации перенаселенных стран, тогда как другие получают от большинства своих предостережение, что при низкой рождаемости они подвергнутся «законному» истреблению. Право числа, признаваемое людьми, будто бы причастными жизни духа, – вот что видит современное человечество. Впрочем, сильным и вправду может быть только многочисленный народ.
Почитание сильного государства и утверждающих его моральных принципов интеллектуалы проповедуют людям в самом общем плане, далеко за пределами политической сферы. Это проповедь прагматизма, с которой в последние пятьдесят лет выступают почти все влиятельные моралисты Европы. Буйный расцвет прагматизма – один из наиболее примечательных переломных моментов духовно-нравственной истории человеческого рода. Невозможно преувеличить значимость происшедшей перемены: те, кто в течение двадцати веков учили человека, что критерий нравственности поступка – его бескорыстность, что благо есть определение человеческого разума в его всеобщности, что воля нравственна, только если ищет для себя закон вне своих объектов, теперь внушают ему, что нравственный поступок – тот, благодаря которому он обеспечивает свое существование, несмотря на противодействие среды, что воля его нравственна настолько, насколько она есть воля «к могуществу», что та часть его души, которая определяет благо, – это «воля к жизни» в ее наиболее «чуждом всякому разуму» содержании, что нравственность поступка измеряется его соответствием цели, с какой он был совершен, и что любая мораль обусловлена обстоятельствами. Воспитатели человеческой души, принимающие сторону Калликла против Сократа, – вот революция, которая, смею сказать, важнее всех политических переворотов[253]253
О прагматизме, в частности ницшеанском, и о месте, которое он занимает, более или менее явственно, почти во всех типичных для нашего времени моральных или политических учениях, см.: R. Berthelot. Un Romantisme utilitaire, t. I, p. 28 et suiv. – Новизну прагматической позиции, особенно у французских моралистов, мы ясно почувствуем, если вспомним высказывание Монтеня, которое, можно не сомневаться, до Барреса подтвердили бы все: «Мерилом честности и красоты того или иного поступка мы ошибочно считаем его полезность»*.
Не будем, однако, забывать, что Ницше, постоянно изменяющий своим ученикам, заявляет: «…то, что называется здесь „полезностью”, есть в конце концов тоже лишь вера, лишь воображение и, возможно, как раз та самая роковая глупость, от которой мы однажды погибнем» («Веселая наука», §354)*.
[Закрыть].
Остановлюсь на некоторых особенно примечательных аспектах проповедования прагматизма; пожалуй, им еще не уделили достаточного внимания.
Современные интеллектуалы, говорил я, внушают человеку, что воля его нравственна тогда, когда стремится обеспечить его существование за счет противодействующей ему среды. Они учат, что род человеческий свят, потому что сумел утвердиться в своем бытии за счет окружающего мира[254]254
Вот почему прагматизм называется также гуманизмом. (См.: F. Schiller. Protagoras or Plato.)
[Закрыть]. Иными словами: прежняя мораль говорила человеку, что он божествен в той мере, в какой он погружен в мир; новая говорит ему, что он божествен в той мере, в какой противопоставляет себя миру; первая призывала человека не обособляться в природе «как государство в государстве»; вторая призывает обособиться от природы, уподобившись мятежным ангелам из Писания, восклицавшим: «Теперь мы хотим мыслить себя отдельно от Бога»; первая провозглашала устами Учителя «Созерцаний»*: «Верить, но не в себя самих»; вторая возражает устами Ницше и Морраса: «Верить, но в себя самих, только в себя самих».
Однако не в этом подлинная оригинальность прагматизма. Уже христианство призывало человека противопоставить себя природе, но призывало во имя его чисто духовных атрибутов; прагматизм же призывает во имя его практических атрибутов. Человек некогда был божествен потому, что обрел понятие справедливости, идею закона, сознание Бога; сегодня он божествен потому, что сумел оснастить себя орудиями, которые дают ему власть над материей. (Поглядите, как прославляется homo faber* у Ницше, Сореля, Бергсона.)
Впрочем, современные интеллектуалы возвеличивают христианство, так как видят в нем главным образом школу практических, зиждительных добродетелей, предназначенных утверждать великие человеческие установления. Эта удивительно искаженная религиозная доктрина, по сути своей, вне всякого сомнения, зовущая единственно к духовному, преподается не только мирскими, которые исполняют обычную для них роль, прикрывая свои практические намерения высочайшими нравственными авторитетами, – ее исповедуют и сами служители Иисуса; прагматическое христианство, как я его здесь понимаю, проповедуется ныне со всех христианских кафедр[255]255
Как осуществляется согласование, известно: Иисус, говорят нам, проповедовал жертвенность, а она лежит в основе всех человеческих установлений. Как будто Иисус проповедовал ту жертвенность, что выигрывает битвы и укрепляет державы!
[Закрыть].
Обращение к конкретной выгоде и к доставляющей ее форме души выражается у современного интеллектуала еще в одном весьма примечательном учении: восхвалении воинской жизни и чувств, ей сопутствующих, и презрении к жизни гражданской и к морали, которую она предполагает. Мы знаем, какую доктрину вот уже пять десятилетий проповедуют в Европе крупнейшие моралисты. Они выступают с апологией «очистительной» войны, преклоняются перед человеком воюющим – «образцом нравственной красоты», – провозглашают высшую моральность «насилия» или моральную правоту разрешающих свои споры на арене единоборства, а не перед судейскими коллегиями, объявляют соблюдение договоров «оружием слабых», потребность в справедливости – «чертой рабов». Мы не исказим взгляды последователей Ницше или Сореля – т.е. значительного большинства современных литераторов, поскольку они предлагают миру шкалу нравственных ценностей, – если скажем, что с их точки зрения Коллеони – человеческий тип, намного превосходящий Лопиталя. Оценки из «Путешествия кондотьера»* характерны не только для автора этого произведения. Подобной идеализации практической деятельности человечество никогда не слыхало от своих воспитателей, по крайней мере от тех, которые говорят с ним на языке догматики.
Нам будут толковать, что воинская жизнь проповедуется Ницше и его школой отнюдь не в качестве доставляющей практические выгоды, а, наоборот, как образец бескорыстной деятельности и противополагается реализму, по их понятиям, неотъемлемому от гражданской жизни. И тем не менее образ жизни, восхваляемый этими моралистами, – на деле тот самый, который преимущественно перед любым другим дает временные блага. Что бы ни говорили автор «Размышлений о насилии» и его последователи, война приносит больше, чем контора; брать выгоднее, чем обменивать; Коллеони богаче Франклина. (Естественно, я имею в виду воина-победителя, ведь у Ницше и Сореля тоже речь никогда не идет о разорившемся торговце.)
К тому же никто не станет отрицать, что в наше время главные поборники иррациональной деятельности, одним из аспектов которой является воинственный инстинкт, превозносят ее за ее практическую значимость. Верно сказал историк: романтизм Ницше, Сореля и Бергсона – романтизм утилитарный.
Обратим внимание читателя на то, что у современного интеллектуала мы здесь отмечаем прославление уже не военного духа, а воинственного инстинкта. Именно преклонение перед воинственным инстинктом, безотносительно ко всякому общественному духу дисциплины или жертвенности, выражают нижеследующие слова Ницше, одобряемые французским моралистом, который и сам составляет школу: «Предпосылкой рыцарски-аристократических суждений ценности выступает мощная телесность, цветущее, богатое, даже бьющее через край здоровье, включая и то, что обусловливает его сохранность, – войну, авантюру, охоту, танец, турниры и вообще все, что содержит в себе сильную, свободную, радостную активность»; «эта „смелость“ благородных рас, безумная, абсурдная, внезапная в своих проявлениях... их равнодушие и презрение к безопасности, телу, жизни, удобствам»; «роскошная белокурая бестия, жадно рыскающая в поисках добычи и победы»; «их ужасная веселость и глубина радости, испытываемой при всяческих разрушениях, всяческих сладострастиях победы и жестокости». Моралист, который приводит эти выдержки (Sorel. Réflexions sur la violence, р. 360), прибавляет, дабы не оставалось сомнений насчет рекомендации, какую он дает себе подобным: «Совершенно очевидно, что свобода оказалась бы изрядно скомпрометированной, если бы люди стали рассматривать гомеровские ценности [по Сорелю, это те, которые прославляет Ницше] как принадлежность одних только варварских народов»*.
Надо ли и тут говорить, что мораль, преобладающая ныне у воспитателей человечества, является, в сущности, германской и знаменует крах греко-римского мировоззрения? Во Франции до недавнего времени не нашлось бы ни одного серьезного моралиста (включая де Местра) и ни одного крупного поэта, которые возвеличивали бы «сладострастия победы и жестокости»[256]256
«Проливая чужую кровь, истинный воин остается человечным» (де Местр).
[Закрыть]. Но так было и в Риме, хотя война принесла римлянам владычество над миром. Не только у Цицерона, Сенеки, Тацита, но и у Вергилия, Овидия, Лукана, Клавдиана я не вижу, чтобы инстинкты добычи считались высшей формой человеческой морали; наоборот, многие моралисты и поэты возводят в этот ранг инстинкты, на которых зиждется гражданская жизнь[257]257
Например, когда у них воитель говорит на небесах: «Ничто так не угодно высшему божеству, правящему всем миром – во всяком случае, всем происходящим на земле, – как собрания и объединения людей, связанные правом и называемые государствами» (Цицерон. Сновидение Сципиона)*.
[Закрыть]. Так и в архаической Греции задолго до философов мифы воздали должное гражданской морали: в поэме Гесиода могилу Кикна по велению Аполлона поглощают речные воды, потому что этот герой не гнушался грабежом*. Апология воинственных инстинктов моралистами средиземноморских государств будет странной загадкой для истории. Впрочем, некоторые из них, похоже, это подозревают и думают оправдать себя утверждением, что гомеровские ценности (чтó они под этим разумеют, мы видели выше) «очень близки к ценностям Корнеля»[258]258
Sorel. Loc. cit.
[Закрыть], – как будто у героев французского поэта, весьма чувствительных к понятиям долга и государства, было что-то общее с искателями авантюр, добычи и победы.
Судя по приведенным цитатам, Ницше превозносит воинскую жизнь независимо от какой-либо политической цели[259]259
И какого-либо патриотизма. Ницше и Сорель убедительно доказывают, что любовь к войне – это нечто совершенно отличное от любви к отечеству, хотя они чаще всего совпадают.
[Закрыть]. И действительно, современный интеллектуал учит людей, что война сама по себе содержит некую нравственность и что воевать следует вне зависимости от соображений пользы. Эта идея, хорошо известная по произведениям Барреса, была подхвачена и развернута молодым героем, ставшим властителем дум целого поколения французов: «У меня на родине любят войну и втайне желают ее. Мы воевали всегда. Не затем, чтобы захватить какую-то область, уничтожить какой-то народ, положить конец столкновению интересов... Сказать по правде, мы воюем, чтобы воевать, без какой-либо другой мысли»[260]260
Ernest Psichari. Terres de soleil et de sommeil. В «Зове оружия»* в уста персонажа, на чьей стороне, без сомнения, все симпатии автора, вкладывается та же идея: «Я думаю, необходимо, чтобы в мире было какое-то число людей, которые называются солдатами. Их идеал – сражаться, у них есть вкус к битве – не к победе, а к борьбе, как у охотников есть вкус к охоте, а не к дичи!.. Нам же выпала иная роль: чтобы не утратить оправдание и смысл своего существования, мы должны поддерживать военный идеал, не национально-военный, заметьте, а, если можно так выразиться, военно-военный...» Религия этого моралиста – по его собственному выражению, тотальный милитаризм. «Пушки, – говорит он, – наиреальнейшие реальности, единственные реальности современного мира». Реальности, явно обожествляемые этим «спиритуалистом» и его приверженцами.
[Закрыть]. В прошлом французские моралисты, даже избравшие военное ремесло (Вовенарг, Виньи), смотрели на войну как на печальную необходимость; их потомки представляют ее как бесполезное благородство. Однако проповедуемый безотносительно к практическим целям культ войны в качестве некоего искусства в высшей степени благоприятствует решению практических задач: бесполезная война – лучшая подготовка к войне полезной.
Учение это побуждает современного интеллектуала (как мы только что видели на примере Ницше) придавать моральную ценность телесным упражнениям, провозглашать моральность спорта, – что также весьма примечательно у тех, которые в течение двадцати веков призывали человека находить благо лишь в состояниях духа. Не все моралисты спорта, впрочем, скрывали практическую суть своей доктрины; молодежь, прямо говорит Баррес, должна развивать в себе телесную силу ради величия родины. Современный воспитатель ищет вдохновения теперь уже не у прогуливающихся философов Ликея или отшельников из Клерво, а у того, кто основал небольшое селение на Пелопоннесе*. Мы столкнулись с новым явлением: люди, претендующие на духовность, учат, что Греция, достойная почитания, – это Спарта с ее гимнасиями, а не город Платона или Праксителя; другие утверждают, что Античность, которую надо чтить, – это не Греция, а Рим. Тут вполне последовательны те, кто намерен проповедовать людям только мощную телесность и прочные бастионы[261]261
Принижение Греции, которое мы видим у многих французских традиционалистов со времен де Местра, стало постоянным у пангерманистов. (См., в частности: H. S. Chamberlain. La Genèse du XIX-е siècle, t. I, p. 57.)
В журнале догматической направленности («Notre Temps», août 1927) читаю под выразительным заголовком «За практический идеализм»: «Обученная таким образом молодежь, больше тяготеющая к спорту, чем к идеологии, дает ответ тем, кто спрашивает себя, не восходит ли над нами заря великого века». – Служители церкви и здесь не отстают от мирских. В «La Vie catholique» (24 sept. 1927) нахожу заметку с восторженными похвалами чемпиону по боксу; заметка, правда, оканчивается словами: «В заключение скажем, что Танни – убежденный католик, добрый прихожанин, а две его сестры – монахини».
[Закрыть].
Проповедь реализма приводит современного интеллектуала к определенным учениям, прислушиваясь к которым общество слабо сознает, насколько новы они в духовной истории, насколько расходятся с наставлениями, какие на протяжении двух тысячелетий давал человечеству этот класс.
1. Превознесение мужества, точнее, призыв оценивать способность человека смело смотреть в глаза смерти как высшую из добродетелей, превосходящую все остальные высокие достоинства. Это учение, изложенное широкой публике Ницше, Сорелем, Пеги, Барресом, во все времена составляло кредо поэтов и полководцев; оно совершенно ново у интеллектуалов – людей, предлагающих миру шкалу ценностей как итог философской или близкой к ней рефлексии. Люди духовные, от Сократа до Ренана, считают мужество добродетелью, но лишь второго плана; все, более или менее явно, солидарны с Платоном: на первом месте среди добродетелей – рассудительность и воздержность, мужество следует далее[262]262
Платон. Законы, кн. I. Вот текст Платона: «Первая из добродетелей рассудительность; за нею идет воздержность; последнее место занимает мужество»*. Под мужеством Платон понимает здесь способность человека смело смотреть в глаза смерти (см. контекст, в частности, пассаж о наемниках: «...люди смелые, но несправедливые, наглые и чуть ли не самые неразумные из всех, готовы бодро идти сражаться и даже умереть»*). Очевидно, он не отдал бы первое место мужеству и как силе духа, как несгибаемости в несчастье, – в отличие от стоиков; сила души всегда следовала бы у него после справедливости (будучи, согласно учению Платона, производной от нее). Впрочем, мужество, возведенное в высший ранг Барресом, – это отнюдь не стоическая невозмутимость, а именно деятельное бесстрашие перед лицом смерти; для Ницше и Сореля это, собственно, отвага с ее иррациональностью – мужество, невысоко ценимое всеми древними моралистами и их последователями: см. Платон. Лахет; Аристотель. <Никомахова> этика, III, viii; Спиноза. Этика, IV, 69; а порой и поэтами: «Наш царящий над мужеством разум» (Ронсар).
По-видимому, презрение к смерти, даже во имя справедливости, не было у древних философов предметом восхваления, как у современных. Сократа в «Федоне» хвалят за его справедливость, но не слишком громко хвалят за то, что он не побоялся умереть за справедливость. Точка зрения древних в этом вопросе, мне кажется, хорошо выражена Спинозой: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти»*; поэтому не вызывает особого восхищения тот, кто ее не боится. Тем, кто не боится чего-то, восхищаются только тогда, когда находят это «что-то» значительным. Не христианство ли, придав смерти величайшее значение (предстояние пред Богом), заставило людей, во всяком случае моралистов, почитать мужество? [Не могу не привести под конец слова Сен-Симона, что дворянство «обыкновенно ни к чему не годно, кроме как к тому, чтобы позволять себя убивать» (Saint-Simon. Mém., t. XI, р. 427, éd. Chéruel). Ручаюсь, ни один современный писатель, будь он даже французским герцогом, не стал бы говорить о мужестве в подобном тоне.]
[Закрыть]; все призывают человека почитать не те душевные движения, что помогают ему утолить свою жажду утвердиться в реальном, а те, что помогают умерить ее. Это только в наше время священнослужители духовного полагают наивысшей формой души ту, которая необходима человеку, чтобы завоевывать и учреждать[263]263
И чтобы охранять.
[Закрыть]. Однако практическая ценность мужества, четко выраженная Ницше и Сорелем, признается не всеми современными моралистами, превозносящими эту добродетель. Вот другое их учение.
2. Превознесение чести, означающей комплекс чувств и побуждений, повинуясь которым человек рискует жизнью без всякого практического интереса – а вернее сказать, из жажды славы, – но которые служат отличной школой практического мужества и всегда проповедовались теми, кто ведет людей завоевывать земное (задумайтесь об уважении, каким неизменно пользовался во всех армиях институт дуэли, несмотря на известные строгости, продиктованные исключительно практическими соображениями[264]264
У Барреса мы найдем впечатляющий пример восхищения религией чести по той причине, что эта религия, умело эксплуатируемая умным вождем, может дать практические результаты (Barrès. Une Enquête aux pays du Levant, chap. VII: «Les derniers fidèles du vieux de la Montagne»).
[Закрыть]). И опять-таки важное место, отведенное подобным чувствам столькими современными моралистами, – явление новое в их корпорации, особенно в стране Монтеня, Паскаля, Лабрюйера, Монтескьё, Вольтера, Ренана, которые, превозвышая честь, понимают под нею нечто совсем иное, нежели преклонение перед человеком из-за его славы[265]265
Это, в первую очередь, относится к Монтеню. Всем известно, что он превозвышает честь как чуткость человека к суду своей совести, а отнюдь не как заботу о славе («среди всех наслаждений нет более гибельного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так бежать»*). Поэтому Баррес видит в Монтене «чужака, не разделяющего наших предубеждений». Баррес путает моралистов и поэтов; я не знаю до него ни одного французского автора с догматическими притязаниями, который считал бы славолюбие высоким нравственным достоинством; французские моралисты до 1890 года маловоинственны, даже военные, как Вовенарг и Виньи. (См. превосходное исследование: G. Le Bidois. L’Honneur au miroir de nos lettres, в особенности раздел о Монтескьё.)
[Закрыть]. – Однако самое примечательное здесь то, что преклонение перед человеком из-за славы сплошь и рядом проповедуется сегодня церковнослужителями, причем как добродетель, приводящая нас к Богу. Не странно ли слышать с христианской кафедры такие вот слова: «Стремление к почестям – это путь к Богу, и героический порыв, полностью совпадающий с исканием первопричины славы, позволяет тому, кто забыл Бога или думал, что не знает его, обрести его вновь, взойти на эту последнюю вершину, привыкнув во время предварительных восхождений к разреженному воздуху головокружительных высот»[266]266
L’abbé <A. G.> Sertillanges. L’Héroïsme et la gloire. Сравним это с двумя проповедями Боссюэ о «мирской чести». Мы оценим, насколько продвинулась церковь за последние три столетия в своих уступках мирским страстям. (См. также рассуждение Николя «Об истинном понятии достоинства».) Проповеди аббата Сертийянжа («La Vie héroïque») надо прочесть целиком, как яркое свидетельство восторга церковнослужителя перед воинственными инстинктами. Это настоящий манифест священника в военной каске. Тут есть патетические речи, которые, mutatis mutandis, могли бы исходить от полковника, напутствующего гвардейских гусар: «Поглядите на Гинемера, этого героя-ребенка; этого простодушного с орлиным взором; хрупкого Геракла, Ахилла, не покидающего с досады поле битвы, Роланда облачных высот и Сида французского неба: видели вы когда-нибудь более отчаянного и яростного паладина, презирающего смерть, будь то свою собственную или противника? Этот „сорванец“, как часто называли его товарищи, наслаждался лишь дикой радостью атаки, тяжкого сражения, чистого триумфа, и надменность победителя была у него вместе очаровательной и грозной».
[Закрыть]. Как тут не напомнить урок, преподанный истинным приверженцем Иисуса одному христианскому теологу, начисто забывшему слово Учителя: «Заметили вы, что ни в восьми блаженствах*, ни в Нагорной проповеди, ни в Евангелии вообще, как и во всей раннехристианской литературе, воинские добродетели никогда не числятся среди тех, благодаря которым достигают Царствия Небесного?» (Renan. Première lettre à Strauss[267]267
Напомним также определение чести у Фомы Аквинского, отличное от определения чести, превозносимой аббатом Сертийянжем: «Честь является благом (как искание людской славы) при условии, что начало ее – христианская любовь, а конечная цель – слава Божия или благо ближнего»*.
[Закрыть]).
Мы упрекаем христианского проповедника не в том, что он отдает дань славолюбию и другим земным страстям, – мы упрекаем его в том, что он пытается уверить нас, будто это не противоречит возложенной на него миссии. Мы не требуем от христианина не нарушать христианский закон; мы требуем, чтобы, нарушив его, он знал, что его нарушил. Эту двойственность прекрасно выразил кардинал Лавижери, который на вопрос: «Как бы вы поступили, монсеньор, если бы вас ударили по правой щеке?» ответил: «Я хорошо знаю, как я должен был бы поступить, но не знаю, как поступил бы». Я хорошо знаю, как я должен был бы поступить и, стало быть, чему я должен учить; тот, кто так говорит, при любых нарушениях поддерживает христианскую мораль. Поступки тут ничто, суждение о поступках – всё.
Повторяем: мы сожалеем не о том, что людям проповедуют религии чести и мужества; мы сожалеем о том, что проповедуют их интеллектуалы. Как мы уже сказали, цивилизация, на наш взгляд, возможна, только если человечество соблюдает разделение функций; если наряду с теми, кто отдается мирским страстям и превозносит добродетели, способные им служить, существует класс людей, который умаляет эти страсти и славит блага нетленные. Нам представляется важным, что этот класс людей больше не исполняет своей обязанности и что интеллектуалы, чьим призванием было укрощать человеческую гордыню, проповедуют те же чувства и побуждения, что и предводители армий.
Нам объяснят: к этому проповедованию, по крайней мере во время войны, интеллектуалы принуждаются мирскими людьми и их государствами, которые сегодня хотят мобилизовать в своих интересах все моральные ресурсы нации[268]268
См. проект закона о воинской службе, предложенный недавно Поль-Бонкуром.
[Закрыть]. Однако нас больше поражает не сама эта проповедь со стороны интеллектуалов, а то, как послушно они принялись проповедовать угодное мирским, без малейшего отвращения, с радостью и энтузиазмом. Правда в том, что интеллектуалы теперь ничем не отличаются от мирских.
3. Превознесение твердости и презрение к человеколюбию (состраданию, милосердию, доброжелательству). Современные интеллектуалы и тут стали моралистами реализма. Они не просто напоминают людям, что твердость необходима для «свершений», а милосердие обременительно, не просто проповедуют своей нации или партии, как Заратустра своим ученикам: «Будьте тверды, будьте безжалостны – и властвуйте»; они провозглашают нравственное благородство твердости и низость милосердия. Это учение, составляющее основу творчества Ницше и неудивительное в стране, которая, как было подмечено, не дала миру ни одного великого апостола[269]269
Это наводящее на раздумья замечание принадлежит Лависсу. (Lavisse. Etudes d’histoire de Prusse, p. 30. См. весь пассаж.)
[Закрыть], особенно знаменательно на родине Винцента де Поля и защитника Каласа. Безусловно ново, когда из-под пера французского моралиста выходят строки, которые можно принять за извлечения из «Генеалогии морали»: «Эта извращенная жалость привела к деградации любви[270]270
Под любовью здесь, конечно, подразумевается любовь к высшему виду (к которому, естественно, относится и сам проповедник). Такая любовь, несомненно, допускает не «извращенную» жалость.
[Закрыть]. Любовь назвалась милосердием; каждый возомнил себя достойным его. Щедроты милосердия расточаются на скудоумных, слабых, больных. Во мраке ночей рассеивались семена этой сорной травы. Она заполонила землю. Ею заросли безлюдные пространства. В каком бы вы ни очутились краю, не проходит и дня, чтобы вам не встретилось бесцветное заурядное существо, движимое простым желанием продлить свою постыдную жизнь»[271]271
Ch. Maurras, «Action française», t. IV, p. 569. Это перекликается со словами Ницше: «Человечность! Существовала ли более гнусная карга среди всех гнусных старух?» Немецкий мэтр добавляет – как мы увидим ниже, в согласии с большинством французских духовных учителей: «Разве только истина»*.
[Закрыть]. Здесь мы тоже видим прогресс, достигнутый современными реалистами в сравнении с их предшественниками; когда Макиавелли заявляет: «Князь... часто вынужден ради сохранения государства поступать против верности, против любви к ближнему, против человечности, против религии»*, то он выражает мысль, что уклонение от милосердия может быть практической необходимостью, но никоим образом не учит, что милосердие есть деградация души. Такое учение – вклад XIX столетия в нравственное воспитание человека.
Современные интеллектуалы иногда утверждают, что, проповедуя отказ от гуманности, они лишь развивают учение некоторых из своих великих предшественников, в частности, Спинозы с его знаменитой «теоремой»: «Сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно»*. Но ведь жалости противополагается здесь не отсутствие гуманности, а гуманность, руководимая разумом, поскольку «лишь по предписанию разума мы можем делать что-либо, что мы достоверно знаем за благо». Желая подчеркнуть, что жалость для него ниже только разумной доброты, Спиноза прибавляет: «Я говорю это, понятно, о человеке, живущем по руководству разума. Ибо тот, кого ни разум, ни сострадание не склоняют подавать помощь другим, справедливо зовется бесчеловечным, так как на человека он явно непохож». – Добавим, что поборники твердости уже не могут ссылаться на неколебимых ревнителей справедливости (Мишле, Прудона, Ренувье). Последние, жертвуя ради справедливости любовью, возможно, в конечном счете приходят к твердости, но не к той торжествующей твердости, которую проповедуют современные реалисты, говоря, и, быть может, не без основания, что только она и продуктивна[272]272
Их твердость явно не имеет ничего общего с той, о которой было прекрасно сказано: «Человек, приверженный справедливости, подчиняет страсть рассудку, что кажется печальным, если сердце его холодно, но представляется возвышенным, если он тоже любит» (Ренувье).
[Закрыть].
Превознесение твердости – одна из тех проповедей современного интеллектуала, которые принесли самые ощутимые плоды. Ни для кого не секрет, что, к примеру, во Франции у подавляющего большинства так называемой мыслящей молодежи твердость сегодня в чести, а человеколюбие, во всех его проявлениях, считается достойным осмеяния. Молодежь эта, как известно, с пиететом относится к доктринам, которые признают только силу и не внемлют голосу страдания, которые провозглашают неизбежность войны и рабства и выражают крайнее презрение к тем, кого не прельщают такие перспективы и кто желает их изменить. Мне бы хотелось, чтобы установили связь между пиететом к подобным доктринам и литературной эстетикой этой молодежи, ее почтением к отдельным современным мастерам – романистам или поэтам, – у которых отсутствие симпатии к человеку достигает редкого совершенства и которых она, без сомнения, и почитает особенно за эту черту. Я бы хотел, чтобы обратили внимание на мрачную важность и самоуверенность, с какою молодежь подписывается под этими «железными» доктринами. Мне кажется, современные интеллектуалы создали в так называемом культурном мире настоящий романтизм суровости.
Они создали также, по крайней мере во Франции (главным образом стараниями Барреса, но по существу начиная с Флобера и Бодлера), романтизм презрения. Однако презрение, думается мне, практиковалось у нас в последнее время по причинам отнюдь не эстетическим. Стало ясно, что презирающий не только получает удовольствие, глядя на кого-то или на что-то свысока, но и, более того, если он достаточно искушен, наносит ущерб презираемому, причиняет ему реальный вред. И действительно, презрение, выказанное Барресом к евреям, или же презрение, вот уже двадцать лет ежеутренне изливаемое идеологами роялизма на демократические институты, по-настоящему повредили своим объектам, по крайней мере во мнении тех довольно многочисленных людей с артистической натурой, для которых высокомерно-властный жест обладает достоинством аргумента. Современные интеллектуалы заслуживают почетного места в истории реализма: они поняли практическую значимость презрения.
Можно сказать, что они создали целую религию жестокости (Ницше, провозгласивший, что «всякая высшая культура состоит из жестокости»; доктрина, открыто излагаемая во многих местах автором книги «О крови, страсти и смерти»*). Однако к культу жестокости – которую также могут счесть необходимой для «свершений»[273]273
Таково мнение Макиавелли (<«Государь»,> гл. XVII); тем не менее он не объявляет жестокость признаком высокой культуры.
[Закрыть], – оказались восприимчивы, во всяком случае во Франции, лишь немногие особо артистические натуры; он не составил школы, как религия твердости или презрения. Этот культ тоже внове под небом Франции, чьи мыслители говорили: «Трусость – мать жестокости» (Монтень)* или же, если процитировать моралиста из военных: «Славу свою герой полагает не в том, чтобы нести чужеземцам голод и разорение, а в том, чтобы самому их терпеть во имя родины, не в том, чтобы сеять смерть, а в том, чтобы смело смотреть ей в глаза» (Вовенарг[274]274
Читаю у одного из героев Первой империи: «Я боялся испытать удовольствие [курсив автора], убив собственной рукою нескольких негодяев [речь идет о немцах, умертвивших французских пленных после Лейпцигского сражения]. Поэтому я вложил саблю свою в ножны и предоставил нашим кавалеристам истребить этих убийц» (Mémoires du général de Marbot, t. III, p. 344). Такое осуждение радости убивать пришлось бы не по нраву многим современным литераторам. Во Франции воинственные инстинкты гораздо реже прославляются людьми армейскими, чем некоторыми тружениками пера. Марбо куда менее кровожаден, чем Баррес.
[Закрыть])*.
4. Преклонение перед успехом, – я подразумеваю учение, по которому осуществившееся намерение заключает в себе некую моральную ценность, тогда как потерпевшее крах по одному этому достойно презрения. Этой философии в политической сфере придерживается большинство современных идеологов – в Германии, можно сказать, все после Гегеля, во Франции многие после де Местра. В частной сфере она столь же популярна и приносит свои плоды: в так называемом мыслящем мире сегодня уже не счесть людей, которые думают, что доказывают свой духовный аристократизм, изъявляя неизменное почтение к тем, кто «добивается успеха», и презрение к напрасным усилиям. Один моралист относит на счет душевного величия Наполеона его пренебрежение к «неудачникам»; другой говорит то же самое о Мазарини, третий – о Вобане, четвертый – о Муссолини. Бесспорно, что интеллектуал проходит здесь прекрасную школу реализма, так как преклонение перед успехом и презрение к неудаче – нравственная позиция, сулящая очевидные преимущества; бесспорно и то, что это учение для него совершенно ново, в особенности для интеллектуала, принадлежащего к латинской расе, т.е. того, чьи предки научили людей уважать достоинство независимо от его плодов, чтить Гектора столько же, сколько и Ахилла, а Куриация – больше, чем его счастливого соперника*, [275]275
«И честь воина и доблесть его в том, чтобы биться, а не в том, чтобы разбить врага» (Монтень)*.
[Закрыть].
Как мы убедились, современные моралисты превозносят человека воюющего, а не человека справедливого и не человека исследующего и опять-таки проповедуют миру преклонение перед практической деятельностью, в противоположность созерцательному существованию. Ницше негодовал на кабинетного человека, ученого – «человека-отражение», – чья единственная страсть – страсть к постижению; он проявлял уважение к жизни духа, лишь поскольку в ней есть волнение, восторг, действие, пристрастность, и насмехался над методичным, «объективным» изысканием, верным той «гнусной карге», что зовется истиной. Сорель подвергал критике общества, которые «отводят привилегированное место любителям чисто интеллектуальных занятий»[276]276
Ch. Sorel. La Ruine du monde antique, р. 76. См. также (Les Illusions du progrès, p. 259) язвительные шутки Сореля касательно мыслителя, считающего преобладание интеллектуальных эмоций признаком высоко развитых обществ. Воспроизводя известное деление Сент-Бёва, можно сказать, что современные мыслители превозносят ум-меч и презирают ум-зеркало; именно первый, по их собственному признанию, они ценят у Ницше, у Сореля, Пеги и Морраса (см.: R. Gillouin. Esquisses littéraires et morales, p. 52). Напомним, что презрение к уму-зеркалу влечет за собой пренебрежение к Аристотелю, Спинозе, Бэкону, Гёте, Ренану.
[Закрыть]. Баррес, Леметр, Брюнетьер тридцать лет назад призывали «интеллектуалов» помнить, что они представляют тип человека, «низший по отношению к военному». Пеги восхищался философами в зависимости от того, «насколько упорно они сражались», Декартом – потому, что он воевал, диалектиками французского монархизма – единственно потому, что они готовы погибнуть за свою идею[277]277
Péguy. Notre jeunesse, sub fine. См. прим. О на с. 231.
[Закрыть]. Мне скажут: все это, как правило, причуды людей пишущих, лирические позы, которым не стоит придавать догматический смысл; Ницше, Барреса, Пеги восстанавливает против жизни исследователя их темперамент поэтов, их отвращение к тому, в чем нет живописности и авантюрного духа, а вовсе не желание принизить беспристрастность. Отвечу так: эти поэты выдают себя за серьезных мыслителей (о чем свидетельствует их тон, исключающий всякую наивность); огромное большинство читателей принимают их за таковых; даже если верно, что уничижение человека исследующего не обусловлено у них стремлением принизить беспристрастность, все равно образ жизни, который они выставляют на посмеяние, – это созерцательная жизнь, а тот, который они проповедуют, – практическая деятельность (во всяком случае, в большей степени практическая, чем деятельность человека исследующего; понятно, что деятельность Дюгеклена или Наполеона более способствует приобретению временных благ, нежели деятельность Спинозы или Мабийона); в исследователе эти мыслители определенно презирают человека, который не учреждает и не завоевывает, не утверждает господство вида над средой, а если и утверждает, как ученый своими открытиями, испытывает от этого лишь радость познания, предоставляя другим их практическое применение. У Ницше презрение к человеку исследующему и возвышение человека воюющего есть только проявление воли, бесспорно, одушевляющей все его творчество, равно как и творчество Сореля, Барреса и Пеги: воли к принижению ценностей познания перед ценностями действия[278]278
Это единственная причина, по которой он превозносит искусство и провозглашает – как и всякий современный моралист – первенство художника над философом. Искусство представляется ему одной из ценностей действия. В то же время нельзя не согласиться с его критиком: «В сущности, Ницше презирал искусство и художников... Он осуждает в искусстве женское начало, подражательство актера, тягу к прикрасам, к блеску... Вспомните пассаж, где Ницше красноречиво хвалит Шекспира, величайшего из поэтов, за то, что тот унизил образ поэта, к которому он относится как к фигляру, перед Цезарем, этим богоподобным человеком» (C. Schuwer, «Revue de Métaphysique et de Morale», avril 1926, p. 201). Для Сореля величие искусства в том, что оно «предвосхищает высокое творение, которое все более и более явственно подготавливается в нашем обществе».
[Закрыть].
Воля эта одушевляет сегодня не только моралиста, но и другого интеллектуала, говорящего о благе более высоком: я хочу обратить внимание читателя на то учение современной метафизики, которое призывает человека не слишком уважительно относиться к собственно мыслящей части своего существа и беспредельно почитать действующее и волевое начало. Известно, что теория познания, из которой вот уже полвека заимствует для себя ценности человечество, не ставит на первое место душу, избирающую ясные и отчетливые идеи, категории, слова; на высшую ступень здесь возведена душа, избавившаяся от этих интеллектуальных привычек и улавливающая в себе «чистое стремление», «чистую волю», «чистое действование». Философия, которая когда-то подводила человека к тому, чтобы он сознавал себя существующим в качестве мыслящего, говорил: «Я мыслю, следовательно, я существую», – теперь подводит его к изречениям «Я действую, следовательно, я существую», «Я мыслю, следовательно, я не существую» (если только не принимать в расчет исключительно мышление в той скромной области, где оно совпадает с действием). Когда-то философия внушала человеку, что душа его божественна постольку, поскольку она подобна душе Пифагора, сопрягающей понятия; сегодня философия объявляет ему, что человеческая душа божественна постольку, поскольку она схожа с душой цыпленка, разбивающего скорлупу[279]279
Bergson. Evolution créatrice, p. 216*. Подлинной формулой бергсонизма было бы: «Я расту, следовательно, я существую». Отметим также склонность современной философии усматривать в практическом характере мышления его сущностную черту, а в самосознании – второстепенную: «Возможно, мышление надо определять скорее через способность подбирать средства для достижения конкретных целей, а не через его уникальное свойство быть ясным для себя самого» (D. Roustan. Leçons de psychologie, p. 73).
[Закрыть]. С самой высокой своей кафедры современный интеллектуал вещает, что человек велик в той мере, в какой он верен практике.
За последние пятьдесят лет, особенно во Франции (см. сочинения Барреса и Бурже), в литературе и общественной мысли сформировалось целое направление, провозглашающее примат инстинкта, бессознательного, интуиции, воли (в немецком смысле слова, т.е. в противопоставлении интеллекту), и провозглашающее его во имя практического разума, ибо не интеллект, а инстинкт знает, какие действия нам необходимо совершить – Индивидууму, Нации, Классу, – чтобы обеспечить себе преимущество. Представители этого направления оживленно обсуждают пример с насекомым, чей «инстинкт», по-видимому, точно знает, в какое место надо поразить жертву, чтобы парализовать ее, не убивая, и таким образом снабдить свежей пищей свое потомство, дабы оно росло и набиралось сил[280]280
Сфекс или аммофила. Этот пример, приведенный в «Творческой эволюции», пользуется огромным успехом и кочует из сочинения в сочинение. (Он, кстати, ошибочен. См.: M. Goldsmith. Psychologie comparée, р. 211.) – Апологию практической ценности инстинкта – где ощущается то же романтическое презрение к рационализму, что и у Барреса, – мы видим уже у Руссо: «...совесть не обманывает никогда... она для души то же, что инстинкт для тела... Современная философия, допускающая лишь то, чему находит объяснение, не желает допускать эту темную способность, называемую инстинктом, которая как бы без всякого ранее приобретенного знания приводит животных к той или иной цели» («Исповедание веры савойского викария»)*.
[Закрыть]. – Другие авторы восстают, во имя «французской традиции», против «варварского» превознесения инстинкта, проповедуют «примат интеллекта», – но проповедуют потому, что, по их мнению, это интеллект определяет действия, которых требует наш интерес, т.е. и они тоже движимы страстью к практическому.
Я хочу подробнее остановиться на учении, согласно которому умственная деятельность достойна уважения лишь в той мере, в какой она является практической. Начиная с греков преобладающим отношением мыслителей к умственной деятельности было восхваление ее за то, что, как и эстетическая деятельность, она находит удовлетворение в себе самой, независимо от выгод, которые из нее можно извлечь; большинство одобрило бы знаменитый гимн математике у Платона, глубоко почитавшего эту дисциплину, так как она представляет собой образец ничего не приносящего умозрения, или же вердикт, вынесенный Ренаном: тот, кто любит науку за ее плоды, совершает величайшее святотатство по отношению к этому божеству[281]281
«Если бы польза, получаемая от чьих-либо занятий, была основанием наших славословий, то изобретатель плуга больше заслуживал бы восхваления за великий ум, чем Архимед, Аристотель, Галилей или г-н Декарт» (Бейль). Фонтенель и Вольтер доказывали полезность некоторых исследований, считавшихся бесполезными; но они никогда не утверждали, что те, кто предавался им, считая их в то же время бесполезными, достойны презрения.
[Закрыть].
Этим своим уважением интеллектуалы показывали мирским на собственном примере, что ценность жизни – в ее бескорыстии, и обуздывали их практические страсти или, по крайней мере, стыдили за них. Современные интеллектуалы решительно разорвали эту хартию; они провозгласили, что интеллектуальная функция внушает почтение лишь постольку, поскольку связана с преследованием конкретной выгоды, и что мышление, безразличное к своим целям, – деятельность, заслуживающая презрения. Одни учат, что высшая форма разума коренится в «жизненном импульсе» и направлена на отыскание того, что оптимально обеспечит наше существование; другие (особенно в области исторической науки[282]282
См. выше.
[Закрыть]) почитают разум, ведóмый политическим интересом[283]283
Или моральным: Баррес клеймит «аморальность» ученого, который показывает долю случайного в истории. – Ср. у Мишле: «Почитание убивает историю».
[Закрыть], и презирают заботу об «объективности»; третьи заявляют, что достопочтенный разум – тот, который в своем функционировании всегда ограничивает себя рамками, полагаемыми национальным интересом и социальным порядком, тогда как разум, который целиком отдается влечению к истине, оставляя безо всякого внимания требования общества, «дик и неотесан» и «позорит высочайшую из человеческих способностей»[284]284
Такова, как известно, главная идея сочинения «Будущее интеллигенции»*. Адепты ее говорят (Manifeste du parti de l’intelligence, «Figaro», 19 juillet 1919; об этом манифесте см. прим. Р на с. 233): «…на протяжении столетий одной из самых очевидных задач церкви было оберегать разум от его же заблуждений»; неопровержимое высказывание, если речь идет только о заблуждениях разума, без мысли о социальном порядке (основой которого предполагалось бы учение церкви). – Эта практическая концепция разума приводит к дефинициям такого рода: «Истинная логика определяет правильное сочетание чувств, образов и знаков, чтобы мы могли выработать концепции, отвечающие нашим нравственным, интеллектуальным и физическим потребностям» (Огюст Конт, одобряемый Моррасом). Сравним с этим традиционное учение корифеев французской мысли: «Логика есть искусство верно направлять разум в познании вещей» («Логика Пор-Рояля»)*.
Твердое намерение уважать разум в зависимости от его практической эффективности чувствуется и в такой вот странной формулировке: «Ценность критического ума состоит в действии, которое он производит благодаря тому, что вносит ясность» (Моррас). Отсюда же суровость г-на Массиса (Massis. Jugements, I, 87) к Ренану, воскликнувшему: «Я ненавижу пользу»; в другом месте (ibid., 107) тот же автор говорит о духовной свободе, что «ее беспристрастность есть только отрицание условий жизни, действия и мышления (!)».
[Закрыть]. Отметим также приверженность нынешних интеллектуалов доктрине (Бергсон, Сорель), утверждающей, что наука имеет чисто утилитарный источник (потребность человека подчинить себе материю; «знать – значит приспосабливаться»), их презрение к прекрасной греческой теории, согласно которой наука возникает из потребности в игре, совершенном образце бескорыстной деятельности. Наконец, они учат людей, что приятие заблуждения, которое им служит («мифа»), делает им честь, а признание истины, которая им вредит, постыдно, что, иными словами (Ницше, Сорель, Баррес говорят это во всеуслышание), восприимчивость к истине самой по себе, безотносительно ко всякой практической цели, есть малозначительная форма духа[285]285
Иногда прибавляют: «и антинаучная», что неопровержимо, когда «научный» становится тождественным «практическому». «Воспитывать детей в религиозной традиции, – говорит г-н Поль Бурже, – значит воспитывать их в научном духе». Весьма справедливые слова, если «в научном духе» означает, как у автора, «в соответствии с национальным интересом».
[Закрыть]. Тут современный интеллектуал оказался поистине гениальным в апологии временного, ведь для временного истина не имеет никакой ценности, вернее, истина для него злейший враг. В нынешних властителях дум возрождается во всей его глубине дух Калликла[286]286
Французские традиционалисты осуждают истину саму по себе пуще всего во имя «социальной» истины; это – восхваление предубеждений, явление совершенно новое у потомков Монтеня и Вольтера. О некоторых французских мэтрах можно сказать, что никогда еще не было столько рвения защищать интересы общества у тех, чья обязанность – отстаивать интересы духа.
Осуждение бескорыстной умственной деятельности достаточно ясно выражено в этом предписании Барреса: «Все вопросы должны решаться по отношению к Франции»; один немецкий мыслитель вторит ему в 1920 г.: «Все завоевания древней и современной культуры и науки мы рассматриваем, прежде всего, с немецкой стороны» (цит. по: Ch. Chabot. Préface de la trad. fr. des «Discours à la nation allemande», p. XIX). – Относительно возвышения полезного заблуждения см. удивительный пассаж из «Сада Береники»*, приведенный и прокомментированный Пароди (Parodi. Traditionalisme et Démocratie, p. 136).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.