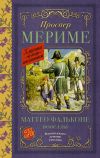Текст книги "Предательство интеллектуалов"

Автор книги: Жюльен Бенда
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
III. Интеллектуалы. Предательство интеллектуалов
Я создал его, дабы он был духовным во плоти своей; а ныне он стал плотским и в самом духе.
Боссюэ. Благочестивые размышления о таинствах, VII, 3
В предыдущих разделах моей книги речь шла только о массах, буржуазных или народных, о королях, министрах и политических руководителях, т.е. о той части рода человеческого, которую я буду называть мирской; все ее предназначение, по существу, состоит в служении временным интересам, и в общем она лишь делает то, чего от нее и следовало ожидать, показывая себя все более реалистической и возводя свой неуклонный реализм в систему.
Наряду с тем человечеством, которое поэт характеризует единой строкой:
вплоть до последних пятидесяти лет распознавалось и другое, существенно отличное от него и в определенной мере его обуздывавшее. Я имею в виду тот класс людей, который я буду здесь называть интеллектуалами, обозначая этим именем всех тех, кто в своей деятельности, по существу, не преследует практических целей и, находя отраду в занятиях искусством, или наукой, или метафизическими изысканиями – словом, в обладании благом не временным, как бы говорит: «Царство мое не от мира сего»*. Действительно, обозревая более чем двухтысячелетний период истории, я вижу протянувшуюся до наших дней непрерывную череду философов, религиозных мыслителей, литераторов, художников, ученых – можно сказать, почти всех, что жили в этот период, – чьи устремления составляют полную противоположность реализму масс. Если говорить конкретно о политических страстях, то интеллектуалы противились им двояко: либо, вовсе отвратившись от этих страстей, они, как Леонардо да Винчи, Мальбранш или Гёте, являли образец совершенно бескорыстной активности ума и внушали веру в высшую ценность такой формы существования; либо, будучи собственно моралистами и наблюдая столкновение человеческих эгоизмов, они, как Эразм Роттердамский, Кант или Ренан, проповедовали под именами гуманности или справедливости некое отвлеченное начало, высшее по отношению к этим страстям и прямо им противоположное. Без сомнения, деятельность интеллектуалов – несмотря на то что они обосновали современное государство, одержавшее верх над индивидуальными эгоизмами, – оставалась преимущественно теоретической; они не воспрепятствовали мирской части человечества наполнить историю распрями и кровопролитиями, но и не позволили ей сделать из ненависти религию и вменить себе в великую заслугу совершенствование разрушительных страстей. Только благодаря таким людям можно сказать, что на протяжении двух тысячелетий человечество творило зло, но поклонялось добру. Это противоречие было гордостью человеческого рода и создавало разлом, сквозь который могла проникнуть цивилизация.
Однако в конце XIX века происходит радикальная перемена: интеллектуалы начинают потворствовать политическим страстям; накидывавшие узду на реализм народов теперь становятся его поощрителями. Этот переворот в духовно-нравственной жизнедеятельности человечества совершается несколькими путями.
1. Интеллектуалы усваивают политические страстиПрежде всего, интеллектуалы усваивают политические страсти. Никто не будет спорить с тем, что сегодня по всей Европе огромное большинство писателей и художников и значительное число ученых, философов, «служителей Божьих» исполняют свою партию в хоре голосов расовой и политической ненависти; еще труднее отрицать, что они усваивают национальные страсти. Несомненно, имена Данте, Петрарки, д'Обинье, какого-нибудь защитника Кабоша или какого-нибудь проповедника Католической лиги достаточно красноречиво говорят о том, что некоторые интеллектуалы и в прежние времена всей душой предавались политическим страстям; но эти «интеллектуалы форума» составляли исключение, по крайней мере среди великих, и если мы приведем множество других имен: Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Галилей, Рабле, Монтень, Декарт, Расин, Паскаль, Лейбниц, Кеплер, Гюйгенс, Ньютон, даже Вольтер, Бюффон, Монтескьё, и проч. и проч., – то, полагаем, мы можем повторить, что до наших дней люди мыслительного склада в целом либо были далеки от политических страстей и говорили вслед за Гёте: «Оставим политику дипломатам и военным», либо – если они принимали эти страсти в соображение (как, например, Вольтер) – относились к ним критически и сами их не испытывали; больше того, можно сказать, что если их и допускали в сердце, подобно Руссо, де Местру, Шатобриану, Ламартину или даже Мишле, то проявляли при этом такую широту чувства, такую приверженность отвлеченным воззрениям, такое пренебрежение сиюминутным, что наименование «страсть» было здесь, собственно, неприменимо. Сегодня достаточно назвать Моммзена, Трейчке, Оствальда, Брюнетьера, Барреса, Леметра, Пеги, Морраса, Д’Аннунцио, Киплинга, чтобы стало ясно: интеллектуалы переживают политические страсти со всеми отличительными чертами страстей: жаждой действия, желанием получить немедленный результат, заботой единственно о достижении цели, невниманием к аргументации, крайностями, ненавистью, навязчивыми идеями. Современный интеллектуал уже не уступает государственное поприще человеку мирскому; в нем проснулась душа гражданина, и он заставляет ее трудиться изо всех сил; он горд этой душой; его литература полна презрения к тому, кто замыкается в сфере искусства или науки и не разделяет страсти, кипящие в государстве[168]168
В частности, к Ренану и его «умозрительному имморализму» (H. Massis. Jugements, I).
[Закрыть]; в споре между Микеланджело, стыдившим Леонардо да Винчи за равнодушие к бедствиям Флоренции, и создателем «Тайной вечери», отвечавшим, что сердце его без остатка отдано изучению красоты, он решительно становится на сторону первого. Давно миновали времена, когда Платон предлагал сковывать философа цепями, чтобы принудить его заботиться о государстве. Тот, кто призван стремиться к вечному, думает, что возвышает себя гражданскими делами, – вот каков современный интеллектуал. – Что подверженность интеллектуала страстям людей мирских усиливает страсти, присущие этим последним, естественно и очевидно. Во-первых, у них перед глазами теперь уже нет тех людей особой породы, интересы которых простираются за пределы практического мира. Во-вторых (и это главное), интеллектуал, усваивая политические страсти, вносит в их развитие огромный вклад благодаря утонченности своих чувств, если он художник, благодаря своей способности убеждать, если он мыслитель, и в обоих случаях – благодаря своему нравственному авторитету[169]169
Об этом авторитете и о том, что в нем исторически ново, см. прим. Е на с. 217.
[Закрыть].
Прежде чем продолжать, думаю, мне следует уточнить кое-какие детали.
1. Я говорю о мыслящих людях прошлого как о некоем целом. И когда я утверждаю, что прежние интеллектуалы противились мирскому реализму, а нынешние служат ему, я рассматриваю каждую из этих двух групп в целом, изображая ее крупным планом; я противопоставляю один общий признак другому общему признаку. Поэтому я отнюдь не считал бы себя опровергнутым, если бы кто-нибудь из читателей указал мне на то, что в первой группе такой-то был реалистом, а во второй такой-то им не является, – коль скоро этот читатель согласился бы со мной, что в целом каждая группа обладает именно тем признаком, который я отметил. Точно так же если я говорю об отдельном интеллектуале, то о творчестве его сужу по основному признаку – по его концепциям; этот признак доминирует над всеми остальными, даже если они иногда противоречат доминанте. И значит, я не должен отказываться от своего представления о Мальбранше как о предшественнике либерализма, оттого что некоторые строки его «Трактата о морали» похожи на оправдание рабства, или от своего представления о Ницше как о моралисте, проповедующем войну, оттого что в конце «Заратустры» содержится манифест братства, восходящий к Евангелию. Это тем более правомерно, что Мальбранш в качестве защитника рабства или Ницше в качестве гуманиста не оказали на меня ни малейшего влияния, а пишу я о том, какое влияние оказали интеллектуалы на общество, а не о том, чем они были сами по себе.
2. Многие нам возразят: как вы можете причислять к интеллектуалам и упрекать в забвении духа этого сословия таких людей, как, например, Баррес или Пеги? Ведь они, несомненно, являются людьми действия, чья политическая мысль со всей очевидностью занята потребностями текущего момента, стимулируется единственно вопросами, стоящими на повестке дня; первый даже и взгляды свои выразил, за редким исключением, в газетных статьях. Отвечаю: их политическая мысль, которая и в самом деле есть только форма непосредственного действия, выставляется ими как продукт в высшей степени умозрительной интеллектуальной активности, как плод подлинно философских размышлений. Никогда ни Баррес, ни Пеги не согласились бы, чтобы их, даже читая их полемические сочинения, принимали всего лишь за полемистов[170]170
В 1891 году Баррес писал главному редактору журнала «La Plume»: «Если эти книги чего-то стоят, то только благодаря заключенной в них логике, благодаря проявляемой в них на протяжении пяти лет последовательности» («эти книги» содержат его буланжистскую пропаганду*); а в предисловии к своему сборнику статей «Сцены и доктрины национализма» («Scènes et Doctrines du nationalisme») он заметил: «Я надеюсь, что при более широком взгляде Думик найдет в моем творчестве не противоречия, а развитие мысли».
[Закрыть]. Эти люди, на самом деле к интеллектуалам не принадлежащие, выдают себя за интеллектуалов и почитаются таковыми (Баррес умело изображал из себя мыслителя, удостоившего вступить в борьбу), и именно в этом качестве они пользуются особым авторитетом у людей действия. Тема нашего исследования – интеллектуал, но не постольку, поскольку он является им, а поскольку он им считается и соответственно этой репутации влияет на мир.
Таким же будет и мой ответ относительно Морраса и других назидателей из «Action française», о которых мне тоже скажут, что они – люди действия и непозволительно ссылаться на них как на интеллектуалов. Эти люди притязают на то, что их деятельность развертывается на основе доктрины, подытоживающей совершенно объективное исследование истории, работу чистого научного разума; и именно этому притязанию ученых, людей, сражающихся за истину, найденную в тиши лаборатории, именно этой позиции хотя и воинствующих, но все же интеллектуалов они обязаны особым вниманием к себе со стороны людей действия.
3. Наконец, я хотел бы объясниться еще по одному вопросу. Мне думается, что, вмешиваясь в общественные конфликты, интеллектуал изменяет своему предназначению, только если он, подобно названным мною публицистам, вступает в борьбу ради того, чтобы восторжествовала реалистическая страсть класса, расы или нации. Когда Жерсон взошел на кафедру собора Нотр-Дам, чтобы заклеймить убийц Людовика Орлеанского*; когда Спиноза, рискуя жизнью, написал на дверях подстрекателей к убийству де Виттов: «Ultimi barbarorum»*; когда Вольтер боролся за Каласа; когда Золя и Дюкло принимали участие в знаменитом процессе*, – эти интеллектуалы в самом высоком смысле исполняли миссию интеллектуалов; они служили отвлеченной справедливости и не пятнали себя страстью к чему-либо мирскому[171]171
Мне укажут на интеллектуалов, которые, не уронив своего достоинства, встали на защиту какой-то расы, какой-то нации, и даже своей расы, своей нации. Но дело в том, что защищать эту расу или эту нацию означало для них тогда защищать отвлеченную справедливость.
[Закрыть]. Впрочем, существует надежный критерий того, совместима ли публичная деятельность интеллектуала с его призванием: мирское окружение, интересы которого он нарушает, незамедлительно обрекает его на бесчестье (Сократ, Иисус). Можно сказать наперед, что интеллектуал, снискавший похвалу мирской части общества, не верен своему предназначению. Но вернемся к подверженности современных интеллектуалов политическим страстям.
Новой, и притом чреватой последствиями, представляется мне их подверженность национальной страсти. Конечно же, человечеству не пришлось дожидаться нашего времени, чтобы интеллектуалы изведали эту страсть. Не говоря о поэтах, веками воздыхавших благолепным хором:
и не углубляясь в Античность, когда философы – до стоиков – все были рьяными патриотами, замечу, что в истории после наступления христианской эры задолго до наших дней встречались писатели, ученые, художники, моралисты и даже служители «всеобщей» церкви, более или менее отчетливо выражавшие особую привязанность к той группе, к которой они принадлежали. Но у них это чувство имело опору в разуме; они не теряли способности судить свою нацию, громко заявлять о ее неправоте, если считали ее неправой. Напомню, что Фенелон и Массийон порицали некоторые войны Людовика XIV; Вольтер осуждал опустошение Пфальца, Ренан – насилия Наполеона, Бокль – нетерпимость Англии к Французской революции; Ницше признавал недопустимыми грубые действия Германии в отношении Франции[173]173
Такие побуждения мы находим даже у древних; например Цицерон стыдил сограждан за то, что они разрушили Коринф, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное их послу (De off., I, xi)*.
[Закрыть]. Это только в наше время люди мыслящие или называющие себя таковыми хвалятся тем, что над их патриотизмом рассудок не властен, провозглашают: «Пусть даже отечество неправо, надо быть с ним заодно» (Баррес), объявляют изменниками нации своих соотечественников, желающих сохранить за собой духовную свободу или, по крайней мере, свободу слова. Во Франции не забыли, каким нападкам многие «мыслители» подвергали во время последней войны Ренана за его свободные суждения об истории своей страны[174]174
Уже в 1911 году французский автор, приведя фразу: «Невозможно допустить, чтобы человечество на веки вечные было связано брачными союзами, битвами, мирными договорами ограниченных, невежественных, эгоистичных существ, которые в Средние века вершили дела в этом дольнем мире», – счел необходимым добавить: «Счастье, что строки эти написал Ренан; сегодня написавшего такое обвинили бы, что он плохой француз» (G. Guy-Grand. La Philosophie nationaliste, р. 165). Обвинили бы люди мыслящие – вот что интересно.
[Закрыть]. Незадолго до этого целая плеяда молодых людей[175]175
В том числе А. Массис.
[Закрыть], считающих себя сопричастными жизни духа, взбунтовалась против одного из своих идейных наставников (Жакоба), который учил их патриотизму, не исключающему права на критику. Можно смело утверждать, что слова, сказанные немецким ученым в октябре 1914 года, после вторжения в Бельгию и других беззаконий германской нации: «Мы не должны ни в чем оправдываться»[176]176
Цитируется монсеньором Шапоном в превосходной статье «La France et l’Allemagne devant la doctrine chrétienne» («Correspondant», 15 août 1915).
[Закрыть], были бы сказаны большинством тогдашних духовных вождей, если бы их страна находилась в аналогичных обстоятельствах, – Барресом во Франции, Д’Аннунцио в Италии, Киплингом в Англии (судя по его поведению в годы англо-бурской войны), Уильямом Джемсом в Америке (вспомним, как он расценивал оккупацию Кубы Соединенными Штатами)[177]177
См. его «Письма» (Lettres, II, p. 31).
[Закрыть]. Впрочем, я готов признать, что именно этот слепой патриотизм делает нации сильными. Патриотизм Фенелона или Ренана – не тот, что укрепляет империи. Остается решить, призваны ли интеллектуалы укреплять империи.
Подверженность интеллектуалов национальной страсти особенно примечательна у тех, кого я назвал бы духовными людьми по преимуществу, т.е. у священнослужителей. Значительное большинство этих людей во всех странах Европы в продолжение полувека уже испытывает национальное чувство[178]178
Вдумаемся, с какой легкостью духовенство сегодня идет на военную службу. См. прим. F на с. 219.
[Закрыть]и, следовательно, перестало являть миру пример сердец, безраздельно принадлежащих Богу. Мало того, духовные лица, похоже, предаются этому чувству с такой же страстью, как и писатели, и тоже поддерживают свои государства в их бесспорно неправедных деяниях. Мы ясно увидели это во время последней войны, когда у немецкого духовенства не вырвалось ни слова протеста против творимых германской нацией бесчинств, – молчание его, конечно, было вызвано не только осторожностью[179]179
Один немецкий католик объяснил эту позицию своих единоверцев несколькими причинами: «1) отсутствие у них достаточного знания фактов и слабая осведомленность об общественном мнении в воюющих и нейтральных странах; 2) их патриотизм, не позволяющий им подрывать единство немецкого народа; 3) боязнь второго культуркампфа, который был бы вдвойне опасен, если бы немецкие католики дали понять, что они согласны с развернутой во Франции кампанией против германского способа ведения войны» (Письмо, опубликованное в «Le Figaro» за 17 октября 1915 года). Выделим вторую причину: стремление солидаризоваться с нацией независимо от нравственной стороны дела. Вот по крайней мере один довод, которого не приводил Боссюэ, когда оправдывал жестокости Людовика XIV.
Напомним, что, когда в 1914 году канцлер Бетман-Гольвег вынес на рассмотрение рейхстага нечто вроде извинения за нарушение нейтралитета Бельгии, христианский теолог фон Гарнак резко осудил его: канцлер хотел извиниться за то, что не нуждается в извинении (см.: A. Loisy. Guerre et Religion, p. 14).
[Закрыть]. Совсем не так вели себя испанские теологи XVI века Бартоломе де Лас Касас и Витория, известные своим неустанным обличением жестокости конкистадоров, их соотечественников, к индейским племенам; я не утверждаю, что это побуждение было тогда показательным для служителей церкви, я только спрашиваю, есть ли сегодня хоть одна страна, где они испытывали бы такое побуждение, где они хотя бы желали, чтобы им позволили его испытывать?[180]180
Церковнослужители наций-союзниц осыпают немецкое духовенство упреками за то, что в 1914 году оно солидаризовалось с несправедливостью, – еще бы, ведь им-то посчастливилось принадлежать к нациям, сражающимся за правое дело. Но когда в 1923 году, в вопросе о Корфу*, Италия заняла по отношению к Греции столь же несправедливую позицию, как и Австрия в 1914 году по отношению к Сербии, итальянское духовенство, насколько я знаю, вовсе не было возмущено. Не помню и такого, чтобы в 1900 году, во время вторжения европейских армий в Китай (в разгар боксерского восстания) и бесчинств, совершаемых солдатами, духовенство их наций бурно выражало протест.
[Закрыть]
Отмечу еще одну черту патриотизма, свойственного современному интеллектуалу: ксенофобию. Ненависть к «человеку со стороны» (чужаку), неприятие его, презрение к тому, что «не мое». Все эти чувства, постоянные у народов и, вероятно, необходимые для их существования, усвоили в наши дни так называемые мыслящие люди и до того серьезно, без тени наивности претворяют в поступки, что это усвоение тем более достойно упоминания. Известно, с какой систематичностью сообщество немецких ученых вот уже пятьдесят лет провозглашает упадок всякой цивилизации, исключая созданную германской расой, и как в недавнем прошлом во Франции поклонники Ницше или Вагнера и даже Канта или Гёте третировались французами, претендовавшими на участие в духовной жизни[181]181
Особенно примечательной была позиция философа Бутру. Ее осуждение и опровержение мы найдем у Ш. Андлера (Ch. Andler. Les Origines du pangermanisme, р. VIII).
[Закрыть]. Насколько эта форма патриотизма нова у людей мыслящих, в особенности во Франции, убеждаешься, когда подумаешь о Ламартине, Викторе Гюго, Мишле, Прудоне, Ренане, – если сослаться на интеллектуалов-патриотов эпохи, непосредственно предшествующей интересующему нас периоду. Надо ли говорить, насколько и тут оживили страсть мирских усвоившие ее интеллектуалы?
Нам растолкуют, что наблюдавшееся в последние полвека, и особенно в пять предвоенных лет, отношение других государств к нашей стране требовало от французов, которые хотели защитить свою нацию, величайшей национальной пристрастности и лишь те, кто поддался этому фанатизму, были подлинными патриотами. Мы не утверждаем обратное. Мы только говорим, что интеллектуалы, впавшие в такой фанатизм, изменили своему предназначению, ибо оно заключается в том, чтобы в противовес несправедливости, на которую обрекает народы поклонение земному, составлять корпорацию, поддерживающую единственный культ – культ истины и справедливости. Правда, эти новые интеллектуалы заявляют, что им неведомо, что такое справедливость, истина или другие «метафизические туманности»; что для них истинное определяется полезным, а справедливое – обстоятельствами. Все это высказывал еще Калликл, с тем, однако, различием, что он возбуждал негодование влиятельных мыслителей своей эпохи.
Следует признать, что в расположенности современного интеллектуала к патриотическому фанатизму первенство закрепилось за немецкими интеллектуалами. В то время, когда Лессинг, Шлегель, Фихте, Гёррес уже настраивались на безоглядное преклонение перед «всем немецким» и пренебрежение ко всему иноземному, французские интеллектуалы еще одухотворялись непреложной справедливостью к зарубежным культурам (недаром же романтики отличались космополитизмом), и это продолжалось долгие годы. Интеллектуал-националист – по существу, немецкое новоприобретение. Впрочем, мы нередко будем возвращаться к этой теме: моральные и политические позиции, занимаемые в последние пятьдесят лет европейскими интеллектуалами, имеют по большей части немецкое происхождение, и в духовной сфере Германия сейчас одержала в мире полную победу[182]182
Сегодняшняя действительность дает еще больше оснований для такого утверждения. Признанные учители наших поэтов (сюрреалистов) – Новалис и Гёльдерлин; наши философы (экзистенциалисты) объявляют себя приверженцами Гуссерля и Хайдеггера; триумф ницшеанства стал подлинно мировым. (Прим. в изд. 1946 г.)
[Закрыть].
Можно сказать, что Германия, создав у себя интеллектуала-националиста и в результате получив наглядное прибавление силы, сделала этот тип необходимым и во всех других странах. В частности, неоспоримо, что Франция, как только Германия сформировала своих Моммзенов, обязана была сформировать своих Барресов, чтобы не уступать в национальном фанатизме и не ставить под угрозу собственное существование. Всякий француз, стремящийся поддержать свою нацию, должен радоваться при мысли, что за полстолетия Франция выработала литературу, националистическую до фанатизма. Но лучше бы, возвышаясь на какое-то время над своим интересом и соблюдая тем самым достоинство своей расы, французы печалились о том, что ход событий принуждает их радоваться подобным вещам.
В общем, можно считать, что реалистическая позиция была навязана современным интеллектуалам, особенно французским, внешними и внутренними политическими условиями, в которых оказались их нации. При всей важности этого факта, мы нашли бы его не столь важным, если бы видели, что интеллектуалы сожалеют о нем, чувствуют, насколько он умаляет их значимость, какую угрозу несет цивилизации, сколь обезображивает мир. Но как раз этого-то мы и не наблюдаем. Мы видим, что они, наоборот, с удовольствием погружаются в реализм; они полагают, что националистический пыл возвеличивает их, служит цивилизации, украшает человечество. И ясно, что суть этого явления – не просто трудность исполнения определенной функции в связи с текущими событиями, а крушение нравственных понятий у тех, кто призван воспитывать общество.
Я хотел бы отметить в патриотизме современных интеллектуалов еще две черты, которые представляются мне новыми и из которых вторая весьма оживляет эту страсть у народов.
Первая черта лучше всего раскрывается по контрасту с несколькими строками писателя XV века*, тем более примечательными, что автор их на деле доказал глубину своей любви к родине: «Все города, – говорит Гвиччардини, – все государства, все царства смертны; всему сущему, будь то по самой его природе или по стечению обстоятельств, рано или поздно приходит конец. Поэтому гражданин, переживающий конец своего отечества, не может скорбеть о его несчастье так же, как о собственной близкой погибели; отечество постигла участь, которая неминуемо должна была его постичь; невзгоды всецело падают на того, кому досталась мрачная доля родиться во времена, когда должно было произойти такое бедствие». Я спрашиваю себя, есть ли среди современных мыслителей хоть один, кто, будучи так же предан отчизне, как автор этого отрывка, осмелился бы составить о ней, а тем более высказать подобное суждение, поразительно свободное в своей печали. Кроме того, мы затрагиваем тут одно из главных проявлений неблагочестия современных людей: нежелание верить, что существует развитие высшего порядка, в которое их нации будут вовлечены, как и всё кругом. Древние, восторженно почитая свои города, принижали их, однако, перед Судьбою. Античный город надеялся на божественное покровительство, но не мнил себя божественным и с необходимостью вечным. Вся литература древних показывает, насколько недолговечными считали они свои государственные установления, созданные единственно по милости богов, чье благоволение бывает переменчивым[183]183
Это прекрасно выражает хор в трагедии «Семеро против Фив»:
О милые божества,
О города стражи, кра`я оплот,
Будьте верными в дружбе!
Вы пожалейте город родной,
Храмы жалея свои!*
Так и в написанной пять веков спустя «Энеиде» спасение рода троянцев наперекор бушующей морской стихии и сохранение их государства недвусмысленно связывается лишь с покровительством богов, а отнюдь не с каким-то внутренним свойством троянской крови, обеспечивающим вечность рода.
[Закрыть]. Фукидид допускает, что когда-нибудь Афины исчезнут с лица земли; у Полибия победитель Карфагена, глядя на охваченный огнем город, размышляет о судьбе Рима и восклицает:
Будет некогда день, и погибнет священная Троя*;
Вергилий воспевает земледельца, которого не тревожат
Это только наши современники – стараниями интеллектуалов – превращают государство в башню, бросающую вызов небесам.
Другая новая черта в патриотизме современных интеллектуалов – их стремление соединить свой духовный строй с некой национальной духовной формой, которую они, естественно, противопоставляют иным национальным духовным формам. Известно, сколько ученых по обе стороны Рейна в последние пятьдесят лет утверждают свою мысль во имя французской либо немецкой науки; как жаждут многие наши писатели ощутить в себе французскую чувствительность, французский ум, французскую философию. Одни заявляют, что воплощают арийскую мысль, арийскую живопись, арийскую музыку, другие открывают, что у такого-то ученого, писателя или деятеля искусства бабушка была еврейкой, и чтят в нем семитский гений. Здесь мы не исследуем, несет ли на себе духовное достояние ученого или художника печать его национальности или расы и если да, то в какой степени; мы лишь констатируем желание современных интеллектуалов, чтобы это было так, и подчеркиваем, насколько ново такое желание. Расин и Лабрюйер не думали представлять свои сочинения ни себе самим, ни миру как проявления французской души, Гёте и Винкельман не помышляли вменять свои произведения германскому гению[185]185
Хотя и в этом отношении немцы, очевидно, были новооткрывателями обличаемой нами страсти. Лессинг и Шлегель, очевидно, первыми провозгласили творчество немецких поэтов выражением национальной души (не приемля универсализм французской литературы). – Поэты французской Плеяды, на которых часть наших читателей непременно укажет нам как на опровергающий пример, прибегли к национальному способу выражения своих чувствований, к национальному языку*; но они никогда не стремились придать самому строю этих чувствований национальный характер, противопоставить его образу чувствований других наций. Последовательная «национализация» духа – явление новейшего времени. – В среде ученых такой «национализации», несомненно, способствовало исчезновение латыни как научного языка – утрата, о которой мы могли бы долго говорить, каким тормозом она стала для цивилизации.
[Закрыть]. Тут есть весьма примечательный факт, касающийся в особенности художников. Любопытно, что люди, можно сказать, профессионально занятые утверждением индивидуальности и сто лет тому назад обретшие в романтизме ясное сознание этой истины, сегодня в некотором смысле отрешаются от столь привычного для них сознания и хотят ощущать себя выражением общего бытия, проявлением коллективной души. Правда, самоотречением индивидуума ради «великого безличного и вечного Целого» удовлетворяется другой романтизм; это побуждение художника может объясняться, кроме того, желанием – которого Баррес, например, вовсе не скрывает – умножить наслаждение самим собой, ибо сознание индивидуального «я» десятикратно углубляется сознанием «я» национального (в этом втором сознании художник черпает и новые лирические темы). Таким образом, можно допустить, что художник не глух к собственному интересу, когда объявляет себя выражением гения нации и призывает целую расу рукоплескать себе самой, а не произведению, которое он ей дарит[186]186
Таков был, по мнению Ницше, случай Вагнера, который выступил перед соотечественниками в роли мессии немецкого искусства, заприметив тут «свободное местечко», между тем как весь его артистический склад и его глубинная философия были, в сущности, универсалистскими. (См.: F. Nietzsche. Ecce homo, p. 58: «Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он снизошел к немцам»*.) Разве не могли бы мы сказать нечто подобное о каком-нибудь ревнителе лотарингского или провансальского гения?
[Закрыть]. Нет надобности говорить, что, относя по тем или иным причинам личное свое достоинство на счет своей нации – и, как известно, широко об этом вещая, – великие или будто бы великие умы обманывали ожидания, если не льстили самолюбию народов и не давали пищу высокомерию, с каким каждый народ демонстрирует перед соседями свое превосходство[187]187
«Национализация» духа порой приводит к результатам, которых еще не успели осмыслить. В 1904 году на празднование 600-летия со дня рождения Петрарки не пригласили нации Гёте и Шекспира, как нелатинские; зато позвали румын. Мы не знаем, получил ли приглашение Уругвай.
[Закрыть].
Чтобы читатель в полной мере уяснил новизну позиции современного интеллектуала, приведу высказывание Ренана, под которым подписались бы все мыслящие люди со времен Сократа: «Человек не принадлежит ни своему языку, ни своей расе; он принадлежит лишь себе самому, ибо это существо свободное, т.е. существо нравственное». На что Баррес отвечает под овации единомышленников: «Вот что нравственно: не желать быть свободным от своей расы». Этого очевидного возвеличения стадного инстинкта народы не сумели распознать у священнослужителей духа.
Нынешние интеллектуалы, более того, заявляют, что их творчество может быть успешным и приносить добрые плоды, только если они не покидают родной почвы, «не утрачивают корней». Приветствуется, что один трудится в своем Беарне, другой – в своем Берри, третий – в своей Бретани. И этот закон возглашают не только для поэтов, но и для критиков, моралистов, философов, людей чисто интеллектуальной деятельности. Дух, объявляемый правым постольку, поскольку он не хочет освобождаться от земли, – вот что обеспечивает современным интеллектуалам видное место в анналах духовной истории. Взгляды этого класса определенно изменились с того времени, когда Плутарх назидательно писал: «Человек не растение, созданное, чтобы пребывать неподвижным, и пускающее корни в землю, где оно рождено», а ученик Сократа Антисфен говорил своим собратьям, гордившимся тем, что они – автохтоны*, что такая честь выпала им наравне с улитками и саранчой.
Думаю, понятно, что желание интеллектуала ощущать себя детерминированным своей расой, быть привязанным к своей почве я обличаю лишь в той мере, в какой оно является у него политической позицией, националистическим вызовом. Наилучшим пояснением этой оговорки послужит совершенно незатронутый политической страстью гимн одного из современных интеллектуалов «своей земле и своим пращурам»:
«И, вторя ему, старый дуб, под которым я сижу, говорит мне:
– Читай, читай под моей сенью старинные песни, припевы которых сливались когда-то с шелестом моей листвы. В этих песнях, еще более древних, чем я сам, живет душа твоих предков. Познай их, безвестных, раздели с ними былые их радости и горести. И тогда, мгновенный человек, ты за короткие годы сумеешь прожить века. Благоговейно чти землю отчизны. Взяв щепоть ее в руки, помни, что она священна. Люби своих прадедов, чей прах, смешавшись с этой землей, вскормил меня, чей дух вселился в тебя, их Вениамина. Дитя лучших дней, не упрекай их ни в невежестве, ни в робости мысли, ни в тех суеверных страхах, которые подчас делали их жестокими. Ведь с таким же правом ты мог бы упрекать и себя за то, что был ребенком. Знай: они трудились, страдали и надеялись на тебя, и ты им обязан всем!»[188]188
Anatole France. La Vie littéraire, t. II, p. 274*. – Стремления, которые я отмечаю здесь у французских писателей, имели много других следствий, помимо политических. Не перечесть, сколькие из них в истекшие пять десятилетий исковеркали свой талант, не поняли своих истинных дарований, озабоченные тем, чтобы чувствовать «по-французски». Наглядный пример – «Путешествие в Спарту»*, многие страницы которого показывают, какое это было бы прекрасное произведение, если бы автор не принуждал себя чувствовать под греческим небом так, как подобает человеку с лотарингской душой. Тут мы затрагиваем любопытнейшую черту писателей нашего времени: воспрещение духовной свободы для себя самих, жажду «дисциплины» (именно отсюда – успех г-д Морраса и Маритена); у большинства эта жажда – следствие глубокого интеллектуального нигилизма, который с отчаянием утопающего цепко хватается за какое-то убеждение. (Об этом нигилизме у Барреса см.: Curtius. Barrès et les fondements intellectuels du nationalisme français, отрывки в «Union pour la vérité», mai 1925; о нигилизме Морраса см.: Guy-Grand. Op. cit., р. 19; L. Dimier. Vingt Ans d’Action française, р. 330: «Никогда не встречал я души, более опустошенной».) Но психология современных писателей сама по себе, безотносительно к их политической деятельности, – не наша тема.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.