Текст книги "Нулевой том (сборник)"
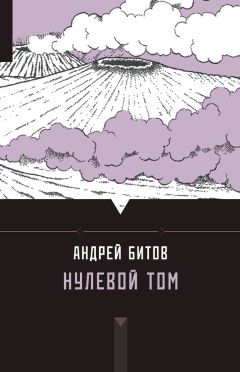
Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
«Ничего, ничего… – говорил себе Кирилл. – Все будет ничего. Буду как все. Так надо. Хорошо быть со всеми. Может, в Ленинграде было бы не так, но здесь это просто свинство – не пойти. Просто – так нельзя. Да я кончусь как человек, если не пойду!.. А может, и так не возьмут?.. Ну, тогда это будет хоть честно. А хорошо бы… Да, неплохо. Но глотать, вдыхать… порох, сахар, керосин, сера – ужас! Идиотизм. Глотать аспирин!..»
Сладко-кисловатый вкус и ощущение порошка на языке – все это моментально вернулось. Бр-р-р!
Какая гадость! Обманывать, хитрить, выгадывать… Жрать для этого какую-то пакость… Нет, не могу. Ведь я же здоровый человек! Нормальный. Что я мечусь? Почему я должен делать что-то противоестественное? Даже тело мое умнее и последовательней меня… И, собственно, для чего все это? Все делают свое дело. Есть общий порядок вещей. Порядок всех и для всех. Надо – со всеми. Так лучше. Чище. Да и проще, пожалуй. Во всяком случае, так все впереди. Буду иметь на все законное право. Как все. Да, три года. Но их же тоже можно пожить как следует! И почему я могу думать, какое имею право, что какие-то обстоятельства у меня особые? Их и нет… Вот если так получится, что освободят… хорошо.
С такими мыслями Кирилл шел к военкомату. Такими мыслями приводил себя в порядок. Шел он сразу после ночной смены, уставший, невыспавшийся. Его знобило. Даже трясло. И скорее от возбуждения, чем от холода.
Это было даже неприлично, как его трясло…
…По вестибюлю военкомата разгуливали парни, стриженные наголо. Ходили они поодиночке. И посматривали друг на друга исподлобья, не то чтобы недружелюбно, но как-то без особого желания знакомства. Их будто что-то расталкивало, этих парней. Проходя через вестибюль, Кирилл чувствовал, что отличается от них чем-то, что есть у него какое-то преимущество перед ними, но точно он не знал какое. Да и не думал об этом. Только удивился немного: чего это они так поспешили постричься?
Кирилл подошел к дежурному офицеру, молоденькому лейтенанту, протянул повестку. Офицер повестку взял, почему-то рассматривал ее пристально и серьезно, словно это было бог весть что, и, бросив короткий взгляд на Кирилла, сказал:
– А вы почему не постриглись?
– Как? – удивился Кирилл, машинально проводя по голове каким-то жалким движением руки. – Зачем?
– Так что же, – сказал офицер, – может, общий порядок не для вас?
– Так ведь еще рано… Это ведь перед отправкой… – мямлил Кирилл.
– Вот что, я с вами дискуссий разводить не намерен. Идите и постригитесь. Иначе не возвращайтесь.
– С чего это я буду стричься! – пытался возражать Кирилл, стараясь унять дрожь обиды в голосе. – Может, я больной и меня не возьмут?
– Возьмут-возьмут. Уж это точно. Такого орла, да не взять! – говорил офицер с эдаким придуманно-ласковым пониманием во взгляде. И потом прибавил с такой же придуманной простоватой грубостью: – А ну, марш стричься!
– Не пойду. Нет такого закона, чтобы перед комиссией стричься.
– Ах, вот как! – Офицер встал и сделал два шага к пухлой клеенчатой двери райвоенкома. – Не хотите подчиняться общему порядку? – Он говорил это как-то заведомо спокойно, подчеркнуто растягивая слова. – Ну что, сами пойдете, или я доложу? – При этом он взглянул на подушкообразную дверь особым взглядом.
Кирилл молчал.
– Смотрите, смотрите… – сказал офицер, покачивая головой, как бы жалея Кирилла, и сделал еще шаг.
В Кирилле вдруг что-то сникло. Завяло. В голове, внезапно опустевшей, прыгали, мешались чужие, тыщу раз слышанные, довольно глупые слова: «Не плюй против ветра» и «Снявши голову…».
Кирилл повернулся и направился к выходу. Парни-одиночки, остановившиеся в своем хождении и наблюдавшие сцену, удовлетворенно ржали. И тогда, уже в дверях, Кирилл охрабрел.
– На пушку берет! Видали… – сказал он как можно громче и грубее подвернувшиеся неведомо откуда тоже чужие и тоже глупые слова.
Говоря это, он был уже за порогом. Дверь, снабженная мощной пружиной, наддала ему в спину. Все противно встряхнулось в Кирилле от толчка…
– Наголо?
– Наголо.
– Совсем наголо?
– Да.
– Совсем-совсем?
– Да! – чуть не заорал Кирилл. Не хватало еще этой пытки!
– Военкомат?
– Да.
После этого «да» парикмахер, до того медливший, вдруг подпрыгнул к Кириллу и в мгновение ока выстриг машинкой широкую полосу с затылка на лоб.
Кирилл, оцепенев, смотрел в зеркало. Ему было и унизительно и обидно. Но смешно было тоже. Ну и рожа!.. Проборчик…
Вот бы сейчас встать и прийти в таком виде в военкомат… С эдакой полосой на голове! Посмотрел бы я на этого…
Но, пока он так думал, парикмахер уже обработал все, что оставалось слева от полосы. Теперь волосы нелепо торчали только с правой стороны.
«Так еще лучше!» – успел подумать Кирилл, и парикмахер, с движениями фокусника, не оставил уже на голове ничего.
Голова у Кирилла оказывается круглой, как бильярдный шар.
Кирилл с удивлением смотрел на себя в зеркало, так же исподлобья, как те парни в приемной. У него, у Кирилла, было довольно-таки тупое выражение.
А парикмахер, верткий парень, не старше Кирилла, примечательно волосатый, казалось, уже вовсе для проформы проходился машинкой по круглой Кирюхиной голове. Словно гладил. Словно старался. И это тоже выглядело глуповато. И Кириллу показалось, что тот нарочно, нарочно подчеркивает каждым движением свое превосходство, свою примечательную волосатость и свою свободу. «Этого-то не возьмут…» – с досадой приценивался Кирилл к длинной бесплечей фигуре парикмахера. Вдруг парикмахер, прикоснувшись нежно машинкой к голове, словно подровняв последнюю волосинку, сдернул с Кирюхиной шеи салфетку, взмахнул ею…
– Готово!
И тут же, словно спохватившись, извинился каким-то мелким бесом и сказал, давясь (а глаза так и бегали, так и бегали!):
– Может, подушить?..
Кирилл резко встал, и кресло, проскрежетав, отъехало в сторону.
– Сейчас я тебя подушу!.. – сказал он, по-бараньи наклонив гладкую голову. – Ни дышать, ни обонять не захочешь…
– Ну, что вы, что вы… – игриво сказал вертлявый парикмахер, сделав какие-то легкие па влево и вправо.
Выходя из парикмахерской, Кирилл еще раз взглянул на себя в зеркало. «Точно такой же…» – подумал он, вспомнив тех парней в приемной.
Парикмахерская и парикмахер его как-то раззадорили и отвлекли. И возвращался он в военкомат бодро, какой-то живительно-злой.
«Ничего, – говорил он себе, – ничего… У меня хоть волосы темные… А у белобрысых – так совсем лысина…»
Подходя к военкомату, он представил, как сейчас этот офицер увидит его стриженым, и поэтому снова очень на офицера разозлился.
– Вот так-то лучше, – сказал тот. – Так бы давно.
– Что – давно? – прикинулся Кирилл.
– Но-но-но! – сказал дежурный. – Ты у меня полегче…
– Полегче – чего?
– Полегче, говорю!
– Ах, полегче!.. Так бы и сказали…
Офицер налился и сказать уже ничего не мог. А Кирилл, довольный собой, стал ходить по вестибюлю так же отдельно и так же вперед лбом, как остальные парни.
Потом их собрали в кучу и повели. Вели, вели. В конце коридора была занавеска. Их завели за нее и там оставили. В этом закутке ходить было негде. И они старались не встречаться взглядами и делали независимые лица. Только два парня, оказалось, знали друг друга и чувствовали себя уверенней и оттого говорили неестественно громко. Это было глуповато, то, что они говорили. Во всяком случае, это было слишком назойливо. Пожалуй, они тоже не были уверены.
Начали вызывать:
– Абельский, Акатов!
– Я. Я…
– Раздевайтесь.
Засуетившись, вызванные застенчиво стягивали через головы рубашки, снимали брюки, оставались в трусах. Клали одежду на стулья. Старались ни на кого не смотреть.
Дверь снова открылась. Высунулась голова.
– Что вы там копаетесь?.. А трусы? Трусы тоже, тоже…
Ребята, потупившись, перешагнули трусы и стали какие-то совсем другие, с незнакомыми лицами.
– Болобонов, Бухалов, приготовиться.
Кирилла снова трясло. Он никак не мог унять этой противной дрожи. Зубы приходилось стискивать, так они прыгали. Было холодно. Кирилл напрягал мышцы всего тела, старался согреться и унять дрожь. Черт, как неудачно сложилось: ночная смена… А так можно было бы работу пропустить…
– Вороненко, Заремба, приготовиться.
Скорей бы вызвали… о черт! Трясет, как собаку. Жди тут, как идиот. Словно тебя в Италию отправят.
– Заславский, Иванов А.А., приготовиться.
Скорей бы… Скорей! Никак его буква не подходит…
– Иванов Н.Ф., Ильин, приготовиться.
– Приготовиться…
– Приготовиться…
– Капитонов, Капустин, приготовиться.
Какой еще Капустин! Еще один Капустин! Глупость какая! Ну да, Капустин. Ка-пу-стин.
– Капустин!
– Я…
– Раздевайтесь.
Кирилл точно так же стянул через голову рубаху. Ощущение было новым. Голова, круглая, гладкая, проскользнула через рубаху с поразительной легкостью. Точно так же перешагнул трусы. Стоял голый. Не знал, как ему стоять, голому…
И вот их ввели: его, Кирилла, и еще какого-то Капитонова. Этот Капитонов был удивительно мал и щупл.
Зал, в который их ввели, поражал своей легкомысленностью. Какие-то лепесточки на потолке и тьма зеркал. Кирилл увидел сразу несколько своих отражений. А перед тем в глазах его маячил щуплый Капитонов. И теперь Кирилл поразился очевидностью и мощью своего тела.
«Мда, тут нечего и думать…»
Однако его, такого здорового, трясло.
Машинально он шел по кругу зала, обходя стол за столом.
То, что за столами сидели одетые люди, а он, Кирилл, должен был расхаживать голый, вызывало в нем чувство скованности и неестественности. Как перед фотографом, только сильнее. А обострившееся желание сохранить достоинство еще больше мешало чувствовать себя просто. И ощущение, что ты стараешься сделать гордое, независимое лицо, а сам голый, было еще неприятней.
Первый врач понравился Кириллу. Весь его вид и тон свидетельствовали об особой благожелательности. Он вежливо предложил Кириллу сесть. И хотя Кирилл и ощутил всю нелепость этого предложения (садясь, он еще резче почувствовал собственную наготу, и клеенка стула была неприятно холодной), он был благодарен этому благожелательному старику. Старик расспрашивал его про все болезни, которые с ним случались, расспрашивал со всеми подробностями и великим участием, слушал внимательно, слегка наклонив голову набок и подмаргивая добрыми глазами. И Кириллу очень хотелось говорить и говорить этому человеку, рассказывать и рассказывать. И Кириллу стало казаться, что, может, действительно он больной и его сейчас освободят. Но старик вдруг прервал на полуслове и, откинувшись, словно удалившись, сказал, и лицо его было усталое и равнодушное:
– Все. Ступайте к следующему.
В Кирилле что-то поднялось и опустилось. Он стоял, снова голый, а потом шел, голый, к следующему столу.
Следующая была толстая круглая тетка очень уютной наружности. Живые ее и веселые глаза обшарили Кирилла. Своим бодрым голосом она расспрашивала все больше о том, откуда он, да где учился, да как его выгнали, кто его родители и как они его отпустили. Она охала и причитала, сочувствовала, сокрушалась. И Кирилл охотно выкладывал ей все, потому что мало кто, да, собственно, никто, не интересовался всем этим, его прошлой жизнью, а ему не хватало этого. Врачиха слушала, слушала и так же внезапно, словно насытившись, сказала:
– Все, ступайте к следующему.
И Кириллу стало стыдно, что он так разоткровенничался перед этой теткой, совершенно чужим человеком. Ему показалось, что все это только холодное любопытство. И он злился на врачиху и самого себя. Досадовал и чувствовал себя виноватым.
Хирург, терапевт, глазник, ларинголог – все это Кирилл проскочил без особых задержек. Он уже перегнал Капитонова на два стола. А Капитонова задерживали.
И Кирилл завидовал ему: «И что это я такой здоровый!..»
И вот он около невропатолога.
Он уже был достаточно зол, чтобы эта женщина с брезгливым недовольным лицом не понравилась ему сразу же. К тому же постоянное сознание, что голый он не соберется, не скажет ничего путного или умного или достойного, а если и скажет, то это не сможет прозвучать у него, голого, вызывало желание грубить, хамить и вести себя непристойно.
А эта врачиха-невропатолог говорила отрывисто, квакала:
– Жалобы есть?
– Есть.
– На что?
– На жизнь.
– Перестаньте идиотничать!
Она стукнула Кирилла по коленке – нога таки дрыгнула. Нарисовала что-то на груди, и красные полосы расползлись по груди. Вытянутые руки тряслись. Кирилл весь трясся. И ничего не мог поделать.
– Перестаньте!
– Что – п-перестаньте?
– Перестаньте трястись!
– Я не нарочно.
– Ну да… Ну да… Пьете?
– М-м-м?
– Вот видите. Курите?
– Да.
– Мочитесь?
Злость перехлестнула Кирилла.
– Мочусь!
– Будете еще идиотничать?!
– И идиот тоже, – сказал Кирилл.
– Хам! Хулиган! – завизжала врачиха, чем доставила Кириллу непонятное удовольствие.
– Нельзя так кричать, – сказал он тем особым спокойным тоном, который мы все употребляем, чтобы довести человека. – Так же ваши пациенты с ума посходят.
Врачиха булькнула, не в силах говорить, проглотила это и сказала уже спокойно:
– Припадки бывают?
– Бывают. Бросаюсь, кусаюсь… – И Кирилл лязгнул зубами.
Врачиха заверещала. Все смотрели на них. Кирилл слышал этот крик еще долго, даже одеваясь, даже спускаясь по лестнице.
Он был годен по всем статьям.
И в целом – годен.
Когда председатель вписывал в его карту резюме, Кирилл еще надеялся. Но вот из-под пера председателя медленно и крупно выползло «10»… У Кирилла что-то соскользнуло вниз. «Сердце в пятках…» – подумал он. Оно поехало вниз, как лифт. И уже обреченно он стоял, голый, перед столом и смотрел, как этот дописывал и дописывал: «ДЕН».
10-ДЕН.
Годен и в авиацию, и во флот, и в пехоту, и в училища, и в танковые части, и в стройбат – годен.
А вот Капитонов – тот не годен.
А он, Кирилл Капустин, – годен.
10-ден.
Кирилл оделся. Дрожь прошла. Чувствовал он себя до странности свежим и бодрым. Словно и поспал, и поел, сделал разминку, побегал и выкупался. Внутри было как-то приятно пусто и словно проветрено – окна настежь. Все было решено. И внутри и снаружи. Кирилл шел, и ему было приятно ощущать легкость тела и свежесть ветра… И ясность, ясность наконец в голове. Нет суеты. Нет выгадывания. Нет сомнений. Нет пустяковых надежд. Все решено. Все ясно.
И все – к лучшему.
Письмо домой…Та к что ты, мама, не волнуйся. Я уже достаточно много понял, чтобы хорошо прожить и этих три года. А потом я вернусь. И мы опять будем все вместе.
А потерять – я ничего не потеряю. Все останется со мной. И я буду иметь право. Это ведь для себя важно – иметь право. Если, как ты пишешь, я призван к чему-то большему, то это не пропадет, а только яснее станет, к чему. Я вот много понял, но, чтобы мне стало яснее, в чем мое призвание, не скажу.
Мне кажется, слишком уж много говорят о призвании. О том, что его надо искать и его надо найти. А практически, во всеобщем масштабе, его нет. И разговоры эти только дезориентируют тех людей, которые слишком верят в то, что его можно найти. И при этом думают, что, когда найдут, тогда и начнется жизнь. Та к можно и всю жизнь проискать, а надо ведь жить, жить нормально и хорошо.
Посмотри вокруг, какой ничтожный процент вещей делается людьми, призванными делать только эти и никакие другие вещи… Или представь себе призвание инженера по холодильным машинам, или человека, который считает овец, или управдома? Все эти люди делают удовлетворительно или хорошо свое нужное дело. Но призвания такого нет. Приглядись, и ты увидишь, что все, что производится в этом мире, делается людьми, случайно когда-то этим занявшимися. Они узнали это случайное дело, оно вошло в их жизнь и стало не случайным. Они вполне могли бы в свое время взяться и за что-нибудь другое. А людей, действительно призванных делать совершенно определенные, единственные вещи, людей с призванием – крайне мало. Им действительно надо найти свое призвание, и не найти – несчастье.
А все остальные? Люди, которые случайно занялись тем или иным делом? И занялись на всю жизнь?
Они не находят призвания – они зреют как люди. Им тоже обязательно надо найти, но не призвание, а себя. И, созревая в работе, они обретают свою ценность (все равно в какой). И, приобретя эту ценность, становятся призванными делать именно то, что они делают, потому что делают они это лучше, чем остальное.
Но считать с самого начала, что ты должен делать что-то единственное и именно это единственное найти, чаще приводит к бездействию, чем к цели. И внушать людям мысль о единственном призвании – неверно.
А чтобы заняться чем-то, в принципе, случайным из тыщи занятий вокруг, заняться на всю жизнь, надо подготовиться и поискать чисто по-человечески, и, найдя в себе человека, можно заняться любым делом.
Можно только удивляться: сколько понято в мире! Столько опыта, мудрости накоплено всеми и многими в отдельности. И уже тыщи лет этой мудрости. И все равно каждый проходит почти через те же колебания, ошибки, ступени… Ведь это до смешного. Я помню, в школе в третьем классе кто-то догадался стрелять жеваными промокашками из трубочек, до того мы и понятия не имели о жеваных промокашках и трубочках. А в четвертом – кто-то догадался стрелять бумажными пульками из рогаток с резинками из трусов. И, опять же, до того мы не имели об этих резинках представления. А в пятом было уже что-то другое. И самое странное, наблюдая младших, мы видели, как, переходя в третий, они начинали стрелять жеваными промокашками, а в четвертый – из рогаток с резинками из трусов. А ведь старшие в школе никогда не общаются с младшими… И вот с детства нам столько говорят, читают, пишут, трубят правильных, мудрых вещей!.. И все равно каждому необходимо в какой-то мере проверить все самому и повторить какой-то неизбежный минимум всеобщих, известных, тривиальных ошибок. Собственных ошибок…
Белые воротничкиХочется уйти в белых воротничках.
Хочется заплатить все долги, сделать всем визиты и написать всем письма.
Вымыться, выбриться, переменить белье и разобраться в хламе.
Надеть белую рубашку.
И открыть форточку.
Чтобы ветер гулял по комнате, шевелил занавески и гонял по полу последнюю ненужную бумажку.
Даже бегунок, эта нелепая необходимость обегать все на свете и всюду добыть подписи, – и он нужен.
Надо, надо… надо обязательно найти эту книгу и сдать ее в библиотеку. Надо выплатить коменданту за разбитое стекло и пропавший чайник. Надо написать домой хорошие письма, каждому отдельно, надо сходить в больницу навестить Колю.
И еще надо подумать. Думать, думать – и что-то решить. Уже решено. Но надо все пересмотреть еще раз.
И как можно больше быть с Валей…
Здоровые и больныеКоля сидел на койке. Пижама была невозможно широка, и это особенно подчеркивало, какой это сухонький и маленький мужичок.
Коля был весел. Его взгляд был заинтересованным. Он расспрашивал про «как там у нас» и «как там наши». У него было уже все в порядке. И хотя врачи теперь говорили, что выписываться ему никак не ранее чем через два месяца, он был бодр и уверен и, где-то в главном, уже совсем здоров. Он читал пухлые романы из больничной библиотеки и с недоверием относился к тонким и нынешним книжкам. Речь его закруглилась, и говорил он как-то по-новому. Это был во многом другой Коля. И не потому, что больной, а просто переменился. Хотя это был, конечно, и тот же Коля.
Кирюша рассказал ему все о себе так открыто, как не рассказывал никому. И Коля, где-то уже совсем здоровый, сидел и слушал Кирюшу и ласково кивал, временами качал головой, как бы показывая свое одобрение и согласие с каждым Кирюшиным словом.
А Кирюша открылся, увлекся и говорил, говорил, заражаясь собственными интонациями и словами, то жалея себя, то уничижая.
А Коля слушал. Кивал. Качал.
И когда Кирюша вдруг, говоря что-то возбужденное и громкое, прервался и замолчал, и когда исчезли последних два слова, сказанных словно бы уже по инерции, потерявших уже и скорость и силу, тогда начал говорить Коля. И сказал он самую длинную и неожиданную речь, которую слышал когда-либо от него Кирюша. Мне трудно ее передать, но суть была в следующем:
– Я тут много думал во время болезни… Думал, что умру. Так что думал много. О себе, о нас… Я много вижу, что люди живут и думают, что они еще не живут той жизнью, которая должна у них быть. Многие старятся и умирают с такой мыслью. Им все кажется, что это только пока, а должно быть другое. Я не знаю, откуда они выкопали это другое и кто им сказал. Но они так думают, и иногда слишком долго. Ты тоже думаешь почти так. Немного уже иначе, но еще так. Ты еще молод. Я вот не знал этой «особой» жизни. Как-то так получилось, что мне никак не удавалось выпрямиться. Всю жизнь я был пригнут и видел мало. И мне всю жизнь хотелось пережить свою жизнь еще раз, иначе. Слишком уж много в ней было лишнего и многое могло быть иначе. И вот теперь это прошло. И видел-то я мало, потому что плохо видел. Тут дело не в обстоятельствах. Когда я начал видеть, я перестал хотеть пережить свою жизнь снова. Да это и невозможно. Надо иметь силу и смелость, чтобы понять свою жизнь и получить от этого гордость. Жизнь всюду одна. Я не знал «особой» жизни. Может, это было так. Но я знал все: и дружбу, и вино, и любовь, и труд, и радость, и свободу, и горе, и отчаяние – все. Все это в местах, где, по общему мнению, не только «особой» жизни, но и вообще никакой нет. Может, женщины были понекрасивей, вино похуже, труд потяжелее, свободы поменьше, горя побольше, чем в этой «особой» жизни, но все это было настоящее. И если чего-то было поменьше, то тогда это было сильнее. А кое-чего было предостаточно. «То на то» выходит. Так-то, брат, надо иметь силу и гордость, чтобы увидеть собственную жизнь. И главное – это жить со всеми. Ну, каков бы я был в этой «особой» жизни? Там, где я бывал, все были такие, как я, и все мы были вместе. И если и есть какая-то другая жизнь, так и там все должны быть вместе, и не могут они, к примеру, быть в той жизни, которую прожил я. Надо иметь любовь к свободе и понимать ее, чтобы жить со всеми и подчиняться всем. Надо иметь что-то внутри. Надо это заработать. Пока ты этого не имеешь, ты и не живешь и не видишь. Я ощутил это внутри себя поздно. Но с тех пор жизни всех равны между собой для меня. И нет у меня зависти, и нет сожаления – есть спокойствие. Ты это поймешь вдруг, и тебе будет удивительно, что ты не понимал этого раньше. Нельзя думать, когда ты живешь сам и вокруг тебя живут люди, что ты уж слишком иной, чем они. Ты должен понять, что ты такой же. Что они так же отличны от тебя, как ты от них и они между собой. Тогда увидишь и себя и других. Поэтому нельзя считать, что ты имеешь на что-то больше прав, чем другие. И если что-то не так и надо менять – надо менять для всех, не для себя. Для себя надо менять себя. Ты еще не знаешь, как много счастья вокруг. Его тоже надо уметь видеть. Пока не увидишь, всегда будешь несчастен, какие бы ни были условия и обстоятельства. Ты не можешь себе представить, какое это счастье – быть здоровым и мочь, как все. Как все, понимаешь?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































