Текст книги "Нулевой том (сборник)"
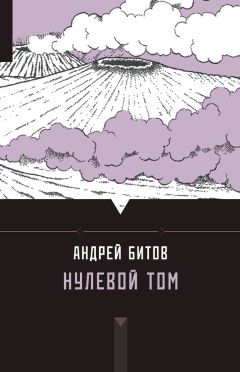
Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Дело о двух банках тушенки
Я сижу в штабе, стукаю и уже мечтаю снова о лесоповале. Конечно, тяжело и мошкара, но зато общество самое избранное, костер, чаек, воздух… И вот тут вваливается ко мне приятель и говорит: «Сунь куда-нибудь», – и подает мне две банки тушенки. Я человек нелюбопытный, я беру их и молча закатываю под сейф. Он мне что-то говорит о том, как с машины свалился ящик тушенки и шофер не заметил, а ребята разобрали, а это, значит, моя доля. Моя так моя. Сижу, стукаю. Отстукал и пошел домой, в казарму то есть. Наутро прихожу в штаб, вызывает меня замполка по хозчасти, тот самый Николай Васильевич Бебешев, капитан, о котором я уже писал раньше. А с ним рядом следователь, подполковник, сегодня утром для разбирательства всяких наших поднакопившихся солдатских дел прибывший. Я-то спокоен, думаю, что-нибудь перепечатать надо. Совесть-то у меня чиста. «Прибыл, так и так», – говорю. «Выкладывай», – говорит капитан Бебешев и на меня не смотрит. «Что, – говорю, – выкладывать, товарищ капитан?» – «Про тушенку», – говорит. «Про какую тушенку?» – говорю. «Про такую, – говорит, – в банках». Меня даже пот прошиб, и вкус ее замечательный, какой вчера был, когда мы ее, разогрев в печке, ели, омерзительным вдруг показался. «Никак нет, – говорю, – не было у меня никакой тушенки!» – «Постойте, – говорит подполковник, – вот вы говорите, что ее у вас не было… Значит, вы допускаете мысль, что она у вас могла быть, иначе вы бы не построили так фразу, значит… Я верю, что ее у вас не было, но что-то вы о ней знаете. Что вы о ней знаете? Вы ее у кого-то видели? У кого?» Ну и гусь, думаю я, это тебе не Бебешев. «Никак нет, – говорю, – не видел!» – «Как же, вот я записал, вы сказали: “Не было у меня никакой тушенки”. Значит, вы допускаете мысль, что она…» и т. д. – все сначала. «Так я потому сказал, – говорю я ему в тон, – что меня так спросили. Спрашивают про тушенку – я про тушенку и отвечаю. В ответе по уставу должно быть повторено то, что сказал командир». – «Вы же образованный человек, – начинает капать следователь, – зачем вы простачком прикидываетесь?» – «Срам! – вдруг кричит Бебешев. – Я же сам у тебя эти банки видел!» – «Где?» – обомлел я. «Под сейфом!» – «Под сейфом?» – говорю я все еще удивленно, что естественно, когда подгибаются коленки. «Именно, – говорит Бебешев, – ты когда на обед пошел, я в сейф-то за бумагой одной полез, а банка-то и выкатилась, а я уже тогда, – говорит Бебешев, страшно довольный собой и своей проницательностью, – уже тогда знал про пропажу ящика тушенки. Я, не будь дурак, и закатил ее назад, как будто и не видел. Утром, думаю, поймаю с поличным. А ты ее, выходит, уволок». У меня отлегло. Ну и дурак же ты, думаю. «Никак нет», – говорю. «Что – никак нет?!» Бебешев наливается кровью. «Не может быть, – говорю, – не было у меня никакой тушенки». – «Да что я, с ума сошел, что ли! – кричит Бебешев, и вижу, действительно близок к этому. – Я же своими глазами видел». – «Вы, может, видели, – говорю я, – а я не видел. Сейф за моей спиной стоит, мало ли тут всякого народу шляется». – «В штабе не шляются! – кричит Бебешев. – Распустились!» – «Виноват, – говорю, – мало ли тут народу ходит». – «Так-то, – говорит Бебешев. – Так как же?» – «Что – как же?» – говорю. «Тушенка!!!» – орет он. «Не видал», – говорю. «Как же ты, паршивец! И не стыдно тебе! Ведь сам вчера небось ел ее! Банки пустые за казармой сегодня нашли…» – «Не ел», – говорю. «Ел!» – кричит Бебешев. «Не ел!» – говорю. «Ел!!» – «Перестаньте, – говорю, – меня мучить, я и сегодня-то не успел позавтракать – в штаб торопился. А если не верите – сделайте анализ». – «Что?! – Как его кондрашка не хватила, не знаю. – Анализ?!» – «Ладно, – вдруг обрывает его подполковник, – не кричите. – И смотрит на меня, а глаза его смеются. – Не знает он ничего. А если и знает, то все соображает и нам его не сбить с толку. Правильно я говорю?» – доверительно обращается он ко мне. «Никак нет, тр-пп-п!» – говорю я. «То есть как?» – говорит он. «Не видел», – тупо говорю я. «Идите, Дрейфус», – устало махнул рукой подполковник.
Больше не работал я машинисткой – вернулся в свою бригаду. Лес валить. Мошкара, правда. Но зато костер, чаек, общество…
«Ну, ничего. Скоро уже все увижу своими глазами, – успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. – Мало ли что пишут. Кушать-то надо… Ладно, пора спать».
А ночевал я в аэровокзале X. Вот уж свободных мест нет! То есть чтобы в огромном этом здании я нашел хоть одно свободное место, так чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене, – так такого места ни одного не было. Свободными оставались лишь дверные проемы. И то если отворялась одна створка, а другая была на шпингалете, то у этой другой створки наверняка кто-нибудь привалился, счастливчик. Лестницы тоже были заняты. Узенькая дорожка – змейкой между телами. Ловко перешагивая, перепрыгивая и подтягиваясь, можно пройти и никого не задеть. Впрочем, никого это уже не заденет. Я не нашел ни одной плевательницы. Их будто не было. «Что такое?» – думал я. И не сразу обнаружил, что просто все они перевернуты на попа и на них сидят, и оттого их не видно.
Я пристроился на лестнице и был счастлив. Миловидные сибирские студентки техникума пели свои студенческие песни, и вокруг них вились их курсанты. Девушки пели, и никто их не одергивал, что спать мешают. Тут уже было так: если кто хочет спать – то и спит, и песня ему не мешает, и ступени не впиваются ему в бок, и газета мягче перины, а не можешь уснуть – то и спать не хочешь. Я и не хочу, значит, и смотрю, а горизонт в этой позе у стенки неширок.
Вижу я, если посмотреть вверх, широкие гладкие колени одной из студенток, сзади ей шепчет что-то курсант, а она и не слышит. Она очень уверена в своих коленях. Она видит, как я смотрю на ее колени, – это ее не смущает, только смотрит она на меня уже как-то внимательней. «Вот, – думаю, – у меня-то колени не видны?» Но пора уже либо что-то предпринимать, либо отводить взор. И я отвожу. И она со вздохом начинает прислушиваться к шепоту курсанта.
Смотрю вниз. До конца лестницы рассыпаны неподвижные тела. Вот парень, здоровила, развалился через все ступеньки, рука под голову, спит и во сне улыбается. А рядом со мной чинный такой паренек – кепочка махонькая, степенность необыкновенная. Сидит, читает толстенную книгу «У нас в Байлык-Чурбане», роман. Сбоку у него сеточка, в сеточке аккуратный большой пакет, веревочками перевязан. Рядом с ним молодой светлый лейтенант, младший. Лицо круглое, детское, глаза круглые, ясные – скучно ему. Смотрит он своими ясными глазами, и заговорить ему хочется. И девушек свободных нет. И у меня, рядом, лицо, по-видимому, неразговорчивое. А паренек книжку читает, толстую, обстоятельную, еще много ему читать. А сбоку у него что-то в сеточке лежит. «Друг, а друг?..» – умоляюще говорит лейтенант. Друг и не шелохнулся. И не то чтобы не слышал – просто дочитать надо. Медленно ползут его глаза вдоль строчки. Есть. Готово. То ли точка, то ли абзац. Поднимает глаза на лейтенанта. Одинаковые у них оказываются глаза. Лейтенант словно счастью своему не верит – так обрадовался, расплылся. «Что это у тебя за книга?» Парень молча приподнимает ее так, чтобы лейтенант мог прочесть название. «Мгм, – говорит лейтенант, не знает он такой книги. – Интересная?» – «Интересная, – наконец говорит парень, опускает ее и снова начинает читать, так же медленно ползет его взгляд. – Про наши места», – добавляет он и замолкает совсем. «Друг, а друг?» Парень опять так же сначала дочитывает до точки, потом поднимает глаза. «А это что у тебя?» И лейтенант показывает на сеточку. Медленно и словно бы не зная, что бы это еще там такое, парень поворачивается и видит сеточку. «Книги? – говорит лейтенант. – Дай почитать?» Парень поднимает голову, смотрит на лейтенанта. «Нет», – говорит. По лицу лейтенанта пробегает отчаяние. «А что там у тебя?» А парень уже снова смотрит в книгу, странный парень. «Альбом», – говорит он. «Дай посмотреть?» Вот ведь ребенок. И лицо у лейтенанта такое, словно он снежную бабу лепит.
Фотоальбом
Парень дочитывает до точки. Откладывает книгу, достает пакет, развязывает тщательные его веревочки и молча подает альбом лейтенанту. Лейтенант смотрит. Буровая, так я и думал, что парень с буровой! Откуда же еще… Я смотрю лейтенанту через плечо – интересно-то до чего! Сколько я этих альбомов пересмотрел! Все одно – и всегда интересно. Вот солдатики стоят. «Служил?» – «Служил». Вот девочки кудрявенькие, шестимесячные. А вот и вовсе актрисы. «Хорошие девочки», – говорит лейтенант. А вот и еще одна, такая же кудрявенькая. «Невеста?» – «Она», – говорит парень. А сам словно бы читает. Чудо, а не парень. Самостоятельный…
А мы все не летим и не летим. Только вдруг по нашей лестнице движение началось. Человек двадцать летчиков, крепенькие, красные мужики с чемоданчиками. Как из бани. Невозмутимо, друг за другом, перешагивают спящих, а наверху – дверца. И лица их ничего не выражают, когда они перешагивают. А потом они все по одному начинают спускаться… Когда же мы полетим, Господи!
Я спустился в буфет. В левом крыле – буфет, и в правом крыле – буфет. В левом – цыплята и шампанское, и в правом – цыплята и шампанское. Зеркальное отражение. И магазины не работают – ночь. Бродят бессонные мужики, надувшись шампанским, икают: пьешь, пьешь – никакого проку.
И когда я вернулся, место мое уже было занято. Лейтенант и паренек разместили на нем шахматную доску. Паренек, конечно, задумался над ходом, а лейтенант ерзает от нетерпения.
Рассуждение о подвиге и поступке
Я бродил неверными шагами по залам аэровокзала. Вот уж – «не находил себе места»! Кресла, нарушив свои ряды, развернулись кто куда и разбрелись по залу и остановились кто где, словно приняв позы уснувших в них людей. Вот человек занял сразу два кресла – счастливчик и нахал, – но никто не требует и не отнимает у него второе… Значит, он дольше всех торчит тут, если у него два кресла, значит – по заслугам. Вот два кресла составлены корытцем – в них двое, валетом – семья…
Как только люди не ухитряются уснуть! Вот девочка, нарядная, свернулась клубочком прямо на стеклянном лотке – он ночью не торгует. А рядом туфли на остреньком каблучке стоят. Один стоит, а другой набок повалился. Заглянуть ей в лицо… Но лица не видать – только волосы. Их погладить охота.
То ли судьба отступает перед нашим отчаянием и в последний момент предоставляет нам долгожданную возможность, то ли мы начинаем видеть эту возможность там, где бы раньше никогда не увидели… Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу: прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон достигала меня догадка обо всей этой моей детской зависти, что так далеко завлекла меня, и даже погода отдаляет цель…
В прошлом истаял некий мой собственный поступок в подлинном и полном значении этого слова. Ведь он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования.
Время выдвигает свое слово. И слово это – ПОСТУПОК. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. А подвиг… Они, конечно, были, есть и будут в наше удивительное время. Но ведь вот даже возникают непонятные дискуссии: «В жизни есть место подвигам? В жизни нет места подвигам?» Бессмысленно ведь спросить: «В жизни есть место поступкам?»
Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Подвиг требует условий, подразумевает награду. Восхищение, признание, хотя бы даже посмертные, для него обязательны. Поступок существует вне этого. И подвиг я могу понять лишь как частный вид поступка, способный служить всеобщим примером.
Так я вылился в цепь размышлений о тайне поступка, что не мог совершить за меня ни один человек… Сон покидает меня, и я перевожу взор…
И вот сидит девочка на сундуке, в валенках, в варежках, и большим пуховым платком вся крест-накрест перевязана. Сидит пряменько, ноги рядышком, ровненько поставлены, и ручки на колени ровненько положены, а лицо серьезное, покорное. «Жди, – сказал отец, – никуда не уходи». Мужик он уже немолодой, мрачный, а дочка у него вон какая махонькая. Сидит, ждет. Не шелохнется. Славная девчонка… Смотрю я на нее умильно, она это видит, но не реагирует. А отец ее мне не нравится. Жарища, духота, расстегнул бы ее хоть, что ли. Бросил ребенка, а сам шампанское небось пить пошел. Но вот он возвращается. Устало утирает лысину и снова надевает шапку. Стелет газету и пристраивается рядом не то с сундуком, не то с дочкой. И все молча. Жарко ему становится. Стягивает валенки, снимает полушубок. «Вот ведь, – думаю, – ребенок парится, а он…» А он вдруг смотрит на дочь, и какая-то мысль медленно проворачивается в его мозгу. И вдруг словно понимает что-то. Стаскивает с нее валенки, развязывает платок. И с такой он это нежностью делает! Снова укладывается. Достает яблоко, начинает есть. Ест – и снова мысль пробирается ему в голову. Начинает рыться. Отрывает самое распрекрасное яблоко и дочке дает. «Что же это? – думаю. – Вот как дивно!» Просто он только через себя все понять может. Ему не жарко – то и всем не жарко. Он сыт – то и все сыты. А так сердце у него как и у людей – замечательное: ему жарко – то и всем жарко, он голоден – и все голодны. А особенно дочка. А может, баба его бросила? И ему одному с девчонкой непривычно? А может… Что мы вообще знаем о людях? А все судим и судим.
Не так ли и я то ли сужу, то ли не понимаю тебя, Генрих? Сужу или не понимаю – одно и то же. И тогда я, наблюдающий и формулирующий этого мужика, который все чувствует и понимает только через себя, оказываюсь в большей степени таким мужиком, нежели он сам.
И наверно, окажусь я вдруг гораздо более уверенным и сытым человеком, чем ты. Не дано ли нам за нашу жизнь побывать во всех шкурах и состояниях и переходить в свои противоположности? И если мы были открыты и общительны, то становимся замкнуты и нелюдимы и наоборот. И если мы были радостны и восторженны, то становимся угрюмы и мрачны. И если мы старались быть сильными, то вдруг – слабы. И если мы были верны, то не станем ли изменчивы, как вода?
Когда я вижу проповедь силы и мужества и делание жизни по ним, мне всегда мерещится кошмарная слабость. Мужество Джека Лондона и Хемингуэя не убеждает меня.
Я работал однажды под началом очевидно мужественного человека. Он был справедлив, сдержан, тверд. Он был очень силен и крепок в свои сорок пять. Мужественный шрам пересекал его лицо. Бывший начальник партизанского отряда, а теперь начальник огромной экспедиции, член бюро райкома. У него были молодая хорошенькая жена и две маленькие девочки – чудо, а не семья. Парился он в бане крепче всех, и ни один подчиненный не мог с ним сравниться. По утрам, на рассвете, раньше всех, в любую погоду он выскакивал в легком тренировочном костюме, делал зарядку и бежал к ручью, где обливался ледяной водой. И ровно в восемь его можно было застать в конторе, бодрого, свежевыбритого. И ровно в девять он садился сам за руль «козла» (шофер сидел рядом) и лихо стартовал на объекты. Он был до того похож на положительный образ руководителя из нашего социального романа, что это нарушало все мои представления о жизни, по которым такой руководитель всегда бывал выдуман неким мечтателем. И если все было в нем так, как казалось, потому что он не был ни фальшивым, ни наигранным человеком, то мне все равно мерещилось что-то не так. А если все-таки так, то какой же ценой, думал я, уплачено за все это? Или будет уплачено? За молодую жену, за парилку и обливание холодной водой, за несгибаемость, твердость? Каким же одиноким и слабым останется он, если совсем некому будет посмотреть на него?
Рассыпанное лицо
И однажды я увидел… Торжество мое было мелким и ничтожным по сравнению с болью, какую я почувствовал, глядя… Он сидел, наконец оставшись совсем один, уверенный, что никто больше не войдет, не увидит… Про него нельзя было сказать, что он сидел, что он вообще занимал какое-то положение и форму в пространстве, – это была рассыпавшаяся, старая, слабая куча, именно куча, в которую были свалены абстрактные, не имевшие никакого смысла черты: и твердый подбородок, и рот, и шрам, и проседь, и суровые брови, и тяжелые руки – весь набор был рассыпан по его столу. Он мычал, долго, протяжно, прерываясь лишь для вздоха. И это было страшно. Я так опешил, что не сразу сообразил тихо уйти, оставить его одного. И когда начал красться к выходу, что-то скрипнуло – он вздрогнул. Это было так болезненно, что мне было невыносимо – не знаю уж, как ему. Его рассыпанные черты вдруг стали прыгать на свои места: бровь вспрыгнула и сразу приобрела насупленное, слегка удивленное выражение, студень губ, слегка подрожав, застыл в твердый его рот, и шрам, подергавшись, устроился на своем месте. Разборка и сборка затвора винтовки на скорость… И вот он, такой же смазанный, вороненый, с безотказным боем: «Вы ко мне?»
До сих пор вижу это рассыпанное по столу лицо.
Внешнее, скульптурное мужество настораживает меня. Поступки, приобретающие хрестоматийно-героическую форму, не внушают мне доверия. Как закаленная сталь, они обладают излишней твердостью и хрупки при ударе.
Хорошие пловцы чаще тонут. Люди спортивные, очень сильные физически, не переносят голода. И как убедительно мужество физически слабых и больных людей, их жизнестойкость: она – вынужденна, она оправданна. Там, где они будут добиваться и терпеть поражение, одаренному будет дано, и ему придется справляться с такими тонкими и страшными вещами, что и представить трудно.
И стало мне даже казаться, что против бытующих представлений сильный – это слабый и слабый – это сильный…
Но так как мы успеваем за свою жизнь несколько раз устать от самих себя, хотя бы в своей данности, то переходим в свою противоположность. И сильные оказываются вдруг человечны и слабы. И слабые жестокосердны и сильны.
Может, наши роли уже переменились, Генрих? И я из человека, с детства терпевшего поражения, приустав, приостановившись, вдруг почувствовал во всем этом победу и превратился ныне в победителя, поставив перед собой цели конкретные и замкнутые в самих себе, короткие?.. И только тогда понял, как это пусто, одиноко и горько – победа, если с победой исчезает цель? А ты, всю жизнь бывший победителем, первым, вдруг почувствовал усталость и горечь поражения во всех своих победах?
В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Конный пешему, мол, не товарищ. Тут я ловлю себя на том, что все преувеличил, чрезмерно увлекшись в последнее время графикой чертежа. Я преувеличил и с какой же радостью встречусь с тобой и увижу, что не прав. И что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой подтрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча… И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, потому что признать и принять друг друга для нас до сих пор значило в чем-то крупном, в целом, осознать свою зряшность и никчемность, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали… За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно: «Знаешь, никогда раньше не уставал… А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на Аваче, нет-нет, а стал иногда уставать…» – и закроешь глаза.
Моложе тебя
И твои помощники моложе тебя и меня. И я долго буду внутренне не принимать их. Их магнитофоны с Клячкиным и Визбором, их внимание к поэзии, их ежедневные разминки, их баскетбол и бокс, их развешанный по стенам Чюрленис, их самодельный модерн абажуров, полочек и торшеров, их наигранная суровость, или молчаливость, или сдержанность с мимолетными то там то сям трубочками и бородками, их вечеринки с песнями и сухим вином, песнями и девушками, поджавшими под себя ноги на медвежьих шкурах и поглядывающими из углов, их отношения с ними с благородными подтекстами любви по Хемингуэю – все это будет раздражать меня, во все это я буду не верить, все будет казаться мне ненастоящим, игрой, чем-то неестественным и неполноценным. И тогда я вдруг обнаружу, Генрих, что у нас с тобой много больше общего, чем я мог бы подозревать или предположить. Что время перемешало наши отличия и объединило нас, отделив нас сначала от наших отцов, а потом от младших братьев. Мы переглядываемся с тобой на вечеринке, где твои товарищи моложе тебя и меня, и понимаем друг друга, и что-то сближает нас против них. И прежде чем я полюблю всех этих ребят и пойму, что я был несправедлив к ним, просто не знал их, а они – отличные, чистые, настоящие товарищи и, главное, никогда не продадут, не предадут… Так вот, прежде чем полюблю их, – ты благодаря им станешь мне близок, понятен и дорог не только как воспоминание детства, а как такой же человек, как я, такой, каких мы ищем и находим изредка, и они – друзья.
Все это можно с уверенностью утверждать, потому что хотя я не прилетел еще к тебе и не встретился с тобой, но ведь всякая вещь на документальной основе пишется потом, когда уже в прошлом не только полет к тебе, но и встреча с тобой, и отъезд назад, домой…
А пока мы все не летим. Я не лечу – и все не летят. И вдруг смятение какое-то и движение, словно ветерок пронесся. И побежали куда-то девушки в пилотках, на бегу набрасывая полушубки, и вдруг все расступились как-то. «Кто это? Кто это?» – пошел шепоток. И по радио ничего не объявляли. Вдруг – свита. И три деятеля: двое высоченные, толстенные – он и она, муж и жена – он в сером, каракулевый, и трость, она – вся в шубе необыкновенной. К тому же они – буряты: лица широкие, чиновные, бесстрастные – и все расступается перед ними. А за ними парень, молодой, одет как из журнала, и с догом, – их сын, русский. Делегация, что ли? И распахнулись перед ними двери, крутануло из дверей снегом, ветром и темнотой, и захлопнулись за ними двери. Вышли они на аэродром и не возвращаются. Все нет их и нет. Сами они летают, что ли?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































