Текст книги "Записки из Тюрьмы"
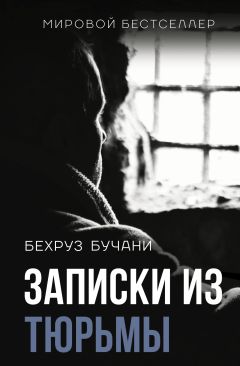
Автор книги: Бехруз Бучани
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
С голодным желудком /
Ложатся в свои пропитанные потом постели /
Крабы… /
Муравьи… /
Летучие мыши… /
Птицы… /
И охранники… /
Они все бодрствуют /
А ветерок шелестит листьями великолепного мангового дерева /
Снаружи доносится шепот волн /
Шум океана /
Его рокот проникает сквозь джунгли.
* * *
В западной части Тюрьмы Фокс усердно трудятся рабочие. Они составили друг на друга десятки больших белых контейнеров, построив многоуровневый комплекс, полный коридоров. Джунгли исчезли из виду, зато установлены дополнительные ограждения. Что за сооружение они возвели? Готовые дома для военных? Возможно.
По тюрьме распространяется слух, что юристов выслали обратно из главного аэропорта туда, откуда они прилетели.
За эти дни первая группа беженцев расселяется по постоянным местам /
На островное поселение /
Через несколько недель заселяется вторая группа /
Затем третья группа /
А потом четвертая /
И, наконец, все группы размещены /
Птица Чаука, сидя на вершине самой высокой кокосовой пальмы, издает протяжные крики, похожие на плач /
Чаука поет /
Как истолковать ее тревожные трели? /
Закаты всегда полны меланхолии.
10. Пение Сверчков, Жестокие Обряды / Мифическая Топография Тюрьмы Манус
Человек обречен на страдания /
Он рождается в них и в них умирает /
Его разум мучает даже осознание /
Всех мук, о которых он стенает /
Он познал скорби и терзания /
Он проливал слезы и бился в рыданиях /
Человек несет бремя глубокого осознания /
Что вся его жизнь состоит из страдания.
Тот вечер. Тот жуткий вечер, когда зубная боль довела меня до судорог. Боль так нестерпима, что я бьюсь головой о металлическую перегородку, за которой находятся душевые.
И тут я слышу слабый стон. Этот звук, полный страдания и страха, заставляет меня замереть. Этот стон пропитан болью. Так стонет человек, корчащийся от боли в конвульсиях. От этого леденящего душу звука волосы встают дыбом.
Это звук глубочайших страданий /
Так звучат одиночество и отчаяние /
В вечернем мраке – котле кошмаров /
Стон разносится над океаном /
Он проплывает сквозь ограды и заборы /
В джунглях сливаясь с нестройным хором /
Как ядовитая стрела, пронзает душу /
Не оставляя эха, затухает снаружи /
Тяжкий стон, полный безнадеги и мучений /
Каплей боли растворяется во вселенной.
Тюрьма погрузилась в тяжелую тишину; все будто уснуло полуобморочным сном. Слышно лишь стрекотание сверчков. Оно делает тишину еще более опустошающей и звенящей. И в этой невыносимой тишине болезненные стоны звучат как разрывы снарядов.
Боже, как ужасна тюрьма. Угнетающее, жестокое место. Она безжалостна.
Стоны поражают меня, как раскаты грома. Отзвуки чьей-то боли пугают, словно яростный грохот и молнии весенней грозы. Звук чужих страданий пронизывает, будто удары тока, – это даже мощнее грома и молний. Кокосовые пальмы, подставившие свои волосы-листья ветерку, дрожат так, будто тоже напуганы.
У одного из баков, прислонившись спиной, сидит папу, его кепка лежит у него на коленях, он вертит во рту палочку[91]91
Имеется в виду так называемая «масала», которая используется вместе с орехом бетеля. Масала обычно сделана из мяты, гвоздики, ароматных специй и известковой пасты. Она добавляется к бетелевому ореху, чтобы усилить его стимулирующее действие и придать свежесть дыханию. Прим. перев.
[Закрыть]. Думаю, он на пике кайфа от бетельного ореха: его разум свободен, и он закрывает глаза, не заботясь ни о чем, что творится вокруг. Его состояние подобно смеси дремоты, бодрствования и наркотического опьянения. Для папу это особый момент. Он не обращает внимания на раздающиеся стоны. Он телом и разумом отдался опьянению.
А стоны продолжаются, будто с удвоенной силой ввинчиваясь в самый центр мрачного неба и вызывая у меня новые приступы дрожи. Каждый болезненный стон по-особому подчеркивает зловещее величие джунглей и океана и жуткий дух тюрьмы.
Моя зубная боль начинает утихать. Возможно, при столкновении двух форм страдания, из двух отдельных источников, одной приходится уступить той, что ее превосходит. Наверное, нечто подобное со мной и произошло. Мою боль вызвали нервы, переплетающиеся глубоко в основании десны. И мое страдание накладывается на страдание другого человека всего в нескольких метрах отсюда – стоны слышатся из-за забора – это звук отчаяния – он исходит из места, где царит полная безысходность – и моя зубная боль вынуждена отступить. Возможно, мы разделяем одно чувство страдания; это одна и та же субстанция: страдание, охватившее стонущего, и страдание в глубинах моей души.
Однако папу остается безразличен к чужим мучениям. Он вертит во рту маленькую палочку и высоко парит где-то в своем мире. К стону присоединяются рыдания; соответствующим настроением наполняется пейзаж вокруг. В тюрьме в таком случае остается лишь два варианта: либо положиться на равнодушного папу и больше не думать об этом, либо следовать за звуком и обнаружить его источник. Знание дает свободу. Поэтому я ищу способ забраться повыше. В данном случае это означает перелезть через забор или взобраться на контейнер.
По мере приближения к источнику стонов я все больше убеждаюсь, что угадал. Все указывает на одиночную камеру за ограждением, прямо у телефонной комнаты. Это место называется Зеленой Зоной.
Забор гораздо выше меня, но это не значит, что его невозможно перелезть. Для этого нужно некоторое усилие, но справится даже человек с самыми тощими мышцами. Правда, без шума не получится: звук такой, будто воры лезут через ограждение, чтобы проникнуть в чей-то дом. Вдоль забора на большом расстоянии друг от друга сидят несколько папу и австралийских охранников. Если забор начнет трястись и дребезжать, они обязательно это заметят, и меня отправят в изолятор, где уже кто-то стонет. Так что перелезать не вариант.
Я вспоминаю свое детство, когда я был искусным воришкой, способным на все. Тогда я проворно носился повсюду и с ловкостью кошки перелезал через стены, огораживающие соседские сады. Там я взбирался на ветви ореховых деревьев и сидел на них, как обезьяна. В нескольких километрах от нашего дома, среди курдских каштановых дубов я искал голубиные гнезда. Теперь я уверен, что любой, кто без проблем мог забраться на грубые стволы каштановых дубов, легко преодолеет самые сложные и скользкие препятствия. Это не шутка – я сын гор. Я не хуже кошки.
Папу опьянел так, что возносится над землей и дрейфует над морем. Мне отлично знакомо это чувство. Ничто не сможет испортить ему настроение и удовольствие, даже если прогремит гром, а небо расколет молния. Может быть, я преувеличиваю, но мне кажется, что папу просто откроет глаза, соберет себя в кучу вместе с руками, ногами и кепкой, лежащей на его коленях, и даже на миг прекратит вертеть палочкой во рту. Но не сомневаюсь, что, как только гром и молния минуют, он снова продолжит кайфовать.
Это свойственно папу. Они раскрепощенные. Свободные. Счастливые. А я забыл о зубной боли, сконцентрировавшись, словно кошка перед прыжком. Мне действительно нужно совершить огромный прыжок. Да, иногда разум может сознательно контролировать физическую боль. В три ловких движения я забираюсь на крышу коридора. Сначала я подпрыгиваю на полметра от земли и оказываюсь на металлической перекладине, которая служит основанием коридора. Еще смеркается, и, сфокусировав взгляд, я готовлюсь к еще одному прыжку – с сосредоточенностью охотника, преследующего добычу, я осматриваю крышу коридора. Выбрав лучшее место для захвата, я подпрыгиваю еще на полметра и повисаю на руках на краю крыши. Только представьте: я точь-в-точь как болтающаяся на ветке высокого дерева обезьяна. Разница между обезьяной и мной лишь в том, что я держусь обеими руками, а обезьяны обычно повисают на одной. Так они демонстрируют контроль над деревом, веткой и гравитацией. Иногда веселые обезьянки делают так просто ради забавы, когда играют и дурачатся. В любом случае человеку достаточно даже держаться двумя руками, как я сейчас, чтобы почувствовать себя обезьяной более, чем любым другим животным.
Мои пальцы держатся очень крепко. Теперь пора доказать самому себе, что я могу неплохо подражать обезьяне. Я подтягиваюсь, напрягая все мышцы, и, не отрывая рук от крыши, перебрасываю себя через край. В итоге всех усилий я оказываюсь на самой высокой части крыши, и меня переполняет восторг от успешного «восхождения».
Теперь я наверху. Сижу в темноте рядом с манговым деревом. Добраться до этого дерева было моей маленькой мечтой. Отсюда мне больше не виден папу, и даже охранники, которых я видел перед воротами, пока был внизу, скрылись из виду.
Боже, какая темень за пределами тюрьмы. Конечно, тьма простирается далеко за пределы моего воображения; океан и джунгли уже растворились в небытии. Я не могу сказать, на каком дереве прячутся сверчки или даже в какой они стороне, но все пространство заполнено их чарующим пением. Сверчки… темнота… тишина… Я ощущаю благоговение перед этой картиной.
Это может показаться странным, но даже сверчки на миг замолкают, чтобы я прочувствовал величие тишины. Звук сверчков и звук тишины – этот контраст внушает трепет. Разве расслышишь стрекот сверчка, когда шумно? Песня сверчков – это гармония с мелодией тишины. Их пение подчеркивает и углубляет тишину и наоборот.
Стоны прекратились.
Отсюда видна Зеленая Зона; то есть этот участок можно увидеть с крыши коридора. Там находится изолятор, о котором до сих пор я только слышал. И слухи ужасают.
В тусклом желтом свете лампы видны два контейнера, стоящие друг напротив друга. Вместо стекол в окна вставлены доски. Комнаты похожи на приоткрытые спичечные коробки. А одинокий потолочный вентилятор вращается так медленно и монотонно, будто вот-вот остановится. Его лопасти кажутся усталыми. Кружится вентилятор – кружится голова. Стайка комаров прозрачным облаком вьется вокруг желтой лампы, словно мотыльки. Мои глаза наконец привыкают к темноте.
В Зеленой Зоне также есть дворик в три или четыре метра с двумя кокосовыми пальмами, растущими на самом краю, прямо у забора. Эти пальмы кажутся такими огромными, что внушают трепет. У них черные стволы, и они выше кокосовых пальм внутри тюрьмы. Чтобы оценить их полную высоту, приходится задирать голову к небу. Однако с этого ракурса и в темноте не видно, где их верхушки; вершины большинства деревьев растворяются в облаках. Черные силуэты листьев и плодов пальм сливаются с черными облаками и черным небом.
Я также вижу крошечную будку рядом с заборами, притаившуюся там, словно неизвестное мне животное. В будке тоже темно. А дежурный папу прячется подальше и курит брус[92]92
Брус – местный темно-коричневый табак, чрезвычайно крепкий и опьяняющий, в изобилии произрастающий в джунглях Мануса. Папу делают из него самокрутки: заворачивают сухие листья в газету и курят их. Прим. Омида Тофигяна.
[Закрыть]. Как и папу, вертящий палочку во рту, этот прислоняется спиной к кокосовой пальме и привычно затягивается табаком.
На мгновение мне кажется, что я вижу его глаза и узнаю их, хотя вокруг темно и я не могу разглядеть его лица. Его нос и рот неразличимы в темноте, поэтому рассмотреть его глаза тем более невозможно. Должен признать, что с того места, где я сижу, даже неясно, папу ли это вообще; значит, с этого расстояния я также не могу разобрать, курит ли он брус. Папу ли это? Я не знаю. Он курит брус? Этого я тоже не знаю. Неужели мозг настолько морочит сознание, что даже дорисовывает черты лица человека и его действия? Да. Это вера в абсурд.
Но я все же прихожу к выводу, что курильщик – папу. Я даже решаюсь прикинуть, что этот папу – человек преклонных лет, курящий брус, как старик. Стоны, однако, недавно прекратились. Думаю, пока я пытался забраться на крышу, кто-то заткнул несчастному рот. Вокруг тишина.
Только усталый потолочный вентилятор, безразличный к окружению, вращается, болтаясь и тихо дребезжа. Рядом с ним вокруг желтой лампы кружится семейство мотыльков, словно в ритуальном экстазе. На минуту я забываю, зачем и как оказался на крыше. На этот миг я свободен и от тюрьмы, и от оков тюремной системы. Я даже горжусь собой, ведь я единственный человек и единственный узник, который так близко подобрался к этому непобедимому манговому дереву. Но вот он я, сижу здесь, утыкаясь носом в его широкие листья. Я смог взобраться сюда, подняться над тюрьмой и теперь, обдуваемый свободным ветерком, наблюдаю за ней сверху, глядя на джунгли и океан; наблюдаю, как я сам исчезаю во тьме.
Даже сверчки умолкли. Они прекрасно понимают, что в их владения вторглось другое существо: с другой кожей, с другой кровью, с другим запахом дыхания. Оно не вписывается в гармонию этого уголка и всех его элементов. И поэтому пока сверчки притихли, оборвав свою жизнерадостную песню. Только папу по-прежнему сидит внизу, пребывая в своем мире. Даже потоп не заставил бы его волноваться о внешнем.
Мои глаза привыкли к темноте, уже лучше различая окружающий пейзаж. Единственная проблема – я вынужден сидеть неподвижно, так как крыша коридора сделана из тонкого листа металла и малейшее движение наделает много шума и нарушит спокойствие.
Признаю, больше всего я боюсь, что меня повалят на землю и потащат в Зеленую Зону или другой тюремный изолятор, как Отца Младенца. Я не могу не представлять себя в той же ситуации, что и несчастный, чьи стоны привели меня сюда, – на месте человека, чья боль терзает и меня. Кто знает, вдруг это моя собственная личность, превращенная в стон, в какую-то из грядущих ночей; может, это будущего меня бросили рыдать там.
И возможно, тогда уже другой человек окажется по эту сторону тюрьмы, разыскивая меня по стону, заберется сюда в попытках найти меня. Он окажется на крыше этого коридора, прямо у широких листьев мангового дерева, и пристроится здесь вместе со сверчками, объявившими себя шахами этой крошечной империи.
Я замираю, чтобы успеть насладиться краткими мгновениями свободы. В любом случае я оказался здесь по причинам, не поддающимся логическому объяснению. Я все равно не могу помочь тому несчастному, но хотя бы могу ощутить себя свободнее на эти несколько минут. Я почти забыл о зубной боли – какое облегчение. Боль время от времени выстреливает внутри десен, но чувство свободы настолько мощное, что боль не задевает меня, словно пуля, пролетевшая мимо цели, и теряется где-то вдалеке.
Сверчки – необыкновенные создания. С моим появлением они синхронно замолкают – все сразу. Будто оркестр, прекративший играть на пике композиции по одному сигналу дирижера: все музыканты безмолвно замирают на своих местах. Но, удостоверившись, что это новое существо, нарушившее их покой, неопасно, «оркестр» снова начинает играть. Однако прежний ритм им приходится наращивать постепенно. Сначала вступает крайне громкий сверчок, видимо, старший. Его голос громче стрекотания всех остальных, вместе взятых. Он начинает уже совсем другую песню. Когда она становится ровной и монотонной, через разные промежутки времени присоединяются другие. Результат налицо: хор в совершенной гармонии.
Тишина и умиротворение ночи словно разрастаются, но и все прочее тоже увеличивается, и в этом ночной парадокс. Страх стал еще страшнее; небо – еще темнее; кокосовые пальмы мечутся, как обезумевшие. Дрожащие на ветру ветви и листья шумят все громче и отчетливее. Даже океанские волны ударяются о берег острова с большей яростью, и их грохот сливается с остальными звуками ночи. Но повторюсь – всем этим дирижирует таинственное пение сверчков.
Сверчки и ночи – давние друзья /
Их древние узы разорвать нельзя /
Они говорят на одном языке /
Сверчки познали все о мраке /
Они хранят секреты тьмы /
Свидетели ужасов тюрьмы.
Я словно прирос к этому месту. Я стал элементом пейзажа. Теперь все живое здесь признало это зеленоглазое или голубоглазое существо, лежащее на крыше коридора, частью этого маленького мира. Мне хочется побыть здесь подольше, чтобы продлить освежающее чувство покоя и это новое, чудесное самоощущение. Я даже не задумываюсь о возвращении в тюрьму.
В подобных случаях мне каждый раз хочется закурить. Дурная привычка. А может, и хорошая. Не знаю. Но я никогда не был против этой зависимости – желания курить. Время от времени я забываю о сигаретах, как и в эту ночь. Я смотрю наверх, в темное небо, и уже не важно, захватил ли я их. Я все равно не смог бы закурить, ведь в тюрьме у нас нет зажигалок. Возможно, будь у меня с собой сигареты, желание курить усилилось бы, и мне бы пришлось спуститься с крыши коридора, чтобы закурить. А тогда я потревожил бы папу, вертящего палочку во рту.
Забыв о сигаретах, я задерживаюсь здесь подольше, а значит, дольше прислушиваюсь к стрекоту сверчков, дольше вслушиваюсь в рев океана, дольше прислушиваюсь к звукам ночи и шуму кокосовых пальм; позволяю звукам отдаваться в моих барабанных перепонках. Мало-помалу я забываю о стонах и стенаниях, доносящихся из Зеленой Зоны, – о том звуке, что привлек меня сюда. Моя тревога все равно не имеет значения, ведь у меня нет возможности что-то изменить. Я всего лишь неумелый воришка. Существо, которое умеет только забираться на крышу.
Неужели для каждого действия нужно находить логичную причину? Боже, каким обманщиком может быть человеческий разум. Я остаюсь здесь, с благоговейным трепетом вдыхая величие ночи и безмолвное безумство небес. Небо заволокло толстым слоем темных облаков. Я не могу разглядеть звезды, но чувствую, что они все еще светят там, за этой тьмой, даже в самых дальних уголках почерневших небес. И они будут дарить свой свет, пока не исчезнут.
За секунду я всем телом разворачиваюсь в сторону Зеленой Зоны: теперь моя правая рука, словно колонна, подпирает мою голову. Это еще одна из моих привычек. Мое тело часто движется бессознательно; его части принимают собственные решения вне моего контроля, без участия разума, им безразличны мои чувства. Эти решения принимают мои кости, а не мозг. В моменты покоя легкомысленное тело не слушается меня и самостоятельно меняет позу. Я не принуждаю разум приказать телу вернуться на прежнее место. Я не противлюсь, когда оно переворачивается на правый бок, согласуя движения мышц, опирается плечом о крышу, а голова ложится точно в ладонь.
Глаза мои, как и я сам, весьма необычно себя ощущают. Это уникальный момент: все, что я вижу, меняется, становясь причудливым.
Должна быть веская причина, почему я запрыгнул на крышу в несколько ловких движений, как кошка. Похоже, пока я наверху, мое тело действует независимо от сознания, а мой праздный разум занят обдумыванием, зачем я вообще здесь.
Но вот он я, на крыше. Кажется, что сейчас тут только сверчки. Но нет. Я тоже здесь, лежу, растворившись в их пении.
Может быть, безмятежность ночи так влияет /
Или равнодушие папу ко всему, что его окружает /
Или умиротворение, что дерево манго излучает /
Или все эти причины струны моей души задевают.
Может быть, всеобъемлющий ночной пейзаж задевает глубокие струны моего подсознания, и перед глазами возникают недосягаемые, далекие образы.
Я погружаюсь в мысли, наполненные запахами пороха и войны, полные любви, каштанов и пшеницы, голубей и куропаток. Мысли, полные гор. Эти размышления во тьме мирно наступающей ночи уносят меня в отдаленное прошлое, на далекую родину, пробуждая засевший глубоко внутри страх.
Честно говоря, я дитя войны. Да, я родился во время войны. Под гул военных самолетов. Рядом с танками. Во время бомбардировок. Я вдыхал запах пороха. Среди мертвых тел. На безмолвных кладбищах. Это были дни, когда война была частью нашей повседневной жизни, она бежала по венам нашего самосознания, словно кровь. Бессмысленная, бесполезная война. Абсурдная. С нелепыми целями. Как и все войны в истории. Война, которая разрушила семьи и опалила всю нашу яркую, зеленую и плодородную родину.
Я – дитя войны. Я не имею в виду, что был жертвой. Я не хочу, чтобы на меня навешивали ярлык с этим словом. Та война забрала свои жертвы… и продолжает их брать.
Жертвы огненного кошмара войны /
Жертвы ее безжизненного пепелища /
На порог жизни и смерти они приведены /
Контраст восторженных улыбок выживших /
И рыдающих матерей, покрытых кровью /
Весь край превратился в хранилище скорби /
Здесь царят страдание и голод /
Повсюду разрушения и холод /
Я вынужден кричать, чтобы меня услышали /
Я – дитя войны, ада и земли выжженной /
Дитя каштановых дубов Курдистана /
Что же я пытаюсь найти непрестанно? /
Пусть я безумен, но где же это место? /
Почему ночь напомнила мне о бедствиях? /
Я хочу уснуть и погрузиться в царство снов /
Фантазий, забвения и горных хребтов.
Откуда я пришел?
Из страны рек, страны водопадов, страны древних песнопений, страны гор.
Лучше сказать, что я спустился с вершин. Там, наверху, я вдыхал прозрачный воздух, смеялся и позволял ветру развевать мои волосы. Там, наверху, в маленькой деревушке посреди леса из старых каштановых дубов.
Наше прошлое изнурено войной. Боевые слоны из соседних земель решили вести многолетнюю битву на нашей яркой и пышной территории. Массивные и буйные, в своем неистовстве они растоптали каждый уголок своими тяжелыми ногами. Та война была не нашей войной. Мы не желали насилия. Не мы были режиссерами этого театра военных действий. Войны никто не ждал. Она обрушилась на нас, словно бедствие с небес, как голод или землетрясение.
Моя мать всегда вздыхала и говорила: «Мой мальчик, ты пришел в этот мир во времена, которые мы называли годами бегства». Эта фраза была обыденной в те мучительные годы. Это было время, когда люди убегали в горы из страха перед военными самолетами. Они забирали с собой все, что могли унести. Они скрывались в зарослях каштановых дубов.
Есть ли у курдов друзья, кроме гор?
Охваченные ужасом матери… движимые материнским инстинктом, они бежали с детьми в горы. Девушки искали воплощения своих мечтаний в сердцах мужчин, которых собирали в группы – их было множество – и уводили к линии фронта. Это множество возвращалось трупами. И все те же каштановые дубы стали пристанищем погребенных мечтаний.
Эти каштаны горды были с нами /
С нами скорбели, с нами рыдали /
Среди тех же гор мы вместе росли /
Среди этих дубрав мы спаслись из руин /
Они знают, как прекрасны девичьи мечтанья /
Как гибнут они, превратившись в страдания /
Юные мечты покоятся на склонах долин /
Под кронами каштанов, у скалистых вершин /
Финал коротких жизней – в тех темных лесах /
В дни, когда мы бежали, спасаясь в горах /
Дни ужаса, мрака и скорби /
Те дни мы навеки запомним.
Все, кто мог, бежали в горы со всех ног.
Пережив столько горестей и бед, они нашли убежище на скалах и в темных пещерах, бросив свои деревенские дома, еще хранившие следы прежнего уюта. Но другие оказались в ситуации догорающей свечи: она еще горит, но ее огонь не продержится до рассвета. Старики с длинными глиняными трубками… Жертвы войны… Ими пришлось пожертвовать… Пока молодые бежали… Старики оставались до самого конца, наедине с памятью, и предавались воспоминаниям, пока не умерли от голода и жажды. Все самые старые и слабые – те, кто не смог добраться до гор, – были обречены на смерть. Это жестокие реалии тех времен, так развивались события, иначе и быть не могло.
Таков безжалостный закон природы. Из ее разоренного чрева рождаются как созидатели, так и разрушители, разжигатели новых войн. Все окрашено скорбью и мраком. Мечты… надежды… плодородный край… улыбки… красота… все уничтожено.
Эти правила диктует война. В то время у власти была династия террора и смерти. Она не пощадила никого. Война затронула всех. Отцы против сыновей, сыновья против отцов. Все это стало порождением страха, а над превращенной в кошмар реальностью разносилось ржание инфернального коня, олицетворения смерти. Но даже в этом кошмаре в последние дни появилась… любовь.
Вражда достигла апогея, и зубы заскрежетали от лютой ненависти. Вскрылись старые раны, и боевые клинки вонзились в выгребную яму истории – истории ненависти, и разнесли ее мерзость по тому, что когда-то было полями дружелюбия; по нашей пышущей жизнью, зеленой и плодородной родине. Над ней повис запах гнили. Даже враги не узнавали друг друга. Один отряд со стальной решимостью, сражавшийся во имя религии. И другой отряд, также сражавшийся во имя религии. С одной стороны разрядили обоймы иракские баасисты[93]93
Баасизм – арабская националистическая идеология, пропагандируемая при Саддаме Хусейне. Прим. Омида Тофигяна.
[Закрыть]. С другой – открыли огонь иранские фанатики. А между ними были наши дома, которые пришлось оставить заброшенными. Два огромных боевых слона – и оба сеют только боль.
Пешмерга[94]94
Пешмерга – курдские вооруженные силы, борцы за свободу. Партизанское движение, сражавшееся во время Ирано-иракской войны против армий обеих стран. Прим. Омида Тофигяна.
[Закрыть] также сражались в горах. Само их название олицетворяло защиту Родины и достоинства. Это была война без конца, как и все остальные войны в истории. Война, уходящая корнями в более ранние войны. А те войны имели корни в других войнах. Цепочка войн, рожденных в глубинах истории. И спустя столетия это семя ненависти снова проросло и расцвело кровавым цветом.
Эти горы стали свидетелями кромешного ужаса /
А древние каштаны скорбели, когда жизни рушились.
Я родился в котле этой войны. Это было отвратительное рождение, провонявшее коровьим навозом. Будто все сущее объединилось, сговорившись, и наконец их коллективная воля забросила меня в этот мир. Словно стрелу, выпущенную из лука, меня отправили в чертог страданий. Чертог, состоящий из отвращения, непристойностей и боли. Война. Заброшенная деревня. Старики с длинными глиняными трубками. И грязный хлев. Вот все декорации этой сцены. Словно театр, имитирующий жизнь, с запахом свежего навоза.
Когда человека приводят в этот мир ужасный /
Велика ли разница, родится ли он в хлеву грязном /
Рядом с коровами в деревне заброшенной /
Или в подобии райского сада ухоженного /
Где все наполнено ароматом успеха и процветания /
И тем, и другим жизнь приносит страдания.
Неужели этот хлев выбрали намеренно, чтобы выделения новорожденного не пачкали более «чистые» места? Чтобы в нем осталась «грязь» ребенка, только что появившегося на свет? Ребенка, рожденного во время войны и уже пострадавшего от нее? Есть простая поговорка: «Дом всегда должен быть чист». Это и вправду нелепо. Абсурдно. Более того, это оскорбительно. Как это возможно, что уязвимый новорожденный и еще более уязвимая мать могут принести в этот мир «грязь»? Какую грязь? Разве в этом мире осталось хоть одно незапятнанное место? Все переулки, все деревни, все города… все они переполнены дерьмом. Все здания. Все сады. Все фермы. Все минареты. Все они осквернены. Так что это за чушь о необходимости приводить новорожденного в мир в хлеву для коров, среди куч навоза? Я уверен, что в момент моего первого крика коровы были так потрясены, что просто качали головами.
Это знаменательное событие, когда даже корова понимает, что вокруг нее происходит что-то особенное и на свет рождается нечто уникальное. Когда корова качает головой в разрушенном городе, разоренные войной люди истолковывают это как некий знак свыше и придают ему особый смысл.
Моя мать рассказывала мне: «Когда ты изо всех сил пытался ворваться в мир людей, когда ты наносил последние удары по стенке моего чрева своими крошечными ножками, я будто куда-то уплывала… и потеряла сознание». Я знаю, о чем вы думаете: проход был узким, а моя голова – слишком большой! Или что я был непослушным с самого рождения? Нет, нет. Так мыслят люди в привилегированном положении, у кого есть такие достижения науки, как скальпель для кесарева сечения. Моя же мать была просто изнурена от голода.
Я родился во время войны, что обрушилась на нас как гром среди ясного неба. Она травмировала даже психику новорожденного… Засела в его подсознании, словно осколки в жизненно важных органах… Отпечаток войны остался в нем… навсегда. Однако детство может быть еще более сложным и бурным периодом, чем война. Пока я рассказываю об этом, возникает ощущение послевоенного затишья, когда мир уже изменился, пускай он и не станет прежним.
Детство – это наша самая первая битва; детство – это мифическое сказание, законченный эпос. Все люди рождаются крошечными, обнаженными и уязвимыми – так начинается любой жизненный путь. Детство – это постоянное движение и изменение, но в то же время оно неразрывно связано с будущей смертью.
Я стараюсь описывать свои размышления как сторонний наблюдатель, беспристрастно глядя сверху. Это позволяет мне решительно препарировать свой опыт. Я использую текст, словно меч, глубоко вонзая его в свои переживания, как в моменты после пробуждения от кошмара о бесплодной холодной ночи. Кошмара, запечатлевшего саму жизнь.
Мои самые ранние детские воспоминания – это налеты военных самолетов, безжалостно вспарывающих небо над деревней, укрытой в лесах из каштановых дубов; это страх, пробирающий до костей. Бог свидетель – когда завывали сирены, когда гремели самолеты, когда ревели танки, за этим самоотверженно наблюдали именно женщины. Много раз я представлял себе мертвых людей, лежащих на развалинах домов, стертых стотонными бомбами, сброшенными прямо на крыши жилищ, где эти люди родились и выросли. Обломки, дым, пыль, смог, ударные волны, жар, разноцветные искры… масштаб всего этого… это проникает в самые глубинные слои разума. Однако такая смерть считалась самой безболезненной и милосердной. Даже мне кажется, что это самый мирный способ умереть, ведь ты просто исчезаешь в одно мгновение.
Вполне возможно, что боль и травмы войны я впитал через мать. Женщины воспринимали войну как стихию – своего рода потоп или тайфун. Как борьбу за выживание – и они выживали на протяжении всей войны. Во всех моих воспоминаниях о войне нет ни одного мужчины рядом. Я видел только детей и женщин.
Я – дитя войны /
Я рос на руинах страны /
Которую атаковало чудовище из мифов /
Оставившее лишь пустошь после взрывов /
Война – одна из четверки близнецов /
Остальные – лишения, ужас и нищета /
В отличие от войны, нищеты и лишений /
Жизнь полна смысла и значений /
Потому она восстает даже из руин и хаоса /
Моя жизнь возникла, как зелень на месте пожарища /
Из красоты, скрытой под мерзостью запустения /
Жизнь всегда найдет путь, она есть движение /
Жизнь – словно открытая книга /
Как раскрытые объятия любимой /
Жизнь – в радости от прикосновения к шелку ее кожи /
Когда от ее красоты отвести взгляд не можешь /
Жизнь струится в ее волосах цвета красного вина /
Жизнь случайна и непредсказуема; это просто судьба /
Рождение – это чудо, словно загорающаяся звезда /
Что в итоге остынет и угаснет навсегда.
Я будто распадаюсь на части, мое обветшалое прошлое раздроблено и рассеяно, неспособное снова стать целым. Сборник сцен из прошлого – словно страницы короткого рассказа, пролистываемые со скоростью света. Мне кажется, восточных людей что-то ограничивает: их разум созревает и осознает свой потенциал немного позже. И потом они часто не понимают, как верно распорядиться своей самостоятельностью и свободой. По мере взросления мы просто дрейфуем от родительской семьи к друзьям… от этих друзей к другим друзьям… из нашего города в другой город… к новой любви… к своей семье и рождению еще одной жизни… и в итоге к еще одной смерти.
Я должен признаться, что до сих пор не знаю, кто я и кем стану. Я переосмысливал все свое прошлое снова и снова. Некоторые его детали раскрылись после смерти моих близких. Другие прочно застыли в моем сознании. По мере того как я становлюсь старше, эти образы формируются в разрозненные и разобщенные островки в океане памяти. Жизнь полна таких островков; и все они друг для друга будто чужие земли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.










![Книга Четвертая производная [Небо в алмазах] автора Дмитрий Биленкин](/books_files/covers/thumbs_100/chetvertaya-proizvodnaya-nebo-v-almazah-37968.jpg)





























