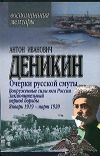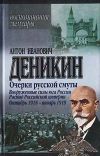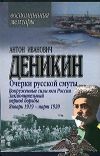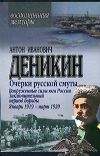Текст книги "Контрреволюция"

Автор книги: Борис Энгельгардт
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Глава 8
Выступление Корнилова
За время моего пребывания в Москве я услыхал много для меня нового, но все это новое не столько уяснило мне политическую обстановку, сколько указало только на всю сложность создавшегося положения.
Несомненно, назревали какие-то события, которые грозили вылиться не в форму словесных схваток на трибуне, а привести к вооруженным столкновениям. При этих условиях деятельность «Республиканского центра» стала мне представляться могущей сыграть известную роль.
По возвращении из Москвы в Петроград я поспешил в нашу конспиративную организацию, с тем чтобы поделиться с Николаевским и Финисовым впечатлениями, вынесенными из Москвы.
Финисов незадолго перед тем побывал в Ставке, но он на основании слышанного пришел к заключению, что активных действий со стороны Корнилова в ближайшем будущем не предвидится. В отношении предстоящих активных действий Финисов находился под влиянием окружения Корнилова, которое готовило свержение Керенского. Вмешательство Львова могло, казалось, нарушить эти планы. Что касается готовности к выступлению в Петрограде, мнения расходились. Штатские руководители Николаевский и Финисов считали почву подготовленной в достаточной степени. Между тем из разговоров с офицерами, входившими в состав нашей военной секции, и даже с самим Сидориным, я делал вывод, что подготовки к выступлению, строго говоря, не было никакой. Не было точно разработанного плана, где собраться офицерским отрядам, куда следовать, какие учреждения захватывать в первую очередь, кого арестовывать и прочее. Были лишь одни общие рассуждения и споры о том, что надо делать. Этот свой вывод я откровенно высказал Николаевскому. Он остался им недоволен, опровергал его, упрекая меня в необоснованном пессимизме.
Прошло несколько дней. Днем 26 августа после завтрака в Новом клубе я читал газеты в читальне, когда в клубе неожиданно появился Владимир Львов и сказал, что ищет меня, что только что был в гостинице Астория, где я проживал в то время, что ему необходимо переговорить со мною о неотложном деле.
Когда мы уединились, он сообщил мне, что только что вернулся из Ставки и привез с собой ультиматум Корнилова, ультиматум словесный, который он должен немедленно передать Керенскому.
Рассказывая о своих переговорах с Корниловым, Львов сообщил мне, что сам Корнилов не думает о «свержении» Керенского, что он в дальнейшем готов на сотрудничество с ним и с Савинковым, но что ввиду назревающей опасности со стороны большевиков он считает необходимым принять экстренные меры, а Керенского неспособным на это. Львов будто бы предложил Корнилову три варианта возможных действий: 1. Предоставление диктатуры Керенскому. 2. Создание директории из трех лиц, в число коих должен входить и Корнилов. 3. Передача полной власти Корнилову.
Корнилов считал Керенского абсолютно негодным в роли диктатора, комбинацию из трех лиц признавал не гарантирующей определенной целеустремленности власти и потому настаивал на предоставлении полноты власти ему лично как Верховному главнокомандующему. При таких условиях он готов привлечь Керенского и Савинкова в качестве министров сформированного им кабинета.
Часть разговора Львова с Корниловым происходила в присутствии Завойко, и адъютант неоднократно вмешивался в разговор и перебивал и поправлял главнокомандующего. Львову казалось, что Завойко играет в Ставке роль большую, чем соответствующую его служебному положению. После разговора с Корниловым Львов имел беседу наедине с Завойко и вынес впечатление, что он замышляет что-то против Керенского. Завойко усиленно настаивал на том, чтобы Львов уговорил Керенского лично приехать в Ставку. Я полагал, что передача ультиматума в той форме, которую придавал ему Львов, должна неминуемо вызвать подозрение в Керенском.
Львов очень много говорил о подозрительной роли Завойко: если об этом услышит Керенский, то, конечно, усмотрит в приглашении в Ставку готовящееся на него покушение. К тому же из слов самого Львова я вынес впечатление, что сам Корнилов был не столь ультимативен, как это хотел изобразить Львов. Мне казалось, что Корнилов хотел видеть во Львове посредника, а не передатчика ультиматума.
Это я и высказал Львову, советуя ограничиться ролью посредника, не пугая Керенского ультиматумом, добиться от него контрпредложений и передать их Корнилову, одним словом, наладить связь между главой правительства и вождем армии, которую он же считает необходимой.
Однако Львов был одержим своей идеей, он считал, что выступает в роли «спасителя родины» и что вопрос не терпит отлагательства. Закончив разговор со мной, Львов поспешил к Керенскому.
Много спустя Львов рассказывал мне о том, как Керенский принял передачу ультиматума. Как только Львов заявил, что пришел от лица Корнилова, Керенский бросился к нему и быстрым движением рук ощупал все его карманы, видимо ища револьвера. Только после этого он продолжал разговор.
Львов якобы старался добиться соглашения в интересах государства, а Керенский видел в его речах лишь посягательство на его, Керенского, власть. Упоминание о роли Завойко, конечно, сильно напугало Керенского.
В дальнейшем он по прямому проводу запросил Корнилова, подтверждает ли он все переданное Львовым, не сообщая, что именно было передано. Корнилов доверчиво ответил, что подтверждает. Тогда Керенский арестовал Львова.
Когда Львов поехал предъявлять ультиматум Керенскому, я немедленно направился в «Республиканский центр», с тем чтобы предупредить его главарей о возможности наступления политических осложнений уже на следующий день. Они поспешили уведомить обо всем полковника Сидорина, но сами продолжали сомневаться в том, что вмешательство Львова может изменить планы Ставки.
Однако наутро по городу поползли какие-то слухи о приближении к столице конного корпуса под командой генерала Крымова, а на следующий день, 28 августа, Керенский объявил Корнилова изменником, подлежащим аресту и революционному суду.
В городе сразу создалось тревожное настроение. Надо было его использовать. Надев штатское платье, я обошел казармы полков Преображенского, Павловского и Измайловского. То же самое проделали несколько офицеров, входивших в нашу организацию. Мы знакомились с настроением солдат и всюду обнаруживали растущее тревожное состояние: перспектива возможной резни тогда еще отталкивала всех и даже пугала многих; к ужасам Гражданской войны привыкли позднее, когда границы лагерей революции и контрреволюции обозначились яснее. Многих пугало приближение какой-то неизвестной «Дикой дивизии»[130]130
Имеется в виду Кавказская туземная конная дивизия – кавалерийская дивизия, иногда именуемая «Дикая дивизия», одно из соединений Русской императорской армии. Сформирована 23 августа 1914 года, на 90 % состояла из добровольцев-мусульман – уроженцев Северного Кавказа, которые, по законодательству Российской империи, не подлежали обязательному призыву на военную службу (Грондайс Л. Праздник байрам в «Дикой дивизии» // История – Первое сентября. 2016. № 7/8. С. 27–29).
[Закрыть] под командой генерала Крымова, якобы отличавшегося исключительной свирепостью. Мы все, со своей стороны, пытались еще развить и усилить тревожное настроение в людях, старались понизить охоту к сопротивлению, соблазняя возможностью мирного, безболезненного разрешения конфликта при подчинении требованиям Крымова.
Время шло. Военные мероприятия Керенского были как-то незаметны. Казалось, что он не очень уверен в войсках Петроградского гарнизона.
Но и наша военная секция не предпринимала ничего, кроме разведки и некоторой агитации. Я начинал думать, что нам пора проявлять большую энергию.
Среди дня я поехал в клуб Конституционно-демократической партии, кадетов, где рассчитывал найти Шингарева[131]131
Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) – врач общей практики, публицист. Один из основателей кадетской партии, автор ее аграрной программы, член Государственной думы II–IV созывов, во Временном правительстве – министр земледелия, затем министр финансов. Убит матросами и красногвардейцами 7 января 1918 года в Мариинской больнице.
[Закрыть] и переговорить с ним о своевременности коллективного выступления на стороне Корнилова.
Шингарев не считал возможным открыто выступать против Временного правительства, в состав которого входили члены партии. Видно было, что он в душе сочувствует Корнилову, но до полного выяснения, на чьей стороне сила, предпочитает не вмешиваться в конфликт. Я понял, что вожаки наиболее сильной буржуазной партии не желают принимать непосредственного участия в деле, которое пахнет кровью.
Пассивность, проявленная Шингаревым, невольно отражалась и на моем личном настроении. Все же я поехал на конспиративную квартиру военной секции, где проживал Сидорин.
Там я встретил выжидательную позицию. Сидорин до появления на улицах города войск Крымова не предполагал проявлять активность. Он, очевидно, на легкий успех не надеялся, а для серьезной борьбы считал свои силы недостаточными.
Покушение с негодными средствами всегда представлялось мне самым бессмысленным делом, и к нему, конечно, сводилось бы несвоевременное выступление офицерских отрядов Сидорина. Я сам раньше указывал на неподготовленность нашей военной секции, но в данный момент считал, что весь смысл нашей конспиративной деятельности заключается в оказании помощи наступающему Крымову: ведь, поскольку его войска появятся на улицах города, наша помощь уж не так будет нужна, а заблаговременный подрыв порядка в Петрограде мог бы оказать существенную помощь.
Наша неспособность оказать эту помощь, рисующая всю бессмысленность деятельности пресловутого «Республиканского центра», собиравшегося сыграть решающую роль в организации власти в стране, меня глубоко огорчала.
Но винить было некого. Винить я должен был бы прежде всего самого себя.
В первые дни революции я пришел к заключению, что развитие революции можно остановить лишь потоками крови. Потом во мне возобладали искания мирных путей для сохранения того, что в моих глазах являлось ценным в старом укладе. И, когда мне предложили взять на себя руководство военной секцией контрреволюционной организации, я уклонился от этого.
Уклонился потому, что у меня не было веры в успех всего нашего предприятия, а готовность идти на борьбу, решительную кровавую борьбу, еще не созрела. На эту борьбу толкнуло меня, как и многих других людей моего класса, чувство самосохранения, возникшее во многих из нас, когда политическое положение в стране обострилось до крайней степени.
Потому не мне было обвинять и Шингарева, и Сидорина, и кого бы то ни было в бездействии и пассивности в решительную минуту.
Между тем на подступах к Петрограду наступление конного корпуса замедлилось, потом замерло на месте, хоть нигде не встречало решительного отпора.
Дело заключалось в том, что в этом столкновении гражданской войны с обеих сторон были применены своеобразные приемы «бактериологической войны». Мы пытались привить солдатам Петроградского гарнизона микроб нерешительности и нежелания драться. Керенский обратился за помощью в Совет рабочих и солдатских депутатов, и их агитаторы с большим успехом, чем мы, привили революционный микроб наступающим войскам. В их частях появились агитаторы, в том числе петроградский мулла, владевший наречиями полков «Дикой дивизии», и разложение корпуса Крымова наступило быстро. В казаках Крымова имелись контрреволюционные настроения, но в данный момент они еще не чувствовали угрозы их интересам, а призывы к продолжению войны их не могли увлечь. Охоты идти на братоубийственную войну у них не было, как и у солдат гарнизона столицы, а потому они сочувственно встречали мирные предложения петроградских агитаторов.
Крымов почувствовал, что войсковые части вышли из его рук, что они не будут беспрекословно выполнять его распоряжения, и счел вынужденным пойти на переговоры с Керенским, а затем и на полную капитуляцию. Он прибыл лично в Петроград и после разговора с Керенским, уже арестованный, но не обезоруженный, застрелился.
Крымов пользовался репутацией исключительно энергичного и дельного офицера Генерального штаба. Я знал его с давних пор. Мы одновременно проходили курс в Академии, он был на год старше меня по курсу, и там у нас почти никаких отношений не установилось.
Мы встретились вновь в Манчжурии во время Японской войны 1904–1905 годов. Вернувшись на фронт после ранения, я был назначен в штаб 1-й армии, расположенный в м. Херсу. Почти рядом находился и штаб 4-го Сибирского корпуса, в котором служил Крымов. Когда начались мирные переговоры и оперативная работа в штабах затихла, Крымов очень часто появлялся в нашем штабном собрании, импровизированном в китайской фанзе, и мы с ним тогда близко сошлись. Я даже скакал на его лошади на скачках, организованных в Херсу по случаю заключения мира.
За время войны о Крымове сложилось мнение, что он офицер храбрый, не боящийся не только неприятельских пуль, но и строгого начальства, и при том большой работоспособности. Командир корпуса генерал Зарубаев очень дорожил им и спускал ему подчас не совсем тактичные выходки.
Вспоминаю, как я зашел как-то раз в помещение штаба 4-го корпуса; в соседней комнате фанзы помещался командир корпуса, у которого был с докладом Крымов, и через тонкую стенку до нас доносились громкие раскаты его голоса. Через пару минут Крымов вошел в помещение штаба и, не сбавляя голоса, с горячностью стал возмущаться каким-то распоряжением Зарубаева, не стесняясь в выражениях по его адресу. Я только что собирался умерить его пыл, когда в помещение вошел адъютант Зарубаева и передал просьбу генерала: «Командир корпуса просит капитана Крымова не кричать так громко, потому что через тонкую стенку ему все слышно».
После войны Крымов работал в Главном управлении Генерального штаба и опять-таки считался одним из немногих офицеров штаба, позволявших себе не всегда соглашаться с мнением генерал-квартирмейстера Данилова[132]132
Данилов Георгий Никифорович (1866–1937) – генерал от инфантерии, генерал-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба. Имел в армии прозвище Данилов Черный, чтобы отличать его от сослуживцев – генералов Данилова Рыжего и Данилова Белого.
[Закрыть] (по прозвищу Черный), который положительно не терпел возражений.
Во время Первой мировой войны его репутация выдающегося офицера упрочилась окончательно. Штаб армии, в котором он работал, поручал ему наиболее ответственные дела. У него обнаружилось редкое, ценное качество: умение быстро схватывать обстановку и брать на себя ответственность за то или иное решение в острые моменты на фронте.
Однажды он был командирован для выяснения обстановки в расположение кавалерийской дивизии. Начальник дивизии, обрисовав положение, сообщил Крымову о принятом им решении отойти на какой-то рубеж ввиду опасения за свои фланги. Крымов молча слушал генерала, глядя себе под ноги. Потом, ни слова не возражая, отошел в сторону, вынул из походной сумки полевую книжку и карту, быстро написал несколько строк и передал листок генералу, несколько удивленному таким поведением полковника.
На листке было написано: «Командующий армией приказал… дивизии перейти в наступление в направлении…», и т. д. Подпись: полковник Крымов. Это была стереотипная формула передачи приказания старшего начальника, но в данном случае Крымов брал целиком ответственность на себя за отданное распоряжение. Последующие события на фронте вполне оправдали принятое им решение.
В отношении к солдату Крымов был прост и доступен. Вот отзыв, который мне пришлось недавно услыхать от былого унтер-офицера царской армии, большевика, вступившего в партию в 1917 году, который лично хорошо знал Крымова: «По своим привычкам и действиям Крымов легко мог бы стать нашим “советским начальником”, нужен был только своевременный, соответствующий подход к нему…»
Что касается социальных проблем, то я думаю, что Крымов, как и большинство офицеров того времени, был далек от них. Между тем он не чужд был политики. Он отрицательно относился к Николаю Второму, к его окружению, к правительству последнего времени, особенно с тех пор, как война наглядно вскрыла все недочеты правительственной системы. Устранение этих недочетов он видел не в коренной ломке всего старого строя, а в смене лиц, стоящих у власти, начиная с самого царя. Он принимал участие в переговорах группы лиц, в том числе Гучкова и Некрасова, затевавших дворцовый переворот.
Когда разнеслась весть о самоубийстве Крымова, ей сначала не хотели верить. Многие думали, что Крымов был застрелен по приказанию Керенского. Много позднее мне пришлось слышать от Деникина, что Корнилов получил записку от Крымова, написанную, вероятно, перед его поездкой в Петроград к Керенскому. Крымов сообщал Корнилову о своем решении покончить с собой.
Думаю, что при всей своей храбрости и энергии Крымов был чрезвычайно впечатлительный человек. Мне пришлось видеть его однажды в нервном настроении, которое до некоторой степени может служить объяснением того, что, потерпев моральное поражение в результате своего наступления на Петроград, он не выдержал и пошел на самоубийство.
Мы встретились с Крымовым вскоре после поражения армии Самсонова[133]133
Масштабное наступление Русской армии в Восточной Пруссии в августе 1914 года закончилось разгромом 2-й армии генерала А. В. Самсонова, который стал одним из самых тяжелых поражений России в Первой мировой войне. Причинами поражения были ошибки генерала Самсонова, не сумевшего организовать оперативное управление частями армии; плохая работа русской разведки, полное пренебрежение элементарными правилами секретности в русском штабе.
[Закрыть] в Восточной Пруссии в августе 1917 года. Я не помню в точности, какую роль пришлось ему играть в этой операции, но я видел, какое удручающее впечатление произвел разгром 2-й армии на Крымова. Нельзя было узнать всегда спокойного, уверенного в себе Крымова в этом до крайности разнервничавшемся офицере, у которого при воспоминании о развитии катастрофы все время в глазах стояли слезы. Возможно, что, взяв на себя выполнение задачи, которой он сам придавал исключительное значение, которая в его глазах должна была привести к разрешению судьбы всей страны, и не добившись успеха, он не нашел в себе силы на дальнейшую борьбу и решил уйти из жизни.
После капитуляции Крымова дальнейшая ликвидация Корниловского выступления пошла очень быстро.
Использовав помощь слева, Керенский постарался использовать помощь справа. Он убедил генерала Алексеева выступить посредником между ним и Корниловым. Алексеев вел переговоры со Ставкой по прямому проводу. Он убедил Корнилова, что нет причины опасаться выступления большевиков в Петрограде и что потому отпадает главная причина направления конного корпуса к столице. Корнилов, обескураженный неудачей Крымова, подчинился Керенскому и сдал должность Верховного главнокомандующего Алексееву.
Последовали аресты – самого Корнилова, генералов Лукомского[134]134
Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) – генерал-лейтенант, один из организаторов Добровольческой армии.
[Закрыть], Романовского, полковника Плющевского-Плющик[135]135
Плющевский-Плющик Юрий Николаевич (1877–1926) – генерал-майор, первопоходник, один из руководителей Вооруженных сил юга России.
[Закрыть] и других. Одно время подвергся аресту и Аладьин. В Бердичеве были арестованы генерал Деникин и полковник Марков[136]136
Марков Сергей Леонидович (1878–1918) – военный ученый и преподаватель Академии Генерального штаба, один из лидеров Белого движения на юге России и организаторов Добровольческой армии, первопоходник. Культовый герой в среде Добровольческой армии, именем Маркова был назван Офицерский полк, а затем блок цветных частей (марковцы) (Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг. М.: Посев, 2012. 704 с.).
[Закрыть], заявившие в начале конфликта о своей солидарности с Корниловым. Все эти лица в дальнейшем возглавили контрреволюционное движение на Юге России и играли видную роль в Гражданской войне.
В развитии и ликвидации Корниловского выступления совершенно различные позиции заняли два военачальника, возглавлявшие посты не на фронте, а внутри страны: донской атаман генерал Каледин и командующий войсками Московского военного округа полковник Верховский[137]137
Верховский Александр Иванович (1886–1938) – генерал-майор, военный министр Временного правительства. С мая 1917 года – командующий войсками Московского военного округа. В июле 1917 года находившиеся под его командованием войска подавили солдатские выступления в Нижнем Новгороде, Твери, Владимире, Липецке, Ельце и др. При этом эти действия Верховского получили поддержку со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. В августе 1917 года пытался убедить генерала Л. Г. Корнилова отказаться от выступления. Когда же это выступление все же состоялось, стал его противником, объявил Московский военный округ на военном положении, выделил пять полков для нанесения удара по Могилеву, где находилась Ставка Верховного. По его приказу были арестованы или смещены со своих должностей сторонники Корнилова в Москве, проведены обыски в Московском отделе Союза офицеров армии и флота.
[Закрыть].
Каледин был не только вполне солидарен с Корниловым, но он в своем выступлении на Московском государственном совещании шел дальше Корнилова в своих требованиях к Временному правительству. Незадолго до своего выступления Корнилов потребовал от Каледина сосредоточения казачьих частей на Дону, на северной границе Донской области. В связи с этим Каледин объезжал северные районы, области как раз в момент Корниловского выступления. Это было понято как желание пресечь подвоз продуктов с Юга России к столицам. Командующий войсками в Москве Верховский послал телеграмму Каледину, угрожая встретить казаков огнем, если они перейдут границы области. Керенский, со своей стороны, опираясь на Советы на Дону, отдал приказ об аресте генерала, объявив его мятежником и предателем Родины. Положение Каледина осложнилось, и он не без труда избег ареста. Однако на его сторону стал Донской Круг, на котором Каледину удалось доказать, что он не собирался останавливать подвоз хлеба к столицам, и после длительных переговоров обвинение Каледина в измене было снято и был установлен временный, хоть и довольно плохой мир.
Верховский, наоборот, уже со дня своего назначения в Москву явно выражал несочувствие к политике Корнилова. Когда началось Корниловское выступление, он это свое несочувствие резко выразил в телеграмме, посланной Каледину.
Командующий войсками Московского военного округа был сравнительно молодым офицером, он был только что произведен в полковники и на большой пост командующего войсками, а затем на еще больший – пост военного министра – был вынесен революционной волной, которая поставила его на несколько месяцев на вершины власти.
Еще в юные годы он проявлял либерализм, который в условиях, в которых он обретался в то время, оказался недопустимым и повлек за собой для него неприятные последствия.
Он кончал Пажеский корпус в 1905 году. Был первым учеником, фельдфебелем и камер-пажом самого царя. Он, несомненно, выделялся среди товарищей по способностям и общему развитию, но обладал преувеличенным самомнением, которое выражал в насмешливом и пренебрежительном отношении к окружающим. Товарищи его не любили.
Зимой 1905 года время было тревожное: только что отгремели 9 января залпы на Дворцовой площади по рабочим, пришедшим просить заступничества у царя. Верховский, камер-паж Николая Второго, позволил себе вести какие-то либеральные разговоры о событиях 9 января с вестовыми корпусного манежа. Товарищи, не любившие самоуверенного фельдфебеля, подслушали эти разговоры, возмутились и донесли о них не начальству, а, по традициям корпуса, в порядке товарищеской иерархии, старейшему бывшему пажу, одному из генерал-адъютантов царя.
В результате по распоряжению военного министра было назначено строгое расследование дела, и Верховского разжаловали в рядовые и отправили искупать грехи в действующую армию в Манчжурию. Там он отличился, получил знак отличия военного ордена, так называемый «солдатский Георгий»[138]138
Так называемый солдатский Георгий – знак отличия Военного ордена – причисленная к ордену Святого Георгия награда в Русской гвардии, армии, флоте, для нижних чинов с 1807 по 1917 год. До 1913 года имел неофициальное название Георгиевский крест; в 1913 году оно было официально закреплено в статуте. Знак отличия Военного ордена являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля.
[Закрыть], был произведен в офицеры, потом успешно окончил Академию Генерального штаба и на Первую мировую войну выступил уже в должности начальника штаба дивизии или офицера для поручений в штабе корпуса. Вскоре он был ранен, получил офицерский Георгиевский крест и был произведен в полковники.
Я познакомился с ним незадолго до революции. Он приехал с фронта в Петроград и на квартире своего знакомого, члена Государственной думы Ковалевского, делал маленький доклад о моральном состоянии нашей армии. Я был в числе приглашенных, доклад Верховского меня заинтересовал, и, так как я сам провел 15 месяцев на фронте и имел собственные представления по существу доклада, у нас с ним завязался интересный для нас обоих разговор, который мы решили продолжить на следующий день за завтраком в ресторане Пивато.
Во время этого завтрака я был свидетелем встречи Верховского с одним из его товарищей по корпусу, который был его главнейшим противником и обвинителем в 1905 году. Эта встреча и настроение этого товарища, ротмистра Скалона[139]139
Скалон Николай Дмитриевич (1886–1946) – полковник лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка, участник Перовой мировой войны и Белого движения.
[Закрыть], наглядно свидетельствовали о том, какие сдвиги произошли в политических представлениях гвардейских офицеров, верных защитников престола, за время войны. Скалон, который десять лет перед тем считал Верховского зловредным революционером и не хотел даже здороваться с ним, теперь дружески жал ему руку и просил не вспоминать о старом.
После революции Верховский довольно искусно использовал свою репутацию человека, пострадавшего за свои политические убеждения в царское время, сумел войти в окружение Керенского и, когда тот принял Военное министерство, был назначен командующим войсками в Москве. Его поведение во время Корниловского выступления выдвинуло его в глазах Керенского, и тот, уволив Савенкова, назначил Верховского военным министром.
Верховский был, несомненно, человек умный, способный быстро схватывать обстановку и делать при этом соответствующие выводы.
Он оказался первым членом Временного правительства, решившимся заявить с трибуны Предпарламента о том, что армия больше не боеспособна и что мы стоим перед необходимостью заключить мир. Недостаточная опытность в правительственных приемах повлекла за собой его столкновение с министром иностранных дел, в результате которого Керенский счел себя вынужденным расстаться со своим молодым военным министром.
С самим главой правительства, с Керенским, я познакомился в Государственной думе в 1912 году. Он был значительно левее меня, и, кроме двух-трех разговоров о каких-то распоряжениях военного министра, никакого общения у меня с ним не было вплоть до революции. В Государственной думе Керенский выступал всегда с яростными нападками на правительство. Форма его выступлений мне не нравилась, он говорил слишком быстро, точно захлебываясь в истерике. По существу я иногда соглашался с ним, но обычно видел в его речах много преувеличений. Во время революции мне много приходилось с ним общаться, и у нас установились некоторые отношения. Моя последняя встреча с ним была в эмиграции, в Париже. Я напомнил ему о том разговоре в Таврическом дворце вечером 1 марта 1917 года. Он с торжеством говорил о победе революции, а я возразил ему, что победу-то я вижу, но невольно с некоторым опасением вспоминаю об участи жирондистов. Керенский засмеялся и, покровительственно хлопнув меня по плечу, точно успокаивая меня, сказал: «Это верно, вы жирондист, но это не означает, что вас ждет их участь…»
Вспоминая об этом разговоре, я шутливо заметил, что теперь, в Париже, мы встретились оба в одинаковой роли жирондистов[140]140
Жирондисты (фр. Girondins) – одна из политических партий в эпоху Великой французской революции.
[Закрыть], благополучно ускользнувших от якобинцев[141]141
Якобинцы (фр. Jacobins) – участники радикально-левого политического движения в эпоху Великой французской революции.
[Закрыть]. И я процитировал ему несколько строк из старинного стихотворения Каролины Павловой[142]142
Павлова Каролина Карловна (урожденная Яниш, 1807–1893) – русская поэтесса, переводчица. Стихотворение «Разговор в Трианоне» написано в 1848 году и стало откликом на революционные события 1848 года. (Подробнее см.: К. К. Павлова. Полное собрание стихотворений / вступ. статья П. П. Громова; подготовка текста и примечания Н. М. Гайденкова. М.; Л.: Сов. писатель, 1964.)
[Закрыть], изображающих речь Калиостро в беседе с Мирабо:
И вашим внукам расскажу я,
Что, восставая и враждуя,
Вы обрели в своей борьбе,
К чему вас привела свобода,
И как от этого народа
Пришлось отречься и тебе…
Ни моя шутка, ни приведенное мною стихотворение не понравились Керенскому. Он, конечно, продолжал считать себя подлинным революционером, не понятым на родине, и становиться со мной на одну доску не хотел.
В то время я находился еще под впечатлением недавнего разгрома всего Белого движения и, вспоминая Корниловское дело, думал, что в августе 1917 года, может быть, был упущен единственный благоприятный момент для удержания революции в тех пределах, которые я тогда считал допустимыми. Я это высказал Керенскому и упрекнул его в том, что он, вместо того чтобы поддержать Корнилова, постарался сломить его и этим подготовил свое поражение в Октябре.
«По существу ведь вам было по дороге с Корниловым, ведь вы тоже, как и он, не стремились довести революцию до тех границ, которые так решительно теперь перешли большевики», – сказал я.
Керенский горячо запротестовал. Он винил во всем Корнилова, рассматривал его как человека с очень узким кругозором, даже ограниченного вообще, неспособного понять громадного значения революции для блага России, упершегося в вопросы дисциплины и своим необдуманным выступлением сведшего на нет всю планомерную, разумную работу его, Керенского, в деле установления нового революционного порядка в стране. Он признавал, что Корнилов лично не являлся представителем крайних контрреволюционных течений, но утверждал, что он подпал целиком под влияние темных, безответственных контрреволюционных сил и повел преступную политику, которая не только вызвала протест солдатской массы, но и толкнула ее к большевикам.
«Корнилов привел к победе большевиков, и они должны были бы поставить ему в благодарность памятник…» – так закончил свою речь Керенский.
* * *
Вспоминая августовские события 1917 года, зная теперь о предшествовавших переговорах Савинкова и самого Керенского с Корниловым, я невольно прихожу к заключению, высказанному еще в 1917 году Бурцевым, что, строго говоря, не было «заговора Корнилова», а был неудавшийся «сговор Керенского с Корниловым». Это не было столкновение двух вождей за торжество своих несовместимых идей, а борьба за власть двух контрреволюционеров, не сумевших сговориться на общем плане действий.
Секретные переговоры Керенского с Корниловым велись, и касались они непосредственно и вполне определенно борьбы с теми, которых они оба считали опасными, т. е. с большевиками. Но при этом Керенский думал сохранить руководящую роль и использовать смелого и решительного военачальника в качестве исполнителя своих предначертаний. Оказалось, что этот военачальник сам претендует на главенство в стране в роли диктатора, оставляя за Керенским в лучшем случае роль подчиненного ему министра. А окружение генерала замышляет, по-видимому, полное устранение от дел Керенского, а может быть, и покушение на его жизнь. Потому сговор и не состоялся.
О наличии сговора свидетельствует поведение ближайших сотрудников Керенского в этом деле.
Исправлявший обязанности военного министра Савинков давал указания Корнилову о сосредоточении конного корпуса на путях к Петрограду, а 24 августа говорил ему: «Ваши требования будут исполнены», а потому, когда Львов передал Керенскому требования Корнилова, он до последней минуты пытался склонить Керенского пойти на мирное разрешение конфликта. Только когда он выяснил полную невозможность этого, он отрекся от своих соглашательских переговоров с мятежным генералом и выступил против него.
Если Савинкову казалось необходимым отрекаться от тайных соглашений с мятежником, то самому Керенскому уж никак нельзя было признаваться в них: ему нужно было сохранить личину вождя революции, и он поспешил переложить всю ответственность за переговоры на Савинкова, он немедленно уволил его с поста военного министра, и, вероятно, не без его вмешательства Савинкова осудила партия: у меня были сведения, что он был исключен из партии за свою подозрительную, двойственную роль в деле Корнилова.
Другой сотрудник Керенского во всей этой истории, комиссар Ставки Станкевич[143]143
Станкевич Владимир Бенедиктович (лит. Vladas Stankevičius, 1884–1968) – литовский и русский общественный и политический деятель, адвокат, философ. В мае 1917 года – начальник кабинета военного министра А. Ф. Керенского, в июне – комиссар Временного правительства на Северном фронте, в конце сентября – комиссар Временного правительства в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве при начальнике штаба генерале Н. Н. Духонине.
[Закрыть], был, несомненно, убежден в том, что соглашение состоялось и что Корнилов действует с ведома Керенского.
Вечером накануне полного разрыва между ними он обошел всех начальников управлений штаба Верховного главнокомандующего и доверительно сообщил им, что «завтра у нас будет долгожданная твердая власть…». Для него самого большим сюрпризом оказалось появление на улицах Могилева прокламаций Керенского с обвинениями Корнилова в измене, а рядом с ними прокламаций Корнилова с аналогичными обвинениями Керенского.
Наконец, что касается подлинных планов и намерений Керенского, то они выясняются из того, что два месяца спустя после разгрома Корнилова Керенский обращается для борьбы с большевиками к помощи другого генерала, несомненно большего врага революции, чем Корнилов, – к помощи Краснова[144]144
Краснов Петр Николаевич (1869–1947) – генерал-майор, атаман Всевеликого Войска Донского, писатель и публицист, видный деятель Белого движения.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.