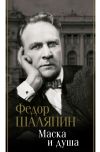Текст книги "Шаляпин против Эйфелевой башни"

Автор книги: Бранислав Ятич
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Некоторые «капризы» Шаляпина в денежных делах – например, он мог пожертвовать 10 тысяч франков на благотворительные нужды, но не хотел брать такси («это очень дорого») и поэтому, будучи уже больным, ездил в Париже на метро – мы упоминаем между прочим, желая полнее представить его характер.
Ходили слухи о том, что Шаляпин пьет.
Мог бы пьяница и забулдыга так работать над собой? А вот про Шаляпина был распространен слух, и весьма упорный, что он пьет водку чуть ли не стаканами. Что, не выпив перед спектаклем, он и петь не может, и, когда отцу приходилось отменять выступления из-за простуды, распространялся слух: Шаляпин пьян, у Шаляпина запой… Даже ходил такой скверненький анекдот: когда Шаляпин пьян, за него поет такой-то (не помню фамилии) артист[153]153
Имеется в виду бас Степан Григорьевич Власов (солист Большого театра с 1887 г. по 1907 г.).
[Закрыть]. Как будто специально для такого случая этого артиста и держали. Думаю, что это было оскорбительно не только для Шаляпина, но и для артиста, который являлся якобы «затычкой» на сей прискорбный случай.Все это, конечно, выдумка злопыхателей, ибо безответственный пьяница никакой карьеры сделать бы не мог. Мне не нужно объяснять, сколько талантливых людей этот недуг сгубил. Сгубил бы и Шаляпина. Да разве можно петь, будучи пьяным? Да физически это невозможно! Шаляпину никогда не суждено было бы достичь вокальных вершин, если бы он был пьяницей, ибо голос сам по себе под влиянием алкоголя становится непослушным.
Никто и никогда не видел Шаляпина на сцене пьяным, да и в жизни тоже я лично отца никогда пьяным в буквальном смысле этого слова не видела. Навеселе – да! И то – с друзьями, после спектакля или на отдыхе, но перед спектаклем – никогда![154]154
Шаляпина Лидия. Глазами дочери. New York, 1997, с. 166.
[Закрыть]
Шаляпин, которому было чуждо всякое лицемерие, не скрывал, что он не прочь «выпить рюмочку» (он предпочитал красное вино). Но он прекрасно знал, когда это можно делать.
Он отличался высокой степенью самоконтроля, часто подчеркивал, что решающее условие профессии певца – «железная дисциплина».
Сам он обладал этим качеством, и свидетельством тому – результаты его творчества, превосходящие все, что известно из истории оперного исполнительства, результаты, не превзойденные до сих пор.
Но все же, несмотря на абсолютное владение всеми элементами вокального исполнительства, перед выступлениями он всегда волновался и нервничал, ему казалось, что голос плохо звучит, даже если он был совершенно здоров.
Самыми трудными днями для нашей семьи были дни концертов и спектаклей отца. В такие дни он очень нервничал, тут уже надо было стараться не попадаться ему на глаза. Нам, ребятам, в эти минуты иной раз доставалось ни за что, ни про что. Но мы не обижались, зная, что причиной этого – сильное нервное возбуждение отца перед спектаклем.
Так было и в тот день, о котором я пишу. С самого утра он, «попробовав» голос, решил, что он не звучит; дальше пошли жалобы на «судьбу», на то, что никто его не понимает, не сочувствует, что публика ни за что не поверит его недомоганию.
«Даже если бы я умер, все равно бы не поверили, сказали бы – кривляется»[155]155
Шаляпина И. Воспоминания об отце // Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 42.
[Закрыть].
В таких довольно частых ситуациях самой эффективной была помощь секретаря и друга Шаляпина Исая Дворищина. Он один в таких случаях умел развеять его мрачные мысли, развеселить, убедить, что выступление пройдет хорошо. Исай, способный уловить все нюансы плохого настроения Шаляпина, применял разнообразные тактические приемы. В одном случае это был его неисчерпаемый юмор, в другом он поддразнивал Шаляпина и иронизировал по поводу его причитаний, иногда отвлекал внимание, играя с ним в карты (выиграв несколько партий, он в конце концов всегда оставался «в проигрыше»[156]156
Иола Игнатьевна финансировала эти «проигрыши»: она давала Дворищину деньги, которые тот должен был «проиграть» для того, чтобы Федор Иванович повеселел и пришел в «победное состояние духа».
[Закрыть]) а порой и просто игнорировал приказание Шаляпина отменить спектакль и исчезал на весь день, а вечером ставил Шаляпина перед совершившимся фактом. Таким образом, Шаляпин очень редко отменял свои выступления, только если действительно серьезно заболевал…
В один из декабрьских дней 1916 года, когда был назначен «Борис Годунов», из квартиры Шаляпина позвонил Дворищин и предупредил [антерпренера] Аксарина, что спектакль «висит». Дворищин рассказал, что Федор Иванович накануне поздно засиделся за картами, стал нервничать из-за какого-то нелепого хода, обиделся, когда партнеры его довольно бесцеремонно высмеяли, начал путать ходы и проигрывать. Партнеры увидели, что он нервничает, и предложили бросить игру. Но Федор Иванович и на это обиделся.
– Вы что же, меня нищим считаете? Или сквалыгой? Неужели я не могу себе позволить проиграть несколько сот рублей? – сказал он и властно прибавил: – Давайте дальше.
– Во-первых, вы очень нервничаете, – возразил один из гостей, – и проиграете не несколько сотен, а несколько тысяч. Во-вторых, вам завтра Бориса петь. Я, по крайней мере, кончаю. Уже два часа!
Переглянувшись, партнеры встали. Шаляпин выскочил из-за стола, чуть не опрокинув его, и сердито буркнув «спокойной ночи», ушел в спальню. Лег он сразу, но до утра ворочался и все повторял:
– И как это я такого дурака свалял!
Заснул он часов в шесть, в восемь проснулся, лежа попробовал фальцет, нашел, что осип, и заявил, что петь не будет.
Выслушав рассказ, Аксарин не на шутку заволновался. Каждые десять минут он принимался звонить Шаляпину, но тот упорно отказывался брать трубку и только передавал через Дворищина, что петь не будет.
Аксарин стал заклинать Дворищина как-нибудь воздействовать на Шаляпина, но на всякий случай распорядился доставить в театр декорации «Дубровского» – оперы, которой нетрудно было заменить любой сорванный спектакль. Тут же он распорядился отпустить с очередной репетиции артистов, нужных для «Дубровского», в том числе и меня: вместо небольшой партии Рангони в «Борисе» мне предстояло петь нелюбимую и трудную партию Троекурова.
Около часа дня Дворищин, все время дежуривший у Шаляпина, сообщил, что ему удалось уговорить Федора Ивановича лечь спать. После сна тот успокоится и, надо думать, «подобреет».
Но хуже всего то, – прибавил Дворищин, – что Шаляпин как будто и в самом деле охрип.
Вернулся я в театр часов около шести с половиной и с удивлением увидел, что рабочие монтируют не первую картину «Дубровского», а «Бориса». Обрадовавшись тому, что Шаляпин все же согласился, по-видимому, петь и что я еще раз буду иметь счастье его увидеть и услышать в роли царя Бориса, в неустанном совершенствовании которой он был неисчерпаем, я все же направился в кабинет Аксарина, чтобы узнать, как же развернулись события после моего ухода из театра.
Подхожу к дверям кабинета и застаю такую картину. Дверь в кабинет заперта. У двери стоит Аксарин. К нему жмутся очередной режиссер и два-три хориста – постоянные болельщики шаляпинских спектаклей. У всех такой вид, точно в кабинете покойник. Когда я громко спросил, что случилось, на меня зашикали и замахали руками. Я перешел на шепот и узнал следующее:
Шаляпин днем выспался и стал играть с Дворищиным в карты. Тот ему ловко проиграл какие-то копейки, сделав тот самый нелепый ход, который накануне привел Шаляпина к проигрышу: Шаляпин вначале рассвирепел.
– Ты что же, издеваешься надо мной? – загрохотал он. Но Исай Григорьевич прикинулся дурачком и стал божиться, что он ничего не знает о вчерашнем проигрыше. Федор Иванович вспомнил, что Дворищина у него накануне действительно не было, и, как малое дитя, пришел в восторг от того, что не один он способен на такой нелепый ход. Исай Григорьевич воспользовался его хорошим настроением и без особого труда уговорил его не срывать спектакль. Таким образом, был восстановлен «Борис».
Но злоключения тревожного дня на этом не кончились. Против своего обыкновения приезжать на спектакль довольно поздно Шаляпин явился в театр в шесть часов. Вошел в кабинет Аксарина, который служил ему артистической уборной, наспех поздоровался и не очень деликатно попросил всех выйти.
– Мне нужно остаться одному на часок, – коротко и властно сказал он. Когда все вышли, он изнутри запер дверь. И все. Вот уже тридцать минут, как группа людей стоит у двери и недоумевает по поводу того, что за ней происходит. Кто-то уже сбегал в фойе, чтобы проверить вторые двери, но и те были заперты. На робкие, но сравнительно частые стуки только один раз раздалось грозное рычание: «Да не мешайте, черт возьми!»
Я, естественно, заинтересовался, чем все кончится, и стал терпеливо ждать.
Часов в семь с небольшим Шаляпин распахнул дверь и, применяя один из самых чарующих, мягких тембров своего неповторимого голоса, делая какие-то униженно-просительные жесты, необыкновенно тепло сказал:
– Войдите, люди добрые, но не очень строго судите. Сами видите, на память писали-с. Да-с.
В кабинете Аксарина была узенькая дверь, наполовину застекленная матовым стеклом. И вот на стекле этой двери, размером примерно 75 на 50 сантиметров, гримировальными красками был написан портрет Дворищина. Шаляпинский любимец предстал перед нами, как живой.
Полюбоваться талантливым озорством гениального певца сбежалось еще несколько человек. Комплиментам не было конца. Шаляпин снял шляпу и, буквально сияя, растроганно благодарил за похвалы, часто повторяя:
– Люблю я этого человека… На память писал, да-с! И вдруг…
И вдруг один из присутствующих, придя в восторг, подошел поближе к портрету, пристально вгляделся в него и, смешно присев, усиленно махая руками, умиленно сказал:
– Это же не портрет, это же фотография. Какое сходство! Прямо как у Фишера, честное слово! Даже лучше!
Фишер был придворным фотографом и славился тщательностью своей работы. Его фотография помещалась под крышей Мариинского театра, и артисты в антрактах бегали к нему фотографироваться в костюмах и гриме. Фишеру же мы обязаны и большим количеством фотографий Шаляпина.
Растроганный хорист искренне думал, что лучшего комплимента он сказать не мог. Но, боже мой, что произошло!
Шаляпин сдвинул свои белесые, но умевшие становиться страшными брови, налился кровью, затем сразу побледнел. Взглянув на несчастного хориста глазами Ивана Грозного, он грохочущим голосом заговорил:
– Что? Фотография? Вы говорите – фотография?
Схватив со стола заячью лапку, он продолжал:
– Сходство вам нужно? Как у Фишера?
И со всего размаха мазанул лапкой по портрету. Жест был такой исступленный, что портрет мгновенно превратился в большую грязную кляксу. Аксарин схватил Шаляпина за руку, но было уже поздно.
Шаляпин весь покрылся испариной. Он сбросил с плеч шубу и, почти трясясь от обиды, повторил:
– Фотография!.. А я-то думал, что душу Исайки схватил!.. Фотография!
Злосчастного, насмерть перепуганного хориста мы уже давно выпроводили из комнаты и сами стали потихоньку расходиться. В кабинете остался один Аксарин, который тоже не очень хорошо понимал, почему для художника обидно, когда сделанный им портрет сравнивают с фотографией. Но его шепотом надоумили, и он стал успокаивать Шаляпина, объясняя ему, что хорист говорил от простого и чистого сердца и что при его невысоком культурном уровне такой отзыв – наивысшая похвала.
Шаляпин долго слушал его, продолжая волноваться, а потом, смягчившись, стал расспрашивать: а как, мол, другим, понравилось? Аксарин заверил его, что портрет был исключительно удачен и что все были в восторге. Только тогда Федор Иванович успокоился, снял боты и стал одеваться к спектаклю. И тут же пространно объяснил Аксарину, почему слово «фотография» привело его в ярость.
Когда в первый год службы у Мамонтова Шаляпин бродил с ним по музеям, то он приходил в восторг больше всего от элементарного сходства той или иной картины с натурой. Мамонтов же учил его воспринимать в живописи «душу» произведения, а всякое простое сходство, даже при техническом совершенстве рисунка, неизменно обзывал «фотографией».
Гроза миновала, когда в кабинет-уборную был доставлен где-то запропастившийся Дворищин.
Шаляпин подробно рассказал ему о «происшествии», причем уморительно копировал восторженные реплики своего незадачливого критика.
Узнав об этом, мы, недавние свидетели инцидента, в первом же антракте пришли просить Федора Ивановича и нам рассказать, как это было. Он охотно исполнил нашу просьбу. И даже тут он явил одну из своих многочисленных способностей – способность блестящего имитатора. Наш смех ему доставил большое удовольствие, и, расшалившись, он потребовал привести виновника его волнения. Раба божьего привели, и Федор Иванович повторил лекцию о том, что такое художественное произведение и что такое фотография. Хорист внимательно слушал и, наконец, в полном умилении воскликнул:
– Боже мой! Я же так и думал, честное слово!
Исай Григорьевич попенял Шаляпину, что тот стер портрет, даже не показав его «оригиналу». Но Шаляпин его утешил.
– Не тужи, брат, выберу время и напишу еще раз, маслом напишу, а не этой дрянью.
И действительно, года через два примерно, попав в тот же кабинетик, я увидел на том же матовом стекле прекрасный портрет Исая Григорьевича. Местные люди утверждали, однако, что для этого портрета Дворищин неоднократно позировал[157]157
Левик С. Ю. Записки оперного певца // Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 305–308.
[Закрыть].
Завершая главу о личности Шаляпина и его характере, необходимо подчеркнуть его космополитизм.
Широкая русская душа, он был открыт навстречу людям других культур. Сознание величия и мирового значения русской культуры никогда не было у него отмечено шовинизмом: он с готовностью впитывал достижения других народов на широком поприще культуры (не только музыки и театра) и был способен постичь их суть, пропустить через свою художественную индивидуальность, не стирая характерных черт и не изменяя особенностей. Исконно русский человек, в первую очередь русский артист, он был универсальным артистом, в полном смысле слова гражданином мира, приверженным таким ценностям, как честность, правдивость, честь, то есть достоинствам, уважаемым всеми народами, какими бы разными ни были их культуры и традиции.
В неоднократно цитированной нами книге «Глазами дочери» Лидии Шаляпиной мы находим следующие заметки.
Среди наших друзей и знакомых были люди всякие: и важные персоны, и очень скромные, немало было и иностранцев. А население нашего дома можно было поистине назвать Лигой Наций, и то – сущая правда, без преувеличений. Судите сами: отец – русский, мать – итальянка, две постоянно живущие в доме гувернантки – немка и француженка, а одно время случилось так, что среди прислуги оказались сразу – украинка, латышка и кухарка-финка. Оба дворника были татары, шофер – японец, папин секретарь – еврей и, наконец, китаец Ненбо Джан Фухай был камердинером, в ведении которого находился, главным образом, гардероб отца – светский и театральный. И никогда не возникали в доме вопросы расы, религии, национальности. Что же касается нас, детей, то – это была Россия, наш дом, наш мир, наша жизнь. И вот же, уживались все! Почему же на свете столько ужасных предубеждений, предрассудков, столько нетерпимости и ненависти, омрачающих жизнь, когда солнце светит всем одинаково?![158]158
Шаляпина Лидия. Глазами дочери. New York, 1997, с. 134.
[Закрыть]
Образование. Таланты. Метод работы
Федор Иванович Шаляпин в детстве мог получить лишь начальное образование. Он недолго посещал школу, причем часто менял учебные заведения и учился нерегулярно. В перерывах родители отправляли его обучаться ремеслу. Из школьных уроков он вынес главное – грамотность. Из ремесел, которые осваивал – сапожное, столярное и переплетное – овладел только последним.
Мы все знали, что Шаляпин очень мало учился, и считали его в смысле общей культуры не особенно развитым, даже малообразованным. Из личных встреч и бесед с ним я вынес совершенно другое впечатление.
Любил он очень и русскую старину[159]159
Левик С. Ю. Записки оперного певца // Федор Иванович Шаляпин. М, 1977, с. 287.
[Закрыть].
Образование Шаляпина, да и общую культуру к тому моменту, когда он вышел на сцену Большого театра (а ему тогда было двадцать шесть лет), никак нельзя назвать недостаточными. Следовательно, он их получил не в школе. Его обучало и воспитывало окружение. Еще в детские и отроческие годы он впитал от матери и ее подруг основные элементы фольклорного творчества и особенности народного пения, характеризующегося широкой слитной мелодичностью. Развитию музыкального слуха и дара к кантиленному пению способствовало его многолетнее участие в церковных хорах. Еще в Казани, благодаря занятиям с регентом Щербининым, он освоил ноты, основы игры на скрипке и теории музыки. Народные сказители (Федосова, позднее Гулевич) и такой рассказчик, как Горбунов, произвели на него огромное впечатление своей способностью лапидарными приемами создавать целые драматические сцены, их атмосферу и подтекст, выделять в них самое существенное и характерное; они помогли ему развить наблюдательность и способность к аналитическому мышлению. Это были первые, еще бессознательные уроки превращения сырого материала, почерпнутого из повседневности, в художественный, освоение способов подачи материала публике.
Товарищи по школе Ведерниковой ввели его в мир литературы: модные французские романы сменились произведениями Лермонтова, Пушкина и других великих писателей. Профессор Усатов поставил Шаляпину вокальную технику на основе итальянского bel canto и создал условия для того, чтобы певец мог расширить свой музыкальный, культурный и жизненный кругозор. Восприимчивая натура Шаляпина жадно впитывала впечатления, усваивала все доступные ему знания, и, поскольку он решил посвятить свою жизнь театральным подмосткам, мысли его все более устремлялись к оперному искусству.
Первый его ангажемент в Императорских театрах, а именно, в петербургском Мариинском, характеризуется мучительными, еще туманными поисками собственной сценической индивидуальности. Но при полном отсутствии поддержки в театре Шаляпин получал ее от своего приятеля, артиста Мамонта Дальского.
В то время Мариинский театр располагал очень сильной труппой и…
<…> по праву считался образцовым по составу певцов-вокалистов, но заставлял желать большего в отношении актерской игры. В таком состоянии и застает его молодой Шаляпин, ставивший перед собой куда более значительные и сложные задачи, нежели его современники. Он, по его словам, всегда любил драму превыше всего, «тянулся» к ней и положительно «пропадал» в Александринском театре, внимательно следя за игрой первоклассных актеров, которыми тогда была богата наша труппа[160]160
Юрьев Ю. Μ. Ф. И. Шаляпин // Федор Иванович Шаляпин. М., 1997, с. 107.
[Закрыть].Шаляпин очень увлекся игрой Дальского. Они быстро сдружились и стали почти неразлучны. <…>
Их сблизили общие интересы. Оба одаренные, увлекающиеся. Творческие начала у обоих были очень сильны. На этой почве возникали всевозможные планы, мечты, горячие споры.<…>
Тогда Шаляпин был лишь начинающим певцом, подающим надежды. Он не обрел еще как следует себя, но уже мечтал стать не только хорошим певцом с красивым голосом, но и настоящим артистом, соединить вокальную сторону исполнения со сценическим воплощением образа, создавать характеры, словом, стремился быть одновременно и певцом, и драматическим актером, о чем в то время за редким исключением мало кто заботился на оперной сцене. <…>
Он поклонялся Дальскому и, уверовав в его авторитет, постоянно пользовался его советами, работая над той или другой ролью, стараясь совершенствовать те партии, которые он уже неоднократно исполнял, стремясь с помощью Дальского внести что-либо новое, свежее, и отступить от закрепленных, по недоразумению именуемых традициями форм, не повторяя того, что делали его предшественники[161]161
Там же, с. 103–105.
[Закрыть].
У Дальского Шаляпин, по его собственному выражению, учился «дальчизму», у других великих актеров – их актерскому мастерству, он поглощал их знания и опыт, взгляды на искусство, на жизнь, пропуская все это через собственную индивидуальность, которая развивалась и становилась все сильнее.
Его художественная индивидуальность раскрылась в пору ангажемента в Русской частной опере Саввы Мамонтова, с 1896 по 1899 год.
Савва Иванович Мамонтов из купеческой среды, но уже иной складки, иных взглядов, иной культуры, чем многие его современники того же сословия. Мамонтов был меценат, отдававший свои средства на высокие культурные цели и задачи, вполне понимая их огромное воспитательно-образовательное значение. Созданный Мамонтовым в Москве оперный театр стоял особняком. У этого оперного театра было свое художественное лицо, и руководил им крупный человек, которому задачи искусства были близки и дороги.
С. И. Мамонтов привлекал к себе все молодое и более или менее даровитое, будь то художник-живописец, композитор, певец или балетный артист. В его труппе находились такие крупные певцы, как Цветкова, Любатович, Петрова-Званцева, Секар-Рожанский, Соколов, Оленин, Шевелев и другие. Помимо выдающихся актеров Мамонтов сумел привлечь и заинтересовать своим театром и выдающихся художников, которые принимали в нем самое близкое участие, – в частности Васнецова, Поленова, Серова, Коровина, Врубеля, Малютина. Названная группа знаменитых художников не ограничивалась лишь писанием декоративных полотен, но была органически спаяна с жизнью театра. Ничего подобного не было ни в одном театре того времени.
Вот в такую среду и такую атмосферу, созданную Мамонтовым, и попадает молодой Шаляпин, на которого в Петербурге никто серьезного внимания не обращал. А Мамонтов сумел «угадать» Федора Ивановича и показать всю ширь его огромного национального дарования.
Мамонтов сразу почуял, во что может вылиться этот молодой артист, и очень тонко и мудро подошел к нему как к человеку, стал культивировать в нем прежде всего художественное начало, которое он почувствовал и разгадал. Наблюдая Шаляпина, он понимал, что для такой одаренной натуры должны быть и особые условия. Он видел, что этот молодой артист еще не знает себя и что он в достаточной мере не осознал, какое исключительное явление он может собой представлять, если дать правильное и полное развитие всем его возможностям. Но он еще не вполне уверовал в себя. А без этой веры такой взыскательный художник, как Шаляпин, никогда не решится вскрыть всего того, что пока еще только таилось в нем.
Надо было во что бы то ни стало убедить его, что он, Шаляпин, имеет полное право в своих дерзаниях.
С. И. Мамонтов бережно стал подводить Шаляпина к этой цели. Он начал с того, что окружил его людьми высокой культуры и одаренности. Васнецов, Серов, Коровин, Врубель – все они заинтересовались молодым дарованием и всячески способствовали его художественным стремлениям. Давали советы, снабжали Шаляпина всевозможными историческими материалами, <…> – развивали вкус и расширяли его горизонты[162]162
Там же, с. 108–109.
[Закрыть].<…> Шаляпин с этих первых шагов почувствовал благотворное влияние той художественной среды, которой его окружил дядя Савва. Шаляпин нашел правильный выход своим творческим силам во внутренней самостоятельной проработке каждой партии, как бы незначительна она ни была»[163]163
Мамонтов П. Шаляпин и Мамонтов // Там же, с. 115.
[Закрыть].Шаляпин «искренне восхищался отношением к себе Саввы Ивановича, который своей, одному ему свойственной манерой, скупым выразительным жестом, фигурой, лицом, глазами, короткой, но ярко поданной репликой, умел дать толчок фантазии артиста, разбудить в нем ощущение образа. Шаляпин со свойственной его таланту восприимчивостью, чуткостью сразу схватывал и претворял в жизнь все его указания. <…>
Во все время его работы в Частной опере у него не было никаких инцидентов, которыми богата была потом его служба на императорской сцене. Да это понятно! Окружающая певца атмосфера была спокойная, творческая, все были полны интереса к искусству. Жизнь была заполнена целиком. Если иногда и нервничали, то это были «родовые муки», муки творческие, а не грязные, склочные интриги людей, погрязших в стоячем болоте.
У артистов Частной оперы жизнь проходила совершенно иначе, чем у артистов Большого театра. Если певец не был занят в очередной постановке, он все-таки не пропускал ни одной репетиции. Перед каждой новой постановкой дядя Савва собирал всех участников и детально знакомил их с клавиром. Это сопровождалось объяснениями, по ходу которых он касался эпохи, стиля, художественной стороны произведения, либретто. Он заставлял художников, привлеченных к той или другой постановке, знакомить исполнителей с их общими замыслами в части декорационного оформления.
На таких предварительных беседах присутствовали не только артисты, занятые в опере, налицо была вся труппа и даже хор. В такую творческую атмосферу, созданную художественным пылом режиссера, его неисчерпаемой энергией, Шаляпин вступил впервые, и она захватила его целиком. Каждый артист жил театром, в каждом бился пульс одухотворенного творчества.
Уже в коротком нижегородском сезоне Частной оперы Шаляпин почувствовал, как много ему еще недостает, чтобы быть культурным, полноценным артистом-певцом. Под влиянием дяди Саввы он жадно потянулся к пополнению своего образования. У него явилось желание больше читать, знакомиться с классиками, он стал понимать красоты наших великих поэтов. Он подолгу не выходил из художественного отдела выставки, любуясь экспонированными там полотнами знаменитых художников[164]164
Там же, с. 116–117.
[Закрыть].
В Русской частной опере Шаляпин познакомился с историком В. О. Ключевским, который помогал ему в работе над ролями Бориса, Досифея и Ивана Грозного. Великолепный знаток русской истории, эрудит, самый популярный из профессоров Московского университета, он разворачивал перед Шаляпиным широкие исторические полотна, освещавшие глубокие временные пласты русской старины, раскрывал не только факты, но и исторические процессы и причинно-следственные связи, имевшие место в широком историческом контексте и составлявшие фон конкретных событий. Он знакомил Шаляпина с особенностями архитектуры, обычаями, этнографическими данными – одним словом, с духом прошедших эпох. Благодаря Ключевскому Шаляпин и сам стал прекрасным знатоком русской истории.
Художники, с которыми Шаляпин подружился у Мамонтова (со многими дружба сохранилась на многие годы), не только помогали ему расширить свой кругозор и выработать более тонкий вкус, но и активно с ним сотрудничали, помогая создавать визуальную сторону конкретных ролей, которые он играл в Частной опере. В. Д. Поленов, например, способствовал созданию совершенно необыкновенного облика Мефистофеля в «Фаусте», отличного от того, схожего с салонным красавчиком из французской оперетты, который показывали на тогдашних оперных сценах, следуя установленным образцам. Облик Шаляпина был гораздо ближе литературному источнику. Поленов оказывал влияние и на мизансценические решения (расположение персонажа в организованном пространстве), и на пластику образа. В. М. Васнецов своими рисунками и эскизами костюмов направлял внимание певца на типичные черты повседневного русского быта определенной эпохи. Образ Ивана Грозного Шаляпин делал, опираясь на работы художников Репина, Сурикова, Васнецова, скульптора Антокольского и на бесценные советы самого Мамонтова. «Демон» Врубеля вдохновил его на создание одноименного оперного персонажа, причем не только его внешнего облика, но и внутренней атмосферы. Таких примеров было много…
В Русской частной опере тогда дирижировали И. А. Труффи, С. В. Рахманинов, М. М. Ипполитов-Иванов. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество Шаляпина с Рахманиновым, которого он считал своим учителем. Композитор давал ему уроки по теории музыки и гармонии. Но для развития Шаляпина еще большее значение имело общение с Рахманиновым как с личностью.
Огромное впечатление произвело на Шаляпина знакомство с Н. А. Римским-Корсаковым. Благотворным оказалось и влияние А. К. Глазунова, А. К. Лядова, Ц. А. Кюи, а также плеяды великолепных музыкантов, с которыми он соприкасался и работал, особенно Ф. М. Блюменфельда.
Большую роль в пополнении образования Шаляпина сыграло знакомство с М. Горьким и писателями его круга: Л. Н. Андреевым, И. А. Буниным, С. Г. Скитальцем, Е. Н. Чириковым, Н. Д. Телешовым.
Развитие Шаляпина происходило с головокружительной быстротой. Его творения становились все более зрелыми и впечатляющими, что свидетельствовало не только об усовершенствовании элементов исполнительской техники, но и о взлете его творческой личности. Когда Русская частная опера гастролировала в Петербурге в 1898 и 1899 годах, публика, которая не заметила Шаляпина в период его пребывания на сцене Мариинского театра, теперь валом валила на спектакли с его участием и не жалела денег на билеты, которые спекулянты продавали по бешеным ценам. Слава Шаляпина в России стремительно росла. Вскоре, благодаря заграничным гастролям, он приобрел и мировую известность.
Гастроли Русской частной оперы в Петербурге принесли Шаляпину еще одного страстного поклонника, академика В. В. Стасова, который принадлежал к высшему слою российской интеллектуальной элиты. Его отношение к Шаляпину было поистине отеческим и доброжелательным. Его восторженные рецензии окончательно помогли Шаляпину осознать свое значение. Для молодого артиста было щедрым даром судьбы общение с такой замечательной личностью, как Стасов, обладавший колоссальными знаниями и широчайшей культурой.
Слава и знакомства с великими людьми своего времени расширяли круг общения Шаляпина. Эти встречи оказались исключительно плодотворными. Благодаря отмеченной многими современниками способности Шаляпина «пожирать знания» его развитие и оказалось столь экспансивным и стремительным.
* * *
Шаляпин был гениальным певцом-актером. Однако его привлекали и другие виды искусства, и он проявлял себя не только пассивно, как любитель, но и активно – как писатель, художник, скульптор.
Потрясающий актерский дар Шаляпина часто вызывал дискуссии о том, мог ли он стать великим драматическим актером, если бы не посвятил себя опере. Подобные же разговоры вызывал и его талант рассказчика: описывая эпизоды из своей жизни, он достигал большого художественного эффекта. Он был также прекрасным декламатором. Нередко разыгрывал перед друзьями им же самим придуманные драматические миниатюры.
Тогда кто-то поднял вопрос о выступлении Шаляпина в драматическом спектакле. Один из не очень умных людей назвал «Гамлета», Шаляпин презрительно посмотрел на него и уничтожающе взмахнул мизинцем левой руки: большего говоривший явно не стоил. Другой назвал Шейлока и Лира, на выбор. Шаляпин долго смотрел на него вопросительным взглядом, постучал пальцами по столу и как бы выдавил из себя:
– Неплохо бы, да только… А я думал, господа, что вы мне «Эдипа» предложите, а?
Мысль об Эдипе будоражила Шаляпина в течение долгого времени. Он обращался даже к Н. А. Римскому-Корсакову с просьбой написать оперу об этом герое двух софокловских трагедий. Как известно, великий русский композитор хорошо знал и, по-видимому, любил древний мир, неоднократно к нему возвращался, о чем свидетельствуют хотя бы оперы «Сервилия» и «Из Гомера», однако писать оперу он отказался, заявив Шаляпину со свойственной ему скромностью, что у него для такой задачи не хватит трагедийного таланта. Огорченный отказом, Шаляпин однажды продекламировал Николаю Андреевичу «Царя Эдипа», но восхищенный его декламацией композитор смог только сказать:
– Вот-вот, именно благодаря вашему чтению я окончательно убедился в том, что «Царь Эдип» мне будет не по силам.
Через некоторое время Шаляпин обратился с той же просьбой к А. К. Глазунову. Александр Константинович, как известно, от сочинения оперы воздержался и отказал Шаляпину.
Этих подробностей, услышанных мной значительно позднее, я в описываемый вечер еще не знал и был, как и все другие, поражен. Все зашумели. Шаляпин – Эдип! Что может быть интереснее в художественном смысле, что может быть новее! Перед нашими взорами встал этот колосс с его трагедийными интонациями, и мы буквально захлебывались от восхищения. К хору восторженных голосов присоединился и А. Р. Аксарин. Как опытный администратор, он молниеносно сообразил, что такой спектакль постановочно прост, что Большой зал Народного дома для него отлично подходит, что расходов будет немного…
Шаляпин долго говорил об Эдипе, обнаружив отличное знание трагедии. Постепенно он втянул всех нас в разговор и даже начал обсуждать кандидаток на роль Иокасты. Мне стало казаться, что он про себя давно решил сыграть роль Эдипа, а может быть, даже готов к ней.
Восторженным возгласам не было конца. Когда подъем дошел до предела, Шаляпин неожиданно сел и голосом, которым он хотел подчеркнуть, что все это его не касается, сказал:
– А только не будет этого. Страшно!..
– Что страшно? – воскликнул один из присутствовавших, тот самый, который в первый раз заговорил о «Запорожце»[165]165
Речь идет об опере А. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».
[Закрыть].– Как это «что»? – уже начиная сердиться, переспросил Федор Иванович. – Играть страшно, это ведь Эдип, а не Запорожец… Вот я и говорю: играть страшно. Играть Эдипа-то вам, что ли, придется? Ведь мне… Ну, а мне – страшно.
Впоследствии к вопросу об Эдипе Шаляпин возвращался неоднократно. Пианист Е. Вильбушевич рассказывал, что особенно много энергии на уговоры его тратил Н. Н. Ходотов, который считал, что Шаляпин обязан сыграть Эдипа: «Сальвини умер, Поссарт стар – кому же играть?».
– Если бы кто-нибудь написал оперу, – отвечал Федор Иванович, я бы ему помог. Я бы даже кое-что придумал, может быть, и напел бы кое-что. А в драме – нет, страшновато, страшно!
То же самое «страшно», которое и я слышал из его уст. А оперу он даже заказывал как-то обер-гофмейстеру А. С. Танееву, да безуспешно.
Насколько помнится, кроме участия в тургеневских «Певцах», сыгранных в Александринском театре в один из юбилеев И. С. Тургенева, Ф. И. Шаляпин ни в одном драматическом спектакле не выступал. Не сыграл он и Эдипа. <…>
Некоторые считали, что Шаляпин родился гениальным трагическим актером и не стал им только потому, что сверх всех полагающихся драматическому актеру данных природа наградила его замечательным голосом и незаурядной музыкальностью. <…>
Если бы Шаляпин стал драматическим актером, он был бы, несомненно, очень крупным, выдающимся в своем роде, неповторимым артистом. <…> Но Шаляпиным, то есть артистом, намного превысившим все то, что театральное исполнительство знало и знает до и после него, Шаляпин не стал бы и, очевидно, сам не рассчитывал стать[166]166
Левик С. Ю. Записки оперного певца // Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 276–279.
[Закрыть].Не желая выдвигать гипотезы, обратим внимание на следующее.
Решив заняться театром, Шаляпин с самого начала устремился на оперную сцену. В нем очень рано проявился певец-актер, выделявший в опере драматическое начало, заложенное в ее содержании. Вначале ему не удавалось ясно определить специфику оперного жанра в сравнении с драматическим, хотя он и стремился их максимально сблизить. Овладев основными особенностями и закономерностями оперного исполнительства, в котором ничего не существует вне музыки, – ни слово со своими интонациями (даже если мы говорим о речитативе или декламационном пении), ни движение, ни драматургия оперы, ни визуальное решение пространства, – Шаляпин удалился от особенностей драматического исполнительства.
Разумеется, его не могли не привлекать выразительные драматические образы, не вошедшие в оперную литературу, и его занимала мысль сыграть их на сцене. Однако он отдавал себе отчет в том, что возвращение к драме «в чистом виде» таит в себе множество препятствий и ловушек. Это подтверждается и комментарием к приведенному тексту С. Левика:
«О стремлении Шаляпина попробовать свои силы в трагическом репертуаре Шекспира, Шиллера, Софокла и других упоминает в своих „Записках” Ю. М. Юрьев. Активными усилиями М. Ф. Андреевой, А. М. Горького и ряда других деятелей искусства в 1918 г. в Петрограде был основан Театр трагедии. Для управления этим театром было создано Трудовое товарищество, в которое вошли А. М. Горький, М. Ф. Андреева, Ф. И. Шаляпин, А. А.Блок, Ю. М. Юрьев, Н. Ф. Монахов, архитектор А. И. Таманов, художник М. В. Добужинский, композитор Б. В. Асафьев и другие. В работе театра также принимали участие К. А. Коровин, композитор Ю. А. Шапорин и другие. Ю. М. Юрьев пишет: „Времени для постановки «Макбета» у нас было немного: всего три месяца, так как мы были связаны сроками аренды помещения цирка Чинизелли. Надо было спешить. Добужинский и Таманов вырабатывали эскизы декораций, а я занялся вербовкой намеченных кандидатов в Трудовое товарищество. Все с большой охотой давали на то свое согласие и брали на себя обязательство принимать самое активное участие в создании театра, что, несомненно, говорило о большом интересе к нарождающемуся новому предприятию.
Не удалось мне только договориться с Ф. И. Шаляпиным, так как летом 1918 года он находился в Москве на гастролях, в так называемом Зеркальном театре сада «Эрмитаж», и я отложил эту свою миссию до Москвы, куда собирался для переговоров с Н. А. Никитиным относительно аренды помещения цирка для наших московских гастролей. Но еще до моей поездки в Москву, через наших общих знакомых, мне стало известно, что Ф. И. Шаляпин горячо заинтересовался созданием такого театра, причем даже выразил желание принимать в нем участие как актер.
В июне 1918 года у меня на дому начались заседания Трудового товарищества.
Наметили исполнителей на все роли. <…> Надо было выработать твердый состав. На главную роль была приглашена Мария Федоровна Андреева (леди Макбет), на роль Дункана – актер Д. М. Голубинский, Малькольма – мой ученик Б. А. Болконский. Роль Макбета должен был играть я. Остальные роли большей частью были распределены между бывшими моими учениками, незадолго перед тем окончившими Драматические курсы при Александринском театре, где я преподавал.
Состоялось также решение выпустить брошюру, освещающую задачи Театра трагедии, а для нее должны были дать свои статьи Горький, Шаляпин и я. <…>
В Москве видел Шаляпина, обедал у него в его особняке на Новинском бульваре. Много говорили о нашем будущем театре, которому, со свойственным ему увлечением, он придавал для переживаемого тогда момента большое значение. Обсуждали намечаемый репертуар.
Мысль о драме, о драматической сцене не покидала Шаляпина в эти годы. Он согласился сыграть Люцифера в байроновском „Каине”, которого я хотел ставить в Театре трагедии, а когда у нас в Ленинградском Большом драматическом театре в 1919 г. был поставлен „Дон Карлос” Шиллера, Шаляпин намеревался взять на себя роль короля Филиппа, и мы, по его просьбе, вместе стали подготовлять ее.
Когда он читал вполголоса – все было хорошо. Лучшего и желать было нельзя. Так проникновенно, выразительно и с такой ясностью выделялась вся внутренняя линия роли, что я думал: „Ах, как это будет замечательно!..” Но коль скоро он принимался читать ее в полный голос – все рушилось. Его привычка певца давать звук на диафрагме делала его речь неестественной, его голос резонировал в полости рта слишком сгущенно, и в результате получалось совершенно неприемлемое для драмы. <…> Оказывается, принцип постановки звука для речи во многом расходится с принципом постановки для пения. Но это его не обескуражило. По-видимому, Шаляпин серьезно задумал застраховать себя на случай, если со временем голос ему изменит, чего он так боялся, и если он будет вынужден расстаться с карьерой оперного певца, чтобы в крайнем случае свое большое дарование применить в драме. И для этой цели мы принялись за черную подготовительную работу и стали тренироваться на гекзаметре. Занятия наши шли регулярно и успешно, и он уже был близок к цели, но тут помешал его отъезд за границу. По возвращении его из-за границы наши занятия возобновились, и последний урок постановки голоса для речи состоялся накануне его окончательного отъезда за границу, весной 1922 года». (Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 556). «Как сообщает далее Юрьев, при обсуждении в 1918 г. намечаемого репертуара на заседании Трудового товарищества, Шаляпин собирался выступить в роли Болингброка в шекспировской трагедии „Ричард II” и осуществить свою давнишнюю мечту – сыграть Лира. Очевидно, включение в репертуар пушкинского „Бориса Годунов” тоже было подсказано Шаляпиным и рассчитано на его участие.» (там же).
Шаляпин много читал. Он полюбил литературу, воспитал свой литературный вкус. Его любимым писателем был Пушкин. Пушкина он считал образцом мастерства и правды в искусстве.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.