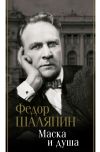Текст книги "Шаляпин против Эйфелевой башни"

Автор книги: Бранислав Ятич
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Федор Шаляпин и проблема интерпретации
Мы уже коснулись проблемы шаляпинского мастерства интерпретации в главе «Легенда и реальность», где приводим впечатления Э. И. Каплана от исполнения Шаляпиным романса Чайковского «Разочарование», а также воспоминания Э. А. Старка об интерпретации образов Бориса Годунова и Дон Кихота в соответствующих операх. Остановимся теперь подробнее на вопросах интерпретации вообще и, в частности, на интерпретациях Шаляпина.
Исполнителей (актеров, оперных певцов, балетных танцовщиков, музыкантов-инструменталистов) называют репродуктивными артистами. Попробуем вникнуть в смысл этого словосочетания. Репродуктивный – тот, кто репродуцирует, воспроизводит уже существующий художественный материал. Репродукция не подразумевает какого-либо отступления от материала, не предполагает изменений, дополнений «от себя».
Слово «артист» подразумевает человека, который артистически владеет определенным искусством, то есть, обладает творческим началом и силой таланта, искусства и познаний в определенной области и преображает определенный материал, создавая из него художественное произведение, принадлежащее иному измерению действительности, чем исходный материал или произведение и, следовательно, является творцом.
Репродуктивных артистов, то есть тех, кто не является авторами какого-либо произведения, но делающих его доступным аудитории, часто называют интерпретаторами или артистами-интерпретаторами. Это неуклюжее словосочетание позволяет исполнителю, который воспроизводит или истолковывает (отсюда выражение истолкователь роли), внести нечто и «от себя».
В самом деле, неужели исполнитель только воспроизводит художественное произведение? В этом ли состоит его подлинная задача? И возможно ли воспроизводить художественное произведение в полном смысле этого слова? Является ли исполнитель истолкователем произведения, и что подразумевается под словом «истолковывать»?
Имеет ли исполнитель право проявить себя как личность, высказать свое мнение, вступить в спор с автором и что-либо изменить в его произведении? Другими словами, имеет ли он возможность вести себя как соавтор, так, как будто и сам он в некотором роде творец? Может ли он претендовать на звание артиста и может ли он быть артистом в полном смысле слова?
Об этом, но и о других проблемах, связанных с исполнителями и исполнительством, писал в своем «Неотправленном письме певице» Герман Гессе. Это эссе представляет необычайный интерес для нашей темы. Привожу его полностью.
Поскольку я много раз слышал Вас в ораториях и на вечерах песни, в концертных залах и по радио и поскольку со смертью моей приятельницы Илоны (Дуриго), стиль которой, впрочем, был некоей диаметральной противоположностью Вашему, я ни одну певицу не слушал с такой радостью, с таким восхищением и благоговением, как Вас, позволю себе после Вашего сегодняшнего концерта написать Вам эти строки. Правда, этот сегодняшний концерт был мне не так по душе, как многие прежние, но и эту программу, которую я не приветствую, а только по необходимости принимаю, Вы спели в своей совершенной, выдерживающей любую критику манере, в той объективно-спокойной, сдержанной, благородной манере, которая создается сочетанием очень красивого, изысканного, замечательно поставленного и вышколенного голоса с достоинством и простотой разумного и правдивого человека. Ничего больше, думаю, во славу певицы сказать нельзя, да и говорить незачем. То, что часто восхваляют и прославляют в певицах, не скупясь на превосходные степени, лирические фельетоны, – душу, настроение, окрыленность, душевность, задушевность и все такое – это всегда кажется мне сомнительным и спорным и столь же неважным, как более или менее красивая внешность певицы или ее туалет. Я не жду от нее, если быть точным, ни души, ни проникновенности, ни чувствительности, ни золотого сердца, полагая, что все это в песне или арии, то есть в произведении искусства, состоящем из поэзии и музыки, уже имеется в достаточной мере, уже вложено в произведение его творцами, и никаких тут добавок не нужно, и пользы от них нет. Если слова написаны Гете, на музыку положены Шубертом или Гуго Вольфом, то я положусь на то, что этому произведению хватит сердца, души, чувства, и предпочту не быть обязанным за дополнительную порцию этих качеств певице. Услышать хочу я не ее интимное отношение к тому, что она поет, не ее взволнованность произведением искусства, а как можно более точную и совершенную передачу того, что значится на ее нотных листах. Это не нужно ни усиливать добавлением чувства, ни ослаблять недостатком понимания. Вот и все, чего мы ждем от певцов и певиц, и это не мало, это невероятно много, и исполняют это немногие, ибо, кроме данного Богом прекрасного голоса, для этого нужны не только хорошая школа и упражнения, но и недюжинный ум, способность постичь всю совокупность музыкальных качеств произведения, прежде всего, воспринять его как некое целое, не выковыривать изюминки из плюшки и не преподносить эти изюминки, эти благородные для виртуоза места с особой помпой в ущерб целому. Приведу совсем грубый пример. Я не раз слышал, как наивные молодые певицы поют песню «Любимый мой жил в Пене» из «Итальянского песенника»; из текста и композиции этой песни исполнительницы ничего не извлекали и не усваивали, кроме того, что торжествующее выкрикивание слова «десять» в последней строке производит эффект. Пели они убого, но низший слой публики каждый раз в большей или меньшей мере попадался на эту приманку и бурно аплодировал.
Все это вещи само собой разумеющиеся, однако на практике они вовсе не разумеются сами собой – ни у певцов, ни у их слушателей, ни у части критиков. И если выступает певица, действительно исполняющая эти такие простые с виду требования, если она действительно поет то, что написал композитор, ничего не выпуская, не прибавляя, не искажая, отдавая должное каждой ноте, каждому такту, то мы все-таки каждый раз смотрим на это как на счастливый случай, как на чудо и испытываем такую душевную благодарность, такую мягкую удовлетворенность, какую обычно испытываем только тогда, когда сами читаем, играем или вспоминаем любимое произведение, то есть, когда между произведением и нами нет посредников.
Этим редким счастьем, этим подарком посредницы, которая ничего не отнимает у произведения искусства и ничего не прибавляет к нему, которая воплощает в себе волю и ум, но почти уже перестает быть конкретным лицом, друзья хорошей музыки обязаны таким художникам, как Вы. Найти таких художников для вокальной музыки труднее, чем для инструментальной, поэтому так оно и велико, счастье встретить кого-то из этих редких художников. Есть ведь и другой вид счастья от слушанья пения, спору нет, и оно может быть довольно сильным: счастье от того, что тебя обхаживает, покоряет и увлекает обольстительная личность художника. Но чистым это счастье не назовешь, оно имеет некоторое отношение к черной магии, это водка вместо вина, и кончается оно пресыщением. Эта нечистая разновидность музыкального удовольствия совращает и растлевает нас двояким образом, она уводит наш интерес и нашу любовь от произведения искусства к исполнителю и искажает нашу оценку, подбивая нас ради интересного исполнителя принять и такие произведения, которые мы бы в ином случае отвергли. Ведь и при самом жалком шлягере голос сирены сохраняет свое очарование. А чистое, объективное, разумное исполнение, наоборот, укрепляет и очищает нашу оценку. Когда поет сирена, мы порой миримся и с плохой музыкой. Но когда поете Вы, многочтимая, и в порядке исключения дополняете иной раз свою программу сомнительной музыкой, Ваше великолепное исполнение не соблазняет меня одобрить эту музыку, нет, я испытываю неловкость и что-то вроде стыда, и мне хочется на коленях просить Вас, чтобы Вы служили своим искусством лишь совершенному, которое только и достойно Вас.
Отправь я, в самом деле, это благодарственное, с признанием в любви письмо, Вы могли бы по праву ответить, что Вам мало проку в моих дилетантских замечаниях насчет музыкальных качеств и музыкальных оценок. Вы по праву отвергли бы мою критику Вашей программы. Все так, но ведь мое письмо не будет отправлено, это просто разговор с самим собой, размышления в одиночестве. Я пытаюсь в чем-то разобраться, разобраться в происхождении и смысле моего музыкального вкуса и моих музыкальных оценок. Если я вообще говорю или только размышляю об искусстве, то делаю это хоть и как художник, но не как критик искусства, не как эстетик, а всегда как моралист. Что мне в сфере искусств отвергать, на что смотреть с недоверием, а что, наоборот, чтить и любить – это диктуют мне не какие-то объективные, как-то нормированные понятия о ценности и красоте, а род совести, носящей характер нравственный, не эстетический, отчего я и называю ее совестью, а не вкусом. Совесть эта субъективна и обязательна только для меня самого, я очень далек от того, чтобы навязывать миру тот вид искусства, который люблю сам, или внушать миру отвращение к тому его виду, которого сам не принимаю всерьез. Из того, что ежедневно играется в театрах и на оперных сценах, меня способно привлечь очень немногое, но я ничего не имею против того, чтобы весь этот мир искусства и все это мировое искусство процветали и продолжали существовать. Блаженную утопию, где практикуется только белая, но не черная магия, где не блефуют и не пускают пыль в глаза, я не ищу в каком-то там будущем, а должен создавать ее себе самому, в том крошечном уголке мира, который принадлежит мне и на который я могу повлиять… К тому, что я люблю и чту, принадлежат художники и произведения, к которым самодеятельность никогда не обращалась, а произведения, которых я не люблю, которые моя совесть или мой вкус отвергает, носят самые знаменитые имена и названия. Границы тут, конечно, не незыблемы, они в какой-то мере эластичны; иной раз, к своему изумлению и посрамлению, я вдруг открываю какое-нибудь произведение художника, которого мой инстинкт отвергал и который все же на сей раз мне по душе и по нраву. А у очень больших, чуть ли уже не священных мастеров меня может вдруг на миг испугать какой-то след промаха, тщеславия, легкомыслия или честолюбия и желания покрасоваться. Поскольку я и сам-то художник и знаю, что мои собственные произведения полны таких подозрительных мест, полны мутных вкраплений в чистый замысел, подобные открытия не могут, как они в принципе ни ужасны, действительно сбить меня с толку. Были ли, в самом деле, на свете когда-нибудь совершенные, целиком чистые, целиком благочестивые, целиком растворявшиеся в произведении и служении, выходившие за пределы человеческого мастера, решать это – не мое дело. Достаточно того, что есть совершенные произведения, что через посредство тех мастеров возникал кристалл овеществленного духа и бывал дарован людям как золотой эталон.
Мои оценки музыкальных произведений не претендуют, как я уже сказал, ни на эстетическую и объективную «правильность», ни на авторитетность или своевременность в каком бы то ни было смысле. Чисто эстетические оценки я ведь, как литератор, вообще могу позволить себе только по части литературы, разновидности искусства, средства, технику и возможности которой я знаю и в которой в доступной мне степени смыслю. Мое отношение к другим искусствам, прежде всего к музыке, определяется не столько сознанием, сколько душевным складом, оно состоит не в действиях ума, а в гигиене, в потребности в известной опрятности и пользе для здоровья, в воздухе, температуре и пище, при которых душа чувствует себя хорошо и которые всегда облегчают переход от уюта к деятельности, от душевного покоя к радости творчества. Восприятие искусства – это для меня не дурман и не стремление к образованию, это воздух и пища, и, когда я слышу музыку, вызывающую у меня отвращение, или музыку, на мой вкус, слишком сладкую, переслащенную или переперченную, я отвергаю ее не из-за глубокого понимания сути искусства, не как критик, а отвергаю ее почти целиком инстинктивно. Хотя отнюдь не исключено, что во многих случаях этот инстинкт потом выдержит проверку разумом. Без таких инстинктов и без такой душевной гигиены ни один художник не может жить, и у каждого они свои особые.
Но возвращаюсь к музыке. В мою, может быть, несколько пуританскую мораль искусства, мораль и гигиену художника и индивидуалиста, входит не только чувствительность к духовной пище, но и не менее чувствительный страх перед всеми оргиями коллективности, перед всем, что связано с психологией массы и массовыми психозами. Это самый щекотливый пункт моей морали, ибо вокруг этого пункта сосредоточены все конфликты между личностью и коллективом, между индивидуумом и массой, художником и публикой, и я просто не рискнул бы на старости лет лишний раз повторять, что стою за индивидуализм, если бы в одной особой области – политической – моя чувствительность и мои инстинкты, за которые меня часто корили люди нормальные и безупречные, не оказались ужасающе правы. Я много раз наблюдал, как полный людей город, полную людей страну охватывало то упоение, то опьянение, при котором из множества отдельных лиц возникает единство, однородная масса, как все индивидуальное гаснет и энтузиазм единодушия, слияния всех порывов в один массовый порыв наполняет сотни, тысячи или миллионы людей восторгом, радостью самопожертвования, утраты собственного «я», героизмом, выражающимся сначала в возгласах, криках, сценах братания со слезами растроганности на глазах, кончающихся войной, безумием и потоками крови. От этой способности человека опьяняться общим страданием, общей гордостью, общей ненавистью, общей честью мой инстинкт индивидуалиста и художника всегда горячо предостерегал меня. Как только в комнате, в зале, в деревне, в городе, в стране начинает ощущаться этот душный восторг, я сразу становлюсь холоден и недоверчив, сразу содрогаюсь и уже вижу, как течет кровь и города охвачены пламенем, а большинство сочеловеков, со слезами энтузиазма и волнения на глазах, все еще занято здравицами и братанием.
Довольно о политике. Какое отношение она имеет к искусству? Так вот, она уже имела к нему самое прямое отношение, и у нее много с ней общего. Например, самое мощное и самое мрачное средство политического воздействия, массовый психоз, есть и самое мощное и самое нечистое средство искусства, и ведь концертный зал или театр довольно часто, то есть в любой вечер успеха и блеска, как раз и являет зрелище массового опьянения, и это счастье, что оно может изойти в традиционных аплодисментах, усиленных разве что топотом и криками «браво». Не зная того, большая или меньшая часть публики ходит на такие мероприятия единственно ради моментов этого угара. От телесного тепла множества людей, от стимулов искусства, от чар дирижеров и виртуозов возникает напряженность, повышенная температура, которая любого, кто ей поддается, «поднимает», как ему верится, «над ним самим», то есть на время избавляет его от разума и других сдерживающих помех и в мимолетном, но сильном чувстве счастья делает мошкой, пляшущей в большом рое. Я тоже, бывало, поддавался этому хмелю и волшебству, по крайней мере, в молодости, дрожал и хлопал со всеми и вместе с полутысячей или тысячей других старался оттянуть пробуждение, отрезвление, конец угара, когда мы, уже стоя и, собственно, уходя, снова и снова пытались оживить остановившийся механизм искусства своим неистовством. Но случалось это со мной не очень часто. А следовало за этой опьяненностью всегда то скверное состояние, которое мы называем нечистой совестью или похмельем.
Когда, напротив, такие встречи с искусством приносили мне что-то доброе, благотворное и долговечное, мое настроение, мое душевное состояние не нуждалось ни в массе, ни в упоении, это было состояние умиления, просветленности, благоговения, ощущения Бога. После этих встреч с искусством, которые я называю настоящими, такое состояние не покидало меня каждый раз по нескольку часов, а часто и по нескольку дней, это была не оглушенность, не взвинченность, а сосредоточенность, очищенность, ясность, особая сила и светлость чувств и умственных устремлений.
Эти два вида магии и искусства, эти две формы взволнованности, черную и белую, опьянение и благоговение, я упоминаю в письме к Вам совсем не случайно, тем самым я как раз и возвращаюсь к Вам, к восхищению и благодарности, которые внушает мне Ваше искусство. Ибо на Ваших концертах я видел мощные демонстрации одобрения, но не видел этой массовой истерии. Правда, слушал я Вас больше всего в ораториях, произведениях духовной музыки, а им и сегодня еще принято придавать особую чинность, чинность праздничного богослужения, которая велит слушателям не бушевать, не кричать и не хлопать, а вести себя почтительно и тихо. Но ведь уже и сам факт, что Вы особенно любите и культивируете этот вид музыки, показывает Вашу приверженность благоговению, а не хмелю, достоинству, а не угару. Да и светскую музыку Вы всегда исполняли так, что на переднем плане стояло произведение, а не Вы и что пение Ваше звало не аплодировать, а благоговеть.
Я не буду, конечно, докучать Вам этим длинным письмом, которое я писал много часов. Воздать Вам хвалу было моим долгом перед собой, не перед Вами. В своей похвале я выражаю взгляды не очень-то современные и отчасти, знаю, принадлежащие даже пройденной, «преодоленной», по мнению оптимистов, ступени человечества и культуры, но тем не менее остающиеся для меня в силе. Преодоленной, достойной усмешки отвращения ступенью человеческой истории считались еще несколько десятилетий назад Тамерланы и Наполеоны, грабительские войны и набеги, массовые казни, пытки, а мы увидели, что эта «преодоленная» ступень вовсе не пройдена и что все ее сказочные ужасы опять вышли на поверхность. Поэтому остаюсь при своих дедовских воззрениях, полагая, что и о них вспомнит какая-нибудь будущая ступень культуры и кое-что из них ей пригодится. За ними стоит моя вера в прекрасное, особенно в то, что прекрасное равноценно истинному и доброму, что оно – не иллюзия, не человеческая выдумка, а проявление божественного[196]196
Гессе Г. Собр. соч. в 8 т. Москва-Харьков, 1995. Т. 8, с. 441–447.
[Закрыть].
Гессе отметил один существенный факт: в отличие от живописи, скульптуры и литературы, которые человек воспринимает непосредственно, и даже драмы – она предназначена для исполнения на сцене, но ее можно воспринять и путем простого чтения – музыка представляет такой вид искусства, который доступен восприятию только при помощи посредника. Посредник или исполнитель – человек со своим неповторимым интеллектуальным потенциалом и психофизическим складом, он принадлежит определенному времени и определенной культуре, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Эммануил Каплан, сравнивая интерпретацию романса Чайковского «Разочарование» в исполнении Иоакима Тартакова и Федора Шаляпина, подчеркивает, что оба артиста придерживались всех пометок композитора, и что в то же время их интерпретации были совершенно разными. Кто же из исполнителей представил «более объективную», «более правильную» интерпретацию романса Чайковского? На этот вопрос мог бы ответить, возможно, только сам Чайковский.
Мы говорим «возможно», поскольку верим, что композитор согласился бы с тем, что каждое великое произведение многослойно и неоднозначно, и что разные исполнители вполне законно, в соответствии со своим восприятием произведения, могут осуществить различные его интерпретации. Создавая конкретное произведение, композитор, разумеется, рассчитывал на творческое воображение интерпретатора. Буквальное воспроизведение нотного и поэтического текста, которому музыка, благодаря своей неконкретности, вернее, широкой ассоциативности, придает новое измерение, – попытка буквального воспроизведения представляла бы отрицание искусства.
Каплан, заключая свои впечатления от интерпретации Тартакова, записывает: «Долго бродили мы в тот вечер по ночным морозным улицам Петербурга, счастливые, что соприкоснулись с чем-то таким печально-красивым, что пройдет через всю жизнь и никогда не забудется»[197]197
Каплан Э. Шаляпин и наше поколение // Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 325.
[Закрыть].
Очевидно, что Тартаков представил значительную, продуманную и глубоко пережитую, содержательную, искреннюю и максимально убедительную интерпретацию. То же самое можно сказать об интерпретации Шаляпина (впрочем, совсем иной!). Решимся утверждать, что обе интерпретации были правильными.
Естественно, исполнителю непозволительно ставить свою личность выше личности автора и его произведения, недопустимо использовать и то, и другое как повод для саморекламы. Такой частный подход к произведению недопустим, он является поверхностным, аморальным и скорее относится к области патологии, чем искусства. Подобных, говоря словами Гессе, «глупеньких певичек», то есть, безответственных и примитивных исполнителей, мы не будем принимать во внимание.
Серьезный исполнитель подходит к произведению чутко и с уважением. Он его всесторонне анализирует и пытается найти в нем драматическое зерно. Он знает, что его задача – создание внутренней жизни произведения.
В ходе этого процесса частная личность исполнителя уступает место его творческой личности, которую составляют характер, определенная сумма знаний, уровень и содержание сознания, а также подсознание и художественная интуиция.
Исполнитель сливается с личностью автора, растворенной в конкретном произведении, в его содержательных компонентах. В ходе интерактивного соприкосновения этого комплекса с личностью исполнителя-артиста, которое является неотъемлемой составляющей творческого процесса, объединяющего элементы анализа и синтеза, формируется его интерпретация данного произведения.
Тартаков воспринял романс Чайковского в духе классического романтизма, а Шаляпин – как человек, проникшийся идеей протеста и борьбы.
Очевидно, что романс содержит широкую шкалу чувств и допускает различные «прочтения». В противном слу чае одна из этих интерпретаций, независимо от масштаба личности исполнителя, достоинств его голоса и технического совершенства исполнения, оказалась бы неубедительной.
Вспомним впечатления от одного из последних концертов Шаляпина в Москве, записанные Сергеем Лемешевым. В числе прочих Шаляпин исполнил и романс Чайковского «Ни слова, о, друг мой», который был не только неизбежной частью программ многих известных певцов, но и входил в обязательную программу студентов консерватории, так что Лемешеву он изрядно надоел. Но в исполнении Шаляпина Лемешев, по его собственному признанию, словно услышал этот романс впервые.
Да и другие сочинения, исполненные в тот вечер Шаляпиным, произвели на Лемешева глубокое впечатление, потрясли его до слез. На этом концерте он находился в том состоянии, которое Герман Гессе описывает в следующих словах: «По правде говоря, существуют и другие разновидности счастья, кроме возможности слушать пение… однако я был повержен, я был сражен».
Здесь выделяются два момента. Шаляпин открыл в романсе «Ни слова, о, друг мой» нечто, ускользавшее от других исполнителей (нечто уже имевшееся в этом сочинении), что дало его интерпретации оригинальность, новизну, неповторимость. Его воздействие на публику отличалось огромной силой, что позволяло открыть сознание публики и заменить прежние художественно-эстетические впечатления «оттиском» своей интерпретации.
Гессе, как мы видели, размышляет об этом так: «…Чистым это счастье не назовешь, оно имеет некоторое отношение к черной магии…». И добавляет: «Эта нечистая разновидность музыкального удовольствия совращает и развращает нас двояким образом, она уводит наш интерес и нашу любовь от произведения искусства к исполнителю и искажает нашу оценку, подбивая нас ради интересного исполнителя принять и такие произведения, которые мы бы в ином случае отвергли. Ведь и при самом жалком шлягере голос сирены сохраняет свое очарование».
Однако Лемешева при исполнении романса не интересовала личность Федора Шаляпина. Более того, его возмутило то, что Шаляпин включил в свой репертуар этот так часто исполняемый, «приевшийся» романс. Не было речи и о влюбленности в Шаляпина, при всей его огромной популярности.
Лемешев в этот момент скорее был склонен не поддаваться обаянию личности певца. Из этого состояния его вывели звуки вступления (у рояля был Федор Кенеман)[198]198
Кенеман Федор Федорович (1873–1937) – пианист, композитор, педагог. Много лет был аккомпаниатором Шаляпина.
[Закрыть]. Оригинальная шаляпинская интерпретация определила и характер аккомпанемента, который уже в самом начале предвещал нечто новое и необычное. Итак, внимание Лемешева было обращено не на личность исполнителя, а на само сочинение. Естественно, что романс появился в такой форме благодаря встрече с талантом и личностью Шаляпина, но при этом личность не заслоняла музыкальное произведение, напротив, раскрывала его во всей полноте и многозначности. Публика соприкасалась с личностью Шаляпина-артиста, оживлявшего романс, а не с Федором Ивановичем как частным лицом, обычным человеком, который за несколько часов до начала концерта мог во взвинченном состоянии метаться по дому, капризничая и рыча на окружающих.
К этому надо добавить, что и композиторы, как правило, – личности сильные, сложные и неоднозначные. Если исполнитель не является значительной личностью, он при всем желании сможет с трудом воспроизвести только первый слой подлинно художественного музыкального произведения. Ибо записи нот и пояснения, написанные рукой композитора, представляют лишь верхний пласт, за которым предстоит открывать подлинные значения, которые скрывает музыка в оправе слов.
Если исполнитель останется на уровне объективного, то есть, буквального воспроизведения первого слоя, это будет признаком его творческой импотенции! Каждое музыкальное произведение многозначно, полно тайн.
Например, в опере того же Чайковского «Пиковая дама» Герман исповедуется приятелю в своей любви к незнакомой девушке: мелодия его исповеди нежна и печальна. Он не может рассчитывать на взаимность, потому что беден. Но через некоторое время он услышит рассказ о покровительнице той самой девушки, о том, как эта старуха в молодости узнала тайну трех карт, которые всегда выигрывают. И мелодия мистических трех карт в точности повторяет мелодию его любовной исповеди! Загадка? Да еще какая!
Но при этом только спеть и сыграть по нотам, обращая внимание на пометки композитора (темп, динамика и т. д.) – более чем недостаточно. Только решение этой загадки дает ключ ко всей концепции оперы и ее интерпретации, а это требует работы творческого воображения сильной артистической личности. Исполнитель партии любого персонажа этой оперы (особенно Германа, Елецкого, Лизы и Графини) не может рассчитывать на успех, если он не постигнет всей глубины проблем, поставленных Чайковским. Ему придется определить свою позицию и ответить на поставленные композитором вопросы своими мыслями и чувствами в творческом процессе создания роли, пропуская их через особенности своего внешнего облика, через свою артистическую индивидуальность.
Восторг, вызываемый исполнением Шаляпина, не был результатом его прекрасного голоса. Известно, что его голос не обладал достоинствами, какими обладали многие певцы его времени. Исполнение Шаляпина было, как мы уже отмечали, художественным, а не физиологическим феноменом. Если публика и бывала зачарована его голосом, то не в физиологическом смысле (скажем, его силой и красотой, хотя голос у него был и сильный, и красивый), а в смысле содержательном: этот голос оказывался в состоянии передать любое чувство и психологическое состояние, мысль и идею, он был способен почти материализовывать образы в пространстве, достигая необыкновенно впечатляющей силы.
Мощь воздействия Шаляпина на публику была поистине ни с чем не сравнимой[199]199
Известен случай на репетиции «Бориса Годунова» в Париже, когда Шаляпин, без костюма и грима, в сцене галлюцинаций указал в угол зрительного зала, и все журналисты вскочили с мест и повернули головы в том направлении, куда показывал несчастный царь, надеясь там увидеть привидение.
[Закрыть]. Во время его концертов и спектаклей публика оказывалась в полной власти его гения, «обольщенная, покоренная, увлеченная».
Это и есть своего рода «магическая ситуация». Но и черная, и белая магия, независимо от целей и способа их осуществления, действуют по одному и тому же принципу: проецирование определенной ситуации или события на астрально-ментальном уровне и затем проявление ее в плане материальной реальности (то есть, оперативное воздействие и материализация).
Сцена, концертная или оперная, – это чистый лист, она может служить и высоким, и низким целям. Это зависит от того, что на сцене показывается, кто и как на ней выступает. Шаляпин как исполнитель придерживался высоких морально-этических принципов и обладал редким чувством ответственности, а мощные флюиды, исходившие от него, несли публике прекрасные и возвышенные чувства даже тогда, когда он выступал в ролях зловещих персонажей – Мефистофель в операх Гуно и Бойто или такой «дьявол во плоти», как Еремка во «Вражьей силе» А. Н. Серова.
Благодаря способности глубоко проникать в художественную материю и большой силе внушения Шаляпину удавалось бросить свой отблеск даже на слабые произведения, вдохнуть в них жизнь. В первую очередь это относится к опере «Дон Кихот» Ж. Массне. Шаляпин видел ее недостатки. Однако он слишком любил «Рыцаря печального образа», созданного Сервантесом, и находил в нем многие черты, свойственные ему самому. Шаляпину хотелось во что бы то ни стало сыграть его на оперной сцене и представить образ Дон Кихота, живущий в культурной памяти человечества, таким, чтобы зрители сразу узнали его при первом же появлении и улыбнулись ему как старому и всем дорогому знакомому. Шаляпин сотворил образ, бывший амальгамой комичного и трогательного, фантазерства и беспомощности, соединявший доблесть вояки и слабость ребенка, гордость кастильского рыцаря и в то же время доброту и милосердие святого. Он успешно решил задачу перевода литературного образца на язык оперного искусства, несмотря на то, что сочинение Массне предоставляло для этого весьма скромные возможности. В либретто оперы отсутствовало все, что обычно восхищает у Сервантеса, – глубина мысли, чистота и возвышенность идей, аромат поэзии – и при этом действие развивалось на фоне тривиальнейшей музыки.
Припомним фрагмент из критической статьи Эдуарда Старка: «И вот по этим-то разрозненным клочкам, захватывая роль гораздо шире, проникаясь сущностью изображаемого героя неизмеримо глубже, чем на это рассчитывают либретто и музыка, Шаляпин раздвигает такие идейные горизонты, которые и не снились ни либреттисту, ни композитору, и чудесно создает необыкновенно яркий и гармоничный, безмерно трогательный образ, рельефный и жизненный, и в то же время общечеловеческий»[200]200
Старк Э. Из книги Шаляпин // Федор Иванович Шаляпин. М., 1979, с. 92–93.
[Закрыть].
Это впечатление дополняет рецензия Юлия Энгеля: «Рыцарь Шаляпина в некоторых штрихах превосходит даже оригинал. Он никогда не бывает смешон, даже в моменты, когда он отдается самым обманчивым иллюзиям. Его всегда окружает ореол возвышенного идеализма. Он порой кажется святым, заблудившимся в этом мире. Внешние конфликты, переживаемые им, незначительны, но внутренний конфликт, в котором Дон Кихот постоянно находится с внешним миром, поднимает его на высоту трагизма и действует потрясающим образом»[201]201
Цит. по комментариям в кн.: Федор Иванович Шаляпин. М., 1979, с. 287.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.