Текст книги "Москва слезам не верит"
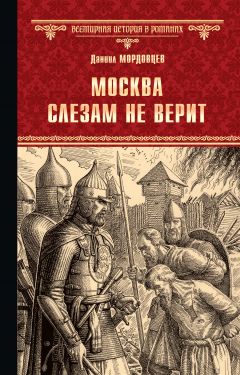
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
XII. Исповедь князя Мышецкого
После такого вторичного, неудачного приступа осада монастыря снова затянулась на неопределенное время. Воевода Мещеринов, опасаясь, что за этим проклятым соловецким сидением его русая головушка успеет подернуться инеем седины, а кемская попадейка состареться, бил челом о подмоге ратными людьми, и к нему прислали в помощь около восьми сот свежих стрельцов, двинских и холмогорских. Поглядели и эти стрельцы на серые стены, по которым от времени до времени двигались темные тени, посмотрели, покачали головами и в душе пришли к тому же заключению, что и прежние: «За что, мол, про что старцев божиих тревожат? Вон как голосно за стенами звонят святые колокола, молятся, знать, старцы, не дурно какое чинят, а Богу работают… вон и голубки над монастырем полетывают и ластушки-касатушки вокруг церквей пореивают, таково хорошо там, а мы разорять их пришли… али мы нехристи?»
И потянулась вялая, неохотная осада, потянулось бесконечное время. Лето же, как назло, выдалось жаркое, душное, марящее, какое только способен создать сырой, водянистый север. Стрельцам почти постоянно приходилось проводить время в окопах, в сырых и душных землянках, и только по ночам они могли выползать из своих берлог, чтобы подышать воздухом; а то покажись только днем, так со стен монастыря, того и гляди, угостят пулей, а соберись стрельцы кучкой, так и галанскими орехами черная братия попотчует. И из-за чего, думалось стрельцам, вся эта истома? Чем провинились старцы? Что крестом-ту истовым крестятся, не щепотью, так вина эта не больно винная: эта вина не в вину. Недаром отцы и деды двумя персты крестились: а они были не глупее сынов-от да внуков своих. Да и то сказать: так оно от старины повелось, так бы ему и стоять. Дак нет! Завелись умники: знаем-де, на чем свинья хвост носит. Эко диво! Али московские чудотворцы: Петры, Лексей, Иона и Филипп щепотью крестились, что в святые угодили, у Христа в переднем углу сидят? Да и кто ныне пристал к этим новинам? Али люди? Самые что ни на есть дрянные людишки, вот кто пристал к новинам этим. Кому все равно, как ни молись, тот на эти новины пошел, кто и в церкву-то мало хаживал, али кому выслужиться захотелось, на виду стать, вот кто эти новинники. Статочное ли дело свою веру менять! Кто в своей вере не крепок, тот царю, как и Богу, плохой слуга: дурно у него на уме, корысть, а не вера. Стояла допрежь сего Русь на двух перстах, а как она будет стоять на трех, про то бабушка надвое сказала. Вот хотя бы взять самих нас, стрельцов. Ноли мы не христиане были? Ноли мы за церковь да за великого государя не стояли? Мы и теперь стоим, да только хромлем, вот что! Мы крест целовали служить великому государю верой и правдой: мы крест целовали по-старому, истово, на двух перстах, а не на трех. А теперь велят молиться трюми персты. Али это дело? Ну, и молимся супротив шерсти, велено, так не ломать же крестного целованья в угоду сатане. А сунься-ко дома с трюми персты, так бабы стрельчихи рогачами ребра пересчитают, а то и хуже: на постель тебя баба к себе не пустит. Баба не то что наш брат мужик: нам, случается, и лба недосуг перекрестить, а баба ни-ни! Баба божья работница, баба блюдет старую веру и соблюдает ее. А поди заставь бабу креститься по-новому, так она и скажет-зась! А то на! Старцы вон нам поперек дороги стали, чудеса, да и только.
Так рассуждали стрельцы своим простым умом, не догадываясь, конечно, что эта неразумная борьба против родных братьев, оставшихся верными старой обрядности, протянется на столетия, что она станет источником великих преступлений и бесчеловечных жестокостей со стороны тех, которых старцы называли «дрянными людишками», что эти «дрянные людишки» прольют потоки русской крови, и прольют бесплодно, что, наконец, это «соловецкое сиденье» растянется на сотни лет и что в этом «сиденьи» очутятся не одни соловецкие старцы, а целая половина России: эта половина России, так называемые «раскольники», «старообрядцы», которые в конце концов все-таки останутся победителями, потому что Россия, слава Богу, начинает уже понимать, что борьба ее с расколом обошлась ей дороже всех войн, начиная с Отечественной войны 12-го года и с крымской и кончая последней турецкой, что в войне с расколом Россия потеряла не пять и не десять мильярдов, а тьмы тем их, а все-таки не взяла ни одной раскольничьей Плевны, говоря иносказательно, и не возьмет: «соловецкое сиденье» будет продолжаться вечно, если Россия не снимет осаду с раскола и не прекратит своей «отечественной войны» с людьми старой обрядности, которая, как всякая обрядность, а тем паче религиозная, тем правее и чище, чем она консервативнее, так сказать, археологичнее…
С своей стороны, осажденные в простоте своей души верили еще более, что дело их правое и что за гонимый «аз» и за «матушку аллилуйю» они готовы мученический венец принять. Поэтому, когда черные попы с Теронтием во главе заупрямились было, говоря, что царскому воеводе не следует противиться, что хотя ни «батюшкой азом», ни «матушкою сугубою аллилуйею», ни тем паче двумя персты поступаться не надобет, бо еже и наглую смерть прияти, однако же «кесарева кесареви» воздати подобает и противу царского рожна прати не приходится, так, когда черные попы и Геронтий высказали подобный взгляд на дело, братия, продержав их под караулом четверо суток, на пятые выбросила за ворота, аки древо посохшее, бурелом негодный, и решила без попов выдержать бурю до конца. «Мы-де старые дубы, – говорил Никанор, – постоим за себя, а исповедоваться будем не попам, а самим себе да Господу Богу: вон Он, Батюшка, на все взирает оком своим, и на дубы великие, и на кедры ливанские, и на крины сельные[49]49
Крины сельные – полевые цветы (крин – растение, цветок).
[Закрыть], что в травушке-муравушке растут: и они, эти крины, самому Господу исповедуются, так нашей ли исповеди не примет Батюшка Свет!»
Вон в одной келье, на жестком деревянном ложе, на которое брошена кошемка, мечется в жару старый чернец. Густые, с сильной сединою волосы, растрепанные и местами сбившиеся, словно неваляная и немытая шерсть, падают на лицо и на раскрытую грудь, на которой видно большое серебряное Распятие. Разметанные члены, широкие костлявые плечи и грудь изобличают, что когда-то это была мощная фигура. Горбоносое с высоким лбом лицо, глаза, теперь болезненно притухшие, очертание губ, подбородка – все невольно подтверждает давно ходившую в монастыре молву, что чернец Зосима, который теперь мечется на болезненном одре, не простой черныш, не худородный, а роду княжеского, только каких князей, никто не знал: он давно пришел в монастырь, внес богатый клад в монастырскую казну золотом, серебром и дорогими камнями и постригся под именем Зосимы, тезкою стал преподобному Зосиме – Савватию.
Несколько дней тому назад старец Зосима и Спиря юродивый, ревнуя об освобождении святой обители от нового Мамая – так величали воеводу Мещеринова эти два старца, – забрали себе в голову смелую мысль: пойти по стопам приснопамятных иноков Пересвета и Осляби и так или иначе добыть нового Мамая. Для этого они ночью вышли из монастыря и, никем не замеченные, добрались до стрелецкого стана. Стрельцы спали. Спали даже часовые. Зосима и Спиря подползли к палатке воеводы и только было хотели войти под полог, как проснулась спавшая у самого входа в палатку воеводская собака, залаяла на ночных посетителей и разбудила воеводу. Озадаченные неожиданностью, старцы хотя тут же разрубили бердышом череп собаки, но, услыхав тревогу во всем лагере, должны были поспешить назад в монастырь… Из воеводской палатки раздался выстрел, и Зосима, вскрикнув и схватившись за бок, был подхвачен сильными руками юродивого.
Зосима находился между жизнью и смертью. «Безребрая», как выражался Исачко сотник, уже махала косою над головой раненого, только Спиря «ей, шельме, тертого хрену подносил», и она бегала от божьего человека, как черт от ладану.
Окна в келье открыты, чтобы легче дышать больному. Откуда-то, должно быть с монастырской стены, доносится полупьяное напеванье:
Ах, ты шапка, ты шапка моя.
Одново сукна с онучею…
Это Исачко, от скуки подвыпивший, сидел на затинной пищали, глядел на море и мурлыкал свою любимую песенку «про шапку»: ратным людям дозволялось выпивать вне правил монастырского устава об «утешении».
«Ти-ти-вик! Ти-ти-вик!» – пропискнула ласточка.
Спиря, сидевший около раненого в глубокой задумчивости, поднял свою косматую голову. Ласточка, влетевшая в окно, села на засохшие прутья освященной вербы, заткнутые за образа, и поглядывала своими изумленными глазками.
Раненый открыл глаза и блуждал ими по потолку.
«Ти-и-вик! Ти-и-вик!»
– Это ее душенька, – как бы про себя пробормотал раненый.
– Чья? – спросил Спиря тихо.
– Ейная… она за мною прилетела.
Спиря перекрестился. Снова тихо в келье. Косые лучи солнца сквозь открытое окошко падали на лежавшее на маленьком аналое, рядом с Евангелием, Распятие. Там же лежал и знакомый нам череп.
– Кровь… все кровь… лужи крови… и на траве кровь… на кустах… солнышко встало, и оно кровавое… А она разметалась… лежит… а головы нет… где голова? Кто ее унес?.. Он сам унес… Господи помилуй!
Это раненый не то бредит, не то вспоминает что-то. Вздрогнул юродивый, слушая эти непонятные слова, глянул на череп: и на нем играли косые лучи солнца.
Ласточка снялась с вербовых прутьев, покружилась по келье и с писком выпорхнула за окно. Раненый открыл глаза.
– Это к моей смерти, – сказал он и поглядел на юродивого осмысленными глазами.
– В животе и смерти Бог волен, – отвечал последний.
– Нет, мой конец пришел… «конец приближается»… Будет, пожито… гораздо пожито…
Раненый перекрестился и снова взглянул на юродивого.
– Не хочешь ли испить? – спросил последний.
– Хотел бы…
Юродивый поднялся, чтобы подать кружку с питьем.
– Нет, не того, – отрицательно покачал головою больной.
– Чего ж тебе?
– Крови бы пречистой…
Юродивый посмотрел на него с удивлением: не бредит ли де? Нет, не бредит: глаза глядят разумно, жар прошел.
– Христовой бы кровушки перед смертью, – пояснил больной.
– Причаститься захотел?
– Да, душа алчет и жаждет… Исповедай меня, брате святый.
Юродивый задумался. Он вспомнил слова архимандрита, когда изгоняли из монастыря Геронтия с попами, «будем друг у дружки исповедываться, перед лицем Господа, как крины сельнии исповедуются»…
– Добре, брате. Кайся Господу, – сказал он и встал.
Затем, встав перед аналоем на колени, он начал читать предысповедную молитву. Больной тихо повторял за ним. «Се ми одр предлежит, се ми смерть предстоит, суда Твоего боюся», – слышались молитвенные слова, которые перебивал доносившийся со стены монотонный напев:
Ах, ты шапка, ты шапка моя…
– Великий грех у меня давно лежит на душе, тяжкий грех! Ох, какой тяжкий! – начал больной после молитвы. – Сорок лет, словно жернов на шее, волоку я этот грех и доволок до могилы. Ни днем, ни ночью, ни во пиру, ни в беседе, ни за четьем-петьем церковным, ни за келейною молитвою не отваливался от моего сердца этот горюч алатырь-камень. Вот так и стоит она передо мною, кровавая, и шепчет: «За что погубил меня? Куда ты девал мою голову?» Ох, тяжко! Смертушка моя, как тяжко!
Он помолчал, как бы собираясь с силами. Юродивый тоже молчал, хотя губы его шевелились. Ласточки задорно щебетали за окном, как будто силясь одна другую переговорить, словно бы у них шла речь о предметах такой важности, как сугубая аллилуйя.
– Был я княжово роду, воеводин сын княжич и воеводич, – продолжал больной, тяжело вздохнув. – Рос я в холе и воле, не ведал сызмальства ни судержу, ни суперечины, был батюшковым любимым сынком, а у матушки мизинчиком. Таким и вырос, таким и до окаянства дошел. Из воеводича и княжово сына я сам стал воеводою и князем: лет сорок тому будет, как я воеводою назначен был. Послан я был в те поры на воеводство в Муром…
– В Муром! – изумленно перебил его юродивый.
– В Муром… И спознался я в те поры с некоею женою благородною. Муж ее числился в моем полку, да только все обретался в нетях. И как спознался я с тою женою, и нача мя искушати бес, нагнал на меня слепоту и окаянство лепоты ради женки той. «Убей, – говорит, – мужа и возьми себе жену». День и ночь в бдении и тонце сне не отходил от меня бес: «Изведи да изведи мужа того».
– Муж тот был из роду Хилковых? – спросил юродивый глухим голосом.
Больной испуганно приподнялся на своем ложе и так же испуганно глядел на юродивого.
– Ты почем знаешь, что он был Хилков? – спросил он в свою очередь.
– Знаю, – был короткий ответ. – Кайся дале…
Голова больного снова опустилась на изголовье, и он глубоко вздохнул.
– Вижу, что тебе Бог все открыл, – продолжал он более покойным голосом, – и мое покаяние дойдет до Бога с твоими молитвами, человече святый.
– Не говори этого, – строго перебил юродивый, – я – сосуд сатании, и грехам моим несть числа.
– Ин будь по-твоему… – Больной снова тяжело вздохнул и продолжал: – Обошел меня бес, распалилась плоть моя окаянная, и я положил в душе извести того человека.
– Спиридона Иванова, сына Хилкова, мужа Настенькина? – подсказал юродивый.
– Ты и ее знаешь? – вздрогнул больной.
– Знал… ну?
– Ну, и пришел я к ней однова ночным временем, и утаились мы с нею в саду, и стал я ее к своему злому умыслу приводить, чтоб Спиридона извести… И вдруг словно архангел мечом поразил меня… Дальше я ничего не помню: опамятовался уже я утром, когда солнышко взошло, и увидел около себя ее…
– Настасью Хилкову?
– Настасью; увидел ее на траве мертвую, а голова у нее от туловища отрезана и где девалась, неведомо…
– Вот она! – неожиданно сказал юродивый и поднес к больному череп. – Смотри, узнаешь?
Больной глядел испуганно, ничего не понимая. Он посмотрел в глаза юродивого: в них теплилось что-то кроткое и тоскливое.
– Это она, Настенька, моя жена, а твоя бывшая полюбовница… Поцелуй ее теперь, как в те поры целовал, князь Захар, княж Остафьев, сын Мышецкой… – Это говорил юродивый, поднося к губам больного страшный костяк…
На лице больного изобразился ужас. Челюсти его дрожали. Дрожали и волосы, прилипшие к потным вискам.
– Кто ж ты сам? – шепотом спросил он, отворачивая лицо от отвратительного костяка.
– Я – Спиридон Иванов, сын Хилков, боярской сын и воровской атаман, а ныне соловецкой трудник.
Больной застонал и лишился сознания, а юродивый, став на колет перед аналоем, шептал: «Господи! Прости ему, не вмени ему во грех…»
А со стены доносилось бессвязное пение:
Одново сукна с онучею…
Ласточка опять влетела в окно, села на сухих прутиках вербы и весело пропискнула… Должно быть, к покойнику…
XIII. Роковые качели
К западной стороне монастырской ограды, за поварнею, на втором дворе, где находились сушилы, поставлены новенькие качели. Соорудил их все тот же великий худог, городничий старец Протасий, для общей любимицы Оленушки. Скучать стала Оленушка в монастырских стенах, в этом нескончаемом осадном сидении, так заскучала, что даже с лица спадать стала, алый румянец со щек, словно заря с зимнего студеного неба, сбегать начал, и стала она то на молитве в церкви задумываться, то по целым часам сидела на завалинке у своей кельи, глядя неведомо куда; то замечали старцы, что у нее будто глаза заплаканные и смех не так звонок. И стало жаль старцам своей «девыньки мизинчика», своего монастырского «серебряного колокольца», что звонил своим серебряным голоском среди угрюмой скитской тишины, и надумали старцы устроить для своей любимицы забавочку, качельцы в ограде поставить. Хотя бы оно и зазорно монастырю такую затейку затевать – качели ставить в стенах святой обители, да еще и в осадном сиденьи, только ведь не для братии была эта затейка, для отроковицы невинной. «Она-деи, отроковица, пред Богом светла и чиста, аки свечечка воскояровая пред образом, – говорил старец Протасий, – так пущай-деи качается душенька отрочате на качельцах, что кадильцо пред Господом: не возбраняйте-деи сим ничто же, сих бо есть царствие Божие…» Старец Протасий любил поговорить от Писания, хотя и знал всего-то Писания от «мал бех» да до «лядвия моя наполнишася поругания», а на «слово-титлах» всегда спотыкался…
Вот и соорудил старец Протасий для Оленушки качельцы, да такие ли знатные да пестротою измечтанные: по белому столбу да полоса синя, да полоска красна, да опоясочка лазорева, а там опять синяя, да лазоревая, а дале зеленца подпущено, да алые зубья, да киноварь, ажно глаза рогом лезут, как долго поглядишь на эту пестрину наглостную. А веревочки старец приладил аховые, пенька новгородская первый сорт; а чтоб ручки Оленушка не потерла об новгородскую пеньку, старец Протасий не пожалел своей старой бархатной скуфейки, изрезал скуфейку и обшил ею те места веревки, за которые должны были держаться нежные Оленушкины ладонки. И сиденье вытесал старец гладкое, дубовое, из той доски, что на гроб себе смиренный Протасий припас, да излишек остался, испостился и высох так старец, что гроб надо было переделать в узенький гробишко, а от крышки гробовой можно было отпилить лишки на Оленушкины качельцы. Зато и рада была Оленушка: так и повисла на сухой шее добренького дединьки Протасьюшки и так расцеловала его бледную лысину, что инда краска на ней выступила… «То-то молодешенько-глупешенько», – шептал старец, смахивая шальную слезу с ресницы и вспоминая что-то очень далекое и очень милое, подернутое серою пеленою времени. А на верху качелец старец Протасий крестец малый водрузил из древа кипарисового, да крестец истовый, осмиконечный: «Оно дело-то прочнее живет, коли оно по-божески строено, коли его крестец святой осеняет, так-ту, девынька…»
И вот теперь «девынька», окрашиваемая косыми лучами заходящего солнца, качается на своих пестрых качельцах, словно русалка на гибких ветвях плакучей ивы. Оленушка качается тихо, сидя на дубовом сиденье и слегка придерживаясь руками за веревки. Плавно скользит длинная тень ее по зеленой мураве монастырского двора, перекидываясь с травы на белую стену поварни. Так же плавно вместе с Оленушкой двигается, раздуваясь в воздухе, подол ее голубого сарафанчика, из-под которого выглядывают белые чулочки и малиновые юфтовые, казанского шитья, черевички. Вслед за нею реет в воздухе своими длинными двумя концами ярославская лента, вплетенная в русую косу. Оленушка качается как бы машинально, потому что лучистые глаза ее то безмолвно и задумчиво глядят неведомо куда, то так же задумчво опускаются вниз…
А внизу, на траве, опершись спиною о столб качельный, сидит молоденький служка Иренеюшка, тот самый, что на святках плясал в поварне за бабу, и плетет корзинку из сухих морских водорослей. Черная скуфейка его брошена на траву, а черные, как вороново крыло, густые и длинные волосы, спадая на спину и плечи, заставляют думать, что это сидит девочка с распущенной косой. Он по временам поднимает свои черные, с большими белками, ласковые глаза на качающуюся девушку и снова опускает их на работу.
– И тебе кручинно здесь в монастыре? – спросила девушка, по-видимому, продолжая начатый разговор и не глядя на своего собеседника.
– Так кручинно, так уж кручинно, что хуть в море, так впору, – отвечал последний, не поднимая головы. – Уж бы скорей стрельцы нас взяли!
– Ох, что ты! – испуганно прервала его девушка.
– Что! Все легче, нечем так-ту.
Оленушка ничего не отвечала; она только тяжело и продолжительно вздохнула. Над монастырем пролетела чайка и словно бы проплакала в тихом воздухе.
– Вон ей лучше… она птица, а не человек, – как бы про себя проговорил Иренеюшка.
– И то правда, – согласилась девушка и снова вздохнула.
Из-за ограды, должно быть, с берега, ясно доносились слова заунывной песни:
Что кукует кукушечка и день и ночь,
Ни на малый час перемолку нет…
– И стрельцы поют… у них весело, – тихо проговорил Иренеюшка.
Оленушка не отвечала: она вслушивалась в пение, голос такой хороший, кручинный…
Разорил сокол ее гнездышко,
Разогнал ее малых детушек.
Малых детушек, кукунятушек.
– Эх! Умереть бы, Господи!
– Что ты! Что ты, Иренеюшко!
– Э! Ноли так-ту маяться!
Девушка перестала качаться. Глаза ее упали на черную, низко наклоненную голову молодого послушника.
– Для чего же ты пошел в монастырь, коли теперь… – спросила было она и не договорила.
– Меня матушка отдала, – грустно отвечал юноша.
– За что?
– А так… за батюшку… Богу посвятила…
Оленушка глядела на него с удивлением: она не понимала того, что говорил он.
– Богу? Как посвятила?
– По обету… обет такой дала, давно, я тогда был еще махеньким… Батюшку в те поры послал царь с ратными людьми на воровского атамана, на Стеньку Разина…
– А кто твой батюшка? – спросила Оленушка, заинтересованная словами юноши.
– Барятинский князь, Юрье Микитич…
– Так ты княжич? – спросила изумленная девушка.
– Был княжич, а ноне служка… кошели плету.
Голос у юноши дрогнул… Задрожали пальцы, которыми он сплетал гибкие нити морской травы.
– Ах, бедненький! – невольно вырвалось сожаление у Оленушки. – Как же это матушка твоя отдала тебя сюда? И не жаль ей было?
– Жаль; да что поделаешь? Богу обещала, коли-деи Бог воротит батюшку из похода жива, так отдам-деи Богу сына… Ну и отдали. Стенька-то уж больно страшен был… Как батюшка ушел из Казани против Стеньки к Синбирскому городу, так мы с матушкой и всей Казанью и день и ночь Богу молились.
– Что ж, воротился батюшка?
– Воротился… Стеньку на Москву отвезли и там сказнили, а меня вот сюда…
Слезы невольно брызнули из глаз юноши и полились на его жалкое плетение. Он припал лицом к ладоням и плакал. Оленушка не могла выносить этого и, соскользнув с качелей, стала на колени около плачущего юноши.
– Не плачь, Иренеюшко… не плачь, княжич, – всхлипывала она сама.
Иренеюшка заплакал еще сильнее.
– Княжич, голубчик, не плачь!
И девушка гладила волнистую голову юноши. Тот не унимался, а напротив, почувствовав ласку, услыхав участные слова, уткнулся лицом в колени и плакал навзрыд, как бы силясь вылить всю размягченную посторонним участием душу. Слезы брызнули у Оленушки.
– Господи! Да что ж это такое! – всплакалась она, силясь приподнять голову юноши.
Тот продолжал качать головой, как бы от нестерпимой боли, и не переставал плакать. Оленушка припала к нему лицом и обхватила его.
– Княжич мой! Родненькой! Не надо! Не надо, миленькой! – страстно молила она.
Он приподнял голову, не отнимая мокрых пальцев от лица. Девушка обвилась руками вокруг его шеи, прижалась лицом к его лицу и в забытьи шептала, целуя его руки и щеки: «Милый! Дорогой! Братец мой!»
Она не заметила в этом страстном порыве жалости, как его руки отнялись от лица и обвились вокруг девушки, а горячие губы бессознательно соединились… «Сестрица! Оля моя! ягодка!» – «Братец мой! Княжинька!» И губы снова сливались, слова замирали…
– Ну вот! – как бы опомнилась Оленушка, вся красная. – Вот теперь ты не плачешь! Ах, как я рада!.. Знаешь что?
Иренеюшка смотрел на нее молча и, казалось, ничего не понимал.
– Знаешь что? – торопливо, радостно захлебываясь, говорила Оленушка. – Когда ты будешь совсем большой… который тебе год теперь? – спросила она, перебивая себя.
– Шестнадцатый, – машинально отвечал Иренеюшка.
– А мне уж семнадцать, я старше… Так вот, как ты вырастешь совсем большой, так тогда возьми и уйди из монастыря… Да, уйдешь?
Иренеюшка молча покачал головой.
– Отчего же? А?
– Нельзя… Монастырь – что гроб.
– Ну, вот еще!.. А то княжич, княжной сын, и кошельки плетет, ах!
И Оленушка звонко и весело расхохоталсь. Иренеюшка молча любовался ею. Оленушка вдруг подошла к нему и стала играть его шелковыми волосами.
– Ишь, словно у девочки коса… Ах, как смешно! – болтала она. – Дай я тебе заплету ее и свою ленту вплету в косу, вот и будешь княжна, княжецка дочь, ах!
И она повернула его за плечи и стала плести ему косу. Иренеюшка невольно повиновался шалунье, находясь под каким-то сладким обаянием, прежде им не испытанным никогда.
Черная коса была вмиг заплетена. «Вот так-ту… уу, какая большая коса-косынька!.. А теперь ленту надоть…» И она выплела алую ярославскую ленту из своей косы и вплела ее в косу Иренеюшке.
– Ах, как хорошо! – Она повернула его к себе лицом. – Ах, какая хорошенькая девочка! Ах, княжецкая дочь!
Иренеюшка не шевелился, он стоял как очарованный.
– Ну, что ж ты молчишь, царевна Несмеяна! – приставала к нему Оленушка. – Ну, покачай меня.
И она, взяв его за плечи, подвела к качелям: «На, держи, а я сяду». Усевшись на дубовое сиденье и ухватившись руками за веревки, она вдруг зачастила тоненьким голоском:
Ох и ток-точки,
Уж и дайте лучки —
На баране клочки.
Перебить клочки
На полосточки,
На подметочки.
И вдруг весело засмеялась. «Качай же! Ну! Княжецка дочь, ну, живо!»
Иренеюшка повиновался: он качнул ее раз, два, в третий сильнее, и отошел в сторону… Оленушка взвилась, весело сверкая глазами…
– Ай да дедушка Протасьюшка! Ай да миленькой… Еще, еще, шибче поддай!
В это время из-за сушил показалась черная скуфейка и острая седая бороденка старца Протасия. При виде смеющегося личика Оленушки старые, запавшие, но все еще плутоватые глазки старца блеснули добротою, и он, не желая испугать ребят и помешать их забаве, снова юркнул за сушилы.
– Еще, еще, миленькой княжич! – настаивала Оленушка.
Иренеюшка снова поддал. Размах делался все шире и шире. Оленушка взлетала до самой перекладины. В воздухе раздувался подол ее сарафана да мелькали малиновые черевички да белые икорки в чулочках.
– Душечка! Еще выше! Я хочу, чтобы голова закружилась! – умоляла она.
Иренеюшка, весь пунцовый от натуги, со всего размаху толкал летающую мимо него доску, и Оленушка взвивалась все выше и выше.
– Ох, хорошо! Ох, как хорошо! Еще!
– Будет страшно…
– Нет, еще! Сердце замирает…
– Упадешь, убьешься.
– Ох, я словно в раю… голова кружится… ох, ох, падаю… – Она была бледна…
Иренеюшка схватился за доску, но она увлекла его, и он упал на землю. Сила размаха, однако, ослабела. Иренеюшка вскочил с земли и снова ухватился за доску. На этот раз он остановил ее и только хотел помочь Оленушке встать, как она без чувств упала ему на грудь. Он обхватил ее и вместе с нею опустился наземь… Голова ее упала к нему на плечо…
– Оленушка! Что с тобой! Милая!
Она не отвечала. Юноша поднял ее голову и, увидав закрытые глаза девушки, бессознательно припал губами к ее холодным губам…
– Душечка! Оленушка! Ох, господи! Она умерла! – с ужасом вскричал он, опуская на траву тело девушки.
– Кто умер! Ах! – раздался сзади чей-то испуганный голос.
Иренеюшка вздрогнул, перед ним стоял Спиря юродивый, бледный, испуганный.
– Что это! Это ты ее! – вскрикнул он не своим голосом. – Что ты с нею сделал?
– Это не я… нет, убей меня Бог, не я… она сама… она высоко качалась…
– Упала? Убилась?
– Нет… сомлела…
Юноша приблизил свое лицо к самому лицу девушки, ломая руки.
– Оленушка! Оленушка!
– Ты убил ее, окаянный, – хрипло проговорил юродивый, становясь на колени. – Ты убил ее!
– Нету, нет… я сама…
Это Оленушка: она открыла глаза и, встретив взгляд наклонившегося к ней Иренеюшки, обвилась руками вокруг его шеи…
– Это не ты, не ты, я сама… Мне ничево, милый мой! Княжич!
Приподнявшись немного, она увидела юродивого.
– Дедушка! Миленький! Не сердись, я не убилась… он, он ничевошеньки не виноват…
Юродивый быстро перекрестил ее, но, увидав ленту в косе у Иренеюшки, невольно улыбнулся и покачал головой.
– Ах вы, дурачки мои, дурачки, и сердиться-ту на вас нельзя… как есть дети, – пробормотал он и махнул рукой.
Между тем из окна поварни за всем этим давно наблюдали два черных, блестящих глаза. Лицо наблюдавшего подергивалось злорадною улыбкой, а красные мясистые губы шептали: «А! Умеешь целоваться… да еще как, взасос! Ишь смирена, недотрога! А тут, чу, “миленькой, душечка, братец”, то-то!.. Уж жив не буду, а достану тебя, кралю: будешь моя…»









































