Текст книги "Москва слезам не верит"
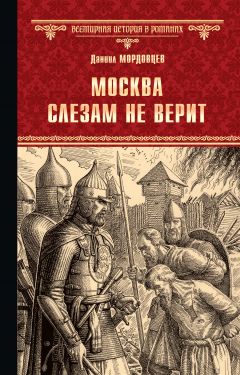
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
X. Начало беспоповщины
Не сбылись надежды Оленушки. С весны монастырь снова обложен был стрельцами.
Теперь воевода Мещеринов явился под монастырь уже с царскою грамотою, за государственною большою печатью, «под кустодиею»[47]47
Кустодия – полоска белой бумаги, которой иногда прикрывали сургучную печать сложенного письма для защиты от повреждений.
[Закрыть], каймы и титул писаны золотом.
Стрелецкий полуголова Кирша вступил в монастырь во всем величии посольства, с двумя сотниками, держа царскую грамоту на голове, на серебряном подносе, словно дароносицу. Власти монастыря ввели его прямо в собор. Старик архимандрит, круто насупившись и шевеля своими волосатыми бровями, с амвона принял грамоту с головы Кирши, который ни за что не решался нагнуться или шевельнуть своею волчьею шеею…
– С царскою грамотою, что и с дарами, гнуться не указано, – раздался в тишине его сиплый голос.
Черная братия усиленно дышала. Никанор, приняв с головы стрельца грамоту, повернул ее на свет.
– Печать большая государственная, под кустодией, с фигуры… подпись дьячья на загибке, – бормотал он как бы про себя, рассматривая документ государственной важности.
Около него стояли келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и длинный и сухой, как жезл Аарона, старец Геронтий.
– Огласи грамоту, по титуле, – сказал глухо Никанор, передавая грамоту Геронтию.
Геронтий взял грамоту. Сухие и длинные руки его дрожали. Черная братия притаила дыхание.
Геронтий откашлялся, словно ударил обухом по опрокинутой сорокоуше.
– «…Бога, – начал он прямо с октавы. – Бога в трех присносиятельных ипостасех единосущного пребезначальнаго, благ всех виновнаго светодавца, им же вся быша, человеческому роду мир дарующего милостию!»
Грамота ходенем ходила в его руках. Голос иногда срывался. Золото, которым блистал титул царя, рябило в глазах. Он передохнул.
– «…И сие благодеяние повсюду повестуя, мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич и наследник, и государь, и облаадатель…»
…«Облаадатель» на слоге «лаа» он неимоверно вытянул, в точности следуя написанию титула, в котором «обладатель» неизменно должно было писаться с двумя «азами» после «люди»: «начертание истовое», освященное, за опущение одного «а» в титуле дьяков секли батоги, а подьячих кнутом нещадно… Таково было время…
– «…Облаадатель! – рявкнул Геронтий. – Соловецкаго нашего монастыря архимандриту Никанору, келарю Нафанаилу, городничему Протасею и соборному старцу Геронтию (опять сорвался голос), священником, дьяконом, всем соборным чернецом, и всей братии рядовой и больнишной, и служакам и трудникам всем!»
Он перевел дух. Собрание дышало тяжело, порывисто, словно в церкви не хватало воздуху. За окнами ворковали и дрались голуби. Воробьи чирикали, словно перед грозой. Залетевшая в собор ласточка пронеслась над самой головой Геронтия, едва не зацепив его крыльями, и прицепилась лапками к иконостасу. Над черными клобуками и скуфьями собора поднялась костлявая рука Спири: юродивый грозил пальцем ласточке.
– «…B минувших летах и в прошлом во сте восемдесят во втором году, – продолжал, передохнув, Геронтий, – посланы были по указу моему государеву к вам, к братии, книги новой печати для церковного обиходу, чтобы вам по тем книгам службу служить и литургисать. И вы тех книг дуростию своею и озорством не приняли, и по тем книгам не литургисали, и божественного пенья не пели, и молебнов не служили, а яко свинии бисер многоценен те книги ногами потоптали, и моих государевых ратных людей в монастырь не пустили, и по ним якобы по неприятелям и врагам церкви божии и меня великого государя из пушек и пищалей стреляли, и аки козлы мерзкие по старым книгам литургисали и аллилуию сугубили, а не трегубили, и аз из символа веры, яко волчец некий из нивы господней, не исторгали, а козлогласовали с азом и иже у имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа яко камень многоцветен из ризы Господней украли, и иное неподобие творили».
Черная братия с изумлением и страхом смотрела на чтеца и на старого Никанора. Геронтий передохнул и отер рукавом пот, выступивший на сухом морщинистом лбу. Никанор насупился так, что за бровями совсем не видно было глаз, только лицо его покраснело. Губы беззвучно шевелились, как бы пережевывая страшные слова грамоты.
Не поднимая глаз от бумаги, Геронтий глубоко забрал в грудь воздуху и продолжал:
– «…И как к вам сия наша великого государя грамота придет, и вы б от своей дурости и озорства Бесконечно отстали, и моих государевых людей честно и грозно приняли по старине, и по новым книгам есте литургисали, и аллилуию б есте не сугубили, и аза из символа веры извергли, и ижа у Иисусова имени не отымали. А буде вы сего нашего государского указа не послушаете и от своего озорства не отстанете, и за то вам от нас великого государя быти в опале и в жестоком наказании и конечном разорении безо всякие пощады, даже до смертной казни».
Все кончено! Геронтий с трудом перевел дух и поднял глаза к небу, к куполу. Братия, по-видимому, ждала чего-то. Но Никанор, на которого все смотрели, упорно молчал.
Геронтий вертел грамоту в руках. Посол Кирша ждал и глядел на Никанора. Тихо кругом, и только слышалось, как перед образом Спасителя юродивый стукался лбом об пол.
– Грамота великая, подлинная, – говорил сам с собой Геронтий, глядя на золотое письмо в начале, – каймы и фигуры писаны золотом… богословье и великого государя именованье по иже, а соловецкого монастыря по мыслете писано тож золотом.
– Эко диво золото! – раздался вдруг хриплый голос. – У дьяков золота много.
Все оглянулись. Это говорил юродивый.
– Спиридон дело говорит! – вдруг глянул из-под своих бровей старый Никанор. – Можно золотом написать не токмо по мыслете, а и по самое твердо, а то и до ижицы, всю грамоту можно золотом написать, а все ж та грамота будет не в грамоту.
– А печать под кустодиею? – возразил Геронтий, весь бледный.
– А каймы и фигуры?
– Нa то есть писцы и богомазы, – отрезал Никанор, все состряпают.
– Так ты думаешь, эта грамота не царская? – удивился Героитий.
– Она у царя и на глазах не была.
– Ноли великого государя обманывают?
– И Бога обманывают, – послышался ответ юродивого.
– Только у Бога дьяки не нашим чета, – пояснил Никанор.
Черный собор, доселе тихий и спокойный как омут, зашевелился: словно рябь от ветерка по тихому омуту, пробежало оживление по сумрачным дотоле лицам черной, черноклобучной и черноскуфейной братии. Засверкали глаза, открылись рты, заходили бороды, задвигались плечи, замахали руки.
– Золотом писано, эка невидаль! У мово батюшки баран с золотыми рогами всегда по двору хаживал, – закричал чернец Зосима из рода князей Мышецких.
– Что баран! Мы сами на миру едали баранов с золотыми рогами! А у нас в Суздале богомаз черту рога позолотил! – отозвался другой чернец.
– Черт золотом писан! Вон что! А то ат-грамота золочена! Позолотить все можно! – раздавался третий голос.
– Не в золоте дело! Вон, слышь, аллилуйю матушку трегубо! Али она, матушка, заяц трегубый!
– Не надо нам зайца! По-заячьи литургисать не хотим.
– Не дадим им, никонианам, аза батюшку! Аз слово великое!
– Великое слово аз! На ем мир стоит! За его, батюшку аза, помирать будем!
– Ижем Исуса Христа прободать не дадим! Мы не жиды!
– И трех перстов не сложим! Ин пущай нам пальцы и головы рубят, а не сложим!
Невежество, дикий фанатизм и изуверство брали верх. Более благоразумные и грамотные священники и иеромонахи молчали и только озирались на бушующую молодшую братию и на закоренелых стариков. У Никанора глаза искрились из-под седых бровей, как раздуваемые ветром угольки в пепле.
Юродивый, протискавшись к Кирше, который стоял ошеломленный, и вынув из сумы череп мертвеца, показал его изумленному стрелецкому полуголове. Тот с испугом отшатнулся назад.
– Знаешь ты, кто это? – спросил юродивый, протягивая череп к Кирше.
– Не знаю, не знаю, – был торопливый ответ.
– А! Не знаешь?.. Та и мы знать не хотим того, кто тебя послал… Мы знаем только Того, кто нас всех на землю послал, и меня, и тебя, и вот его. – Он ткнул пальцем в череп. – А ты знаешь Его?
– Кого?
– Того, который на кресте вот так пальчики сложил (юродивый сделал двуперстное сложение), когда Ему руки ко кресту пригвоздили?
Кирша не мог ничего отвечать. Он только испуганно глядел то на череп, то в добрые, собачьи, теперь светившиеся глаза юродивого.
– Он так велел креститься, а не по-вашему, – твердил изувер.
Кругом стоял гам и галас. Черный собор видимо делился надвое. Зазвучал трубный голос Геронтия, доселе молчавшего.
– Грамота царская, истинная, с титулом и богословием в золоте! Грамота истовая, ей перечить нельзя.
– Водим повиноваться великому государю! – поддержали его священники.
– Не волим! – кричала рядовая братия.
– Мы за великого государя молиться охочи! – раздавались слабые голоса благоразумных священников.
– Молитесь, коли вам охота, только вы нам после этого не попы! – перекрикивала их сильнейшая половина.
– Какие попы! Никониане!
– Щепотники! Хиротонию ни во что ставят!
Кирша видел, что его посольство опять не выгорало. Когда крики несколько стихли, он обратился к Никанору, который стоял как заряженный.
– Какой же ответ, святой архимандрит, дать мне воеводе?
– Таков, каков Христос дал сатане в пустыне! – разрядился Никанор.
Кирша глядел на него вопросительно.
– Я не знаю, что Христос сказал сатане, я не поп, – возразил он.
– А не поп, так и не суйся в ризы!
– Я не суюсь в ризы…
– Как не суешься! А зачем в чужой монастырь да с своим уставом лезешь?
– Я не сам лезу, мне указано, я с грамотой великого государя.
– Нам ваша грамота не в грамоту! Апостолы-те да святые отцы были постарше ваших грамотеев: так мы крестимся и петье поем так, как они повелели.
– Я ничего не знаю, я послан, так великий государь изволил, – оправдывался Кирша, чувствуя, что он слаб в богословии, что его дело на саблях говорить да делать то, что воевода велит.
– Так уходи с тем, с чем пришел! – крикнул Никанор.
– Уходи подобру-поздорову! – Заковать его! – В яму! – Зачем в яму! – раздавались голоса.
– Стой, – снова затрубил Геронтий, обращаясь к Кирше, – я за великого государя всегда Бога молил, теперь молю и напредки молить должен. Ино как поволит великий государь, а я апостольскому и святых отец преданию последую, а что Никон в новых книгах наблевал, и той его блевотины я отметаюсь: новоисправленных печатных книг, без свидетельства с древними хартейными, слушать и тремя персты крест на себе воображать сумнительно мне, боюсь Страшного суда Божия!
– Ох! Ох! Страшен суд Божий! – опять заревела черная братия.
– Долой никонианские книги! Долой еретическую блевотину!
Кирша понял, что ему ничего не оставалось делать, как поскорей убираться из монастыря. Сотники, которые безмолвно стояли у него за спиной, повернулись к выходу и, держа сабли наголо, прошли сквозь ряды черной братии. Вслед за ними шел Кирша с блюдом под мышкой. За Киршей вышли из собора Геронтий и другие черные священники.
Перед собором стояли в сборе все монастырские ратные люди. Впереди их сотники Исачко и Самко.
– Одумайтесь, пока не поздно, – сказал Кирша, направляясь к воротам.
– Поздно уж! – гордо отвечал Исачко.
– У нас дума коротка: приложил фитиль, и бу-бух! – пояснил Самко.
– Доложи воеводе, что мы за великого государя Бога молим! – крикнул Геронтий вслед удалявшемуся Кирше.
– И мы! И мы також! – подхватили черные священники.
Тогда Самко подскочил к ним, закричал: «Кто вам велел, долгогривые, за еретиков молиться!»
– Великий государь не еретик! – прогремел Геронтий.
– Нам великого государя не судить! – подхватили черные попы.
– А! Так вы все заодно! – приступил Исачко. – Мы за вас горой, а вы к нам спиной!
– Кидай, братцы, ружье! – скомандовал Самко, обращаясь к ратным людям. – Нам с еретиками не кашу варить! Пущай их целуются с стрельцами.
– Клади ружье на стену! – крикнул Исачко к часовым, стоявшим на стене. – Нам тут делать нечего, лучше в Кемском зелено вино кружать.
– Любо! Любо! – закричали ратные, бросая ружья. – В Кемской!
Часовые тоже бросили свои ружья и сходили со стены.
В это время откуда ни возьмись юродивый, сел наземь между черною братиею и ратными людьми, подпер щеку рукой и запел жалобно, как ребенок:
Чижик-пыжик у ворот,
Воробышек махонькой,
Эх, братцы, мало нас,
Сударики, маненько…
– Да, мало вас останется, как мы уйдем! – засмеялся Исачко. – Всех вас тут, что глухарей, лучком накроют.
Из собора высыпала вся черная братия. Впереди всех Никанор архимандрит, Нафанаил келарь и старец Протасий городничий. Увидав, что ратные покидали ружья, Никанор остановился в изумлении.
– Что это вы, братцы, затеяли? – тревожно спросил он.
– В Кемской, отец архимандрит, собираемся, – отвечал Исачко.
– Зачем в Кемской?
– Мед-вино пить.
– По старине Богу молиться, а не по новине, – добавил Самко.
– Да что с вами! – изумился архимандрит. – Кто говорит о новине?
– Вон они все, – Самко указал на черных попов, – за еретиков молиться хотят.
– Мы не за еретиков молимся, а за великого государя, – перебил его Геронтий.
– Ну и молитесь себе, а мы вам не слуги.
– Нам на великого государя руки подымать не пристало, руки отсохнут, – пояснил Геронтий.
– Ноли мы на великого государя руки подымаем? – возразил Никанор.
– На его государевых ратных людей, все едино.
– Много чести будет всякую гуньку кабацкую царской порфире приравнивать.
Между тем келарь Нафанаил, ходя меж ратных людей, бил им челом, чтоб они умилостивились, взяли назад ружья. «Братцы! Православные! – молил старец. – Будьте воинами Христовыми, не дайте на поругание обитель божию, святую отчину и дедину преподобных отец наших Зосима – Савватия: они, светы, стоят ныне у престола Господня, ручки сложимши, за нас Бога молят, да не излиет на нас фиал гнева своего. Детушки! Воины Христовы! Постойте за святую обитель, как допреж того стояли!»
Геронтий все более и более возвышал свой трубный голос.
– Кто противник царю, Богу противится! – перекрикивал он всех своею трубою.
Никанор понял, что наступает решительная минута, и закричал к ратным людям, указывая на Геронтия и на черных попов:
– Что на них смотреть! Мечите их всех в колодки!.. Мы и без попов проживем: в церкви часы станем говорить, и попы нам не указчики: у нас един поп Бог и его всевидящее око.
Не знал тогда Никанор, что его слова «без попов проживем» послужат источником того исторического явления в русской жизни, которое выразилось в «беспоповщине», – явления необыкновенно живучего[48]48
Беспоповщина – идея о том, что верующему для общения с Богом не нужны ни Церковь как организация, ни священнослужители.
[Закрыть].
Ратные кинулись на Геронтия и на всех черных попов и почти на руках стащили их в монастырскую тюрьму. А юродивый продолжал сидеть на земле и, раскачивая своею лохматою головою, жалобно причитал:
Эх, братцы, мало нас,
Сударики, маненько…
XI. Воровской атаман Спиря Бешеный
– В ту пору, еще до Стеньки Разина, гулял на Волге воровской атаман Спиря, по прозванию Бешеный. Уж и точно что бешеный был! Такого я отродясь не видывал. Да и как его земля-матушка держала! Да она, поди, земля-то, и не примет его, окаянного! Был он родом из детей боярских, да только царской службы не служил, царским воеводам пятами покивал, и был таков: все считался в нетях, а братья его, у него было их четверо, все были в естях. Каждую весну собиралась его станица понизовой вольницы: как весна, так и кличет клич: «Эй вы, голые и босые, кнутом сеченные, катом меченные, холопы боярски и рейтары царски! Валите в мою станицу, по Волге-матушке гулять, зипуны добывать!» Ну и сыпанут к ему голутвенные да отчаянные, что осы на мед. А станы его были по Волге по всей, и в Жигулевых горах, и под Лысковом, и под Макарьем, и пониже Саратова, и повыше Царицына. Соберется это станица Спирина, не одна сотня голутьбы, не две и не четыре, а в тысячу шапок и больше того, соберется эта галичь, а косные лодочки у него давно готовы, вверх пузом лежат по жигулевским яругам, слетелось воронье драное да рваное, кто с ружьем, с ножом за поясом да за онучкой поворозкой, кто с кистенем, а кто и просто с дубиной да осиной, возьмут в руки яровы весельца, грянут весновую службу, ну и пошла строчить строка кровавая: как к городу либо к боярской усадьбе, и пошел по крышам да по подклетью летать «красный петух», красными крыльями до неба машет, «кукареку» поет от зари до зари. А Спиря кричит: «Добывай, братцы, зипуны с плеч боярских да с подьячих, крапивного семени, а коли зипуны не посымаются с плеч, с кожей сымай!» Хоть и боярское отродье сам-от атаман, а готов был всех бояр да подьячих в ложке воды утопить и эту воду выпить.
– Насолили, должно, эти бояре ему.
– Был пересол, это правда. Бегал он однова от службы, в нетях был, это еще смолоду, когда только женился: с год эдак пожил с женой, ребеночка прижил с ею, дочку, а тут вести пришли, чтоб все дети боярские в поход снаряжались. Братья-то ево в естях объявились, а он в нетях, на низы, на Волгу сошел. Долго ли, коротко ли нетовал, а об молодой жене не забывал, все тянуло его повидать ее и с дочкой. Вот однова он и нагрянь в свою вотчину, да ночью, чтоб никто из холоней не видал да воеводе не донес. Приходит. Дело было летом. Так да эдак, пробрался он к своему двору, прополз садком к светелке, где жила его жена. Коли слышит, под ракитовым кустом что-то шушукает. Он по-за кустом, словно еж, пробрался да и слушает… «Настенька, – говорит, – разлапушка, а что, – говорит, – коли твой постылый из нетей воротится?» – «Не знаю, – говорит она, – соколик мой, что и будет со мной: останется одно, – говорит, – со крутого бережочка да в Оку реку». – «Что ты! – говорит он. – Не моги и думать об этом! Мы, – говорит, – лучше сделаем его в нетях на веки вечные». – «Как же это? – говорит она. – А коли придет?» – «Тут-то мы ему нетей и поднесем: так на тот свет в нетях и уйдет». А он все слышит. «А, – говорит, – змея подколодная! Так я же вас в нетях сделаю, а сам останусь в естях». Да тут же и положил их на месте. Его бросил под кустом, а у нее голову отрубил и унес с собой.
– С кем же это она, подлая, снюхалась?
– С его ж воеводой, с Мышецким князем.
– Поделом им.
– Поделом! Эх ты рыбин сын! А сам нешто не нюхал чужих жен?
– Нюхать нюхал, да не попался.
– То-то! А попадись-ка…
– Да полно спорить, дядя Серега, сказывай дальше… Ну, отсек ей голову?
– Отсек голову да и приносит к своим молодцам, на Волгу. «Смотри, – говорит, – братцы, какова у меня женушка красавица! Соскучился по ее красоте, да вот, – говорит, – и принес с собою». А она, сказывают, точно была красавица. Вот он велел молодцам заострить палю осинову, взоткнул на палю голову женину да и говорит: «Плюйте, братцы, атаманской жене в мертвые очи». Как сказал, так и сделали молодцы: каждый подходил к мертвой голове и плевал ей в лицо, а иной, горяченький, так и пощечину давал покойнице. Натешившись такою забавочкою вдоволь, и ну лютовать Спиря! Уж и лютовал же! Лет пятнадцать – шестнадцать ни проходу, ни проезду не было по всему низовью, а особливо доставалось боярам да воеводам. А голову женину не оставил на пале, а взоткнул ее на таманской лодке, на мачту: так с жениной головой и лютовал по Волге. Я сам эту голову видел…
– Что ты, дядя! Как!
– Костяк один белел на мачте: мясо-ту и глаза и всё черви съели, а волосы ветром разнесло, и остался только голый череп да челюсти с белыми зубами… В ту пору у нас с ним бой был на воде, на Волге. Уж и чёсу же он нам задал! Всех перебил, что было у нас Стрельцов, да перетопил, и воеводу Беклемишева на мачте под жениной головой повесил. Меня в ту пору Бог спас, доплыл до берега, да из-за кустов уж, из-за верболозу, и видел, как воеводу вешали.
– А что после с им, с этим Бешеным Спирей, было?
– А было то, что никому не дай Бог… Гулял он эдак десятка полутора годков по Волге, перегубил душ христианских несосметимое число, да и говорит однова молодцам: «Скучно мне, братцы, без жены… Вон женушка моя высоко живет, не достать ее, а вдовцом мне стало тошно жить: либо жену добыть, либо в Ерусалим итить, либо в Соловки посхимиться; а то так мне жить опостылело, – говорит, – и кровь-де христианская не радует». – «Ладно, – говорят молодцы, – исполать тебе, батюшка атаманушка, Спиридон Иванович: умел нас в люди вывести, нарядить в зипуны да кафтаны цветные, сослужим и мы тебе службу, добудем полюбовницу, да такую, чтобы краше ее на Руси не было». И махнули в верховые города, благо все низовье облупили дочиста и всех баб и девок и дочерей воеводских перебрали. Долго ли, коротко ли рыскали они по верховым городам, коли приезжают в стан и привозят атаману такую красавицу, какой и в сказках не бывало, боярскую дочь из-под Мурома. Как увидал атаман ее, так и задрожал: словно то была его жена покойница, только еще краше. Жаль ему стало бедной, в первый раз пожалел душу христианскую и говорит: «Жаль мне тебя, красавица боярская дочь, я хочу-де воротить тебя к отцу-матери: кто-де будут твои отец, матушка, какого-де ты роду-племени?» – «У меня, – говорит девица, а сама плачет, – у меня нет ни батюшки, нет ни матушки: я-де кругла сирота». – «А кто были, – говорит он, – твои родители и откедова ты родом?» – «Я, – говорит она, – из-под Мурома, из роду Хилковых…» Атаман так и вскочил, как обожженный. «Хилковых!» – «Да, – говорит, – Хилковых». – «А которого Хилкова?» – «Спиридон Иваныча», – говорит она. «Так ты Оленушка?» – говорит, а сам весь дрожит. «Оленушка», – говорит она и сама руки ломает. «Так вон, – говорит, – посмотри на мачту, – а на самом лица нет, – смотри, что-де видишь?» Девица взглянула вверх, да так и помертвела. «Это, – говорит он, – твоя матушка родима – это я-де убил ее и голову взял с собой, по Писанию: «Бог-де соединил, человек да не разлучает». Девица молчит – чуть жива. «А знаешь, – говорит он, – Оленушка, кто я тебе довожусь?» Она молчит, только дрожит, что осиновый лист. «Я, – говорит он, – твой родитель, Спиридон Иванов, сын Хилков, а ныне воровской атаман Спиря Бешеный, хотел взять тебя, дочь свою родную, себе в полюбовницы. Да как схватит себя за волосы, да как захохочет!.. А она-то, уж и Бог знает, что с ней сделалось, как глянет на мачту-ту, на материну голову, да на отца, как тот, с горя должно, сбесился, да перекрестилась, да со всего размаху в Волгу…
– Что ты! Ах, бедная сиротка! Ну и что ж?
– Только пузыри пошли…
– И не пымали?
– Где пымать!
– Ну а он?
– Он хотел было туда ж за дочкой, да молодцы не пустили, связали… А там, как пришел в себя, достал с мачты женину голову и был таков!
– Как? Пропал?
– Пропал без вести. Одни сказывали – в Ерусалим пошел молиться, другие – что утопился.
– Я здесь! Я – Спиридон Иванов, сын Хилков, не пропал и не утоп! – раздался вдруг словно из-под земли глухой голос. – Здесь я!
Стрельцы оцепенели от этого голоса и от этих слов. Они сидели в окопах, подведенных почти к самым монастырским стенам, и отдыхали после земляных работ, готовясь к приступу на следующее утро и слушая рассказы бывалого человека, старого стрельца, не раз бившегося на Волге с попизовою вольницею, в том числе с шайками атамана Спири Бешеного, а потом попавшего в водоливы к Стеньке Разину. Самый рассказ Чертоуса – так звали старого стрельца – подготовил слушателей к чему-то страшному, и вдруг этот подземный голос!.. Многие из стрельцов крестились, с испугом озираясь кругом; другие вскочили, чувствуя, что подземный голос выходил как будто у них из-под ног…
– Чур! Чур! Чур! Наше место свято! Ох!
– Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпься!
– Помилуй мя, Боже, по велицей… охте мне!
Под покровом вечерних сумерек стрельцы, сидевшие за окопами, не заметили, как во все время рассказа Чертоуса из-за камня, нависшего над морем, и из-за древесных корней и зеленого моха смотрели два блестящих глаза, по временам вспыхивавшие, как у собаки, зеленым фосфорическим блеском.
– Это нечистый дух либо водяной, – говорили иные стрельцы, глядя на воду и невольно вздрагивая.
– Нет, это ево душа бродит, земля ево не принимает, – пояснил Чертоус.
– То-то! Не надо было поминать его не в добрый час.
– А как было знать его! Кабы знатье – вестимо что…
Где-то в ночной тишине заплакала чайка… Что-то проснулось в воде… Опять словно плач протяжный над морем, и опять тихо…
– Это, поди, она плачет чайкою, Оленушка, что утопла…
– Матушка! Матушка! – окликает Оленушка Неупокоева спящую мать.
– Ты что, дитятко? – спрашивает сонный голос.
– Мне страшно что-то.
– Чего страшно, глупая? С нами крестная сила.
– Вон кто-то за окном царапается.
– То голуби спросонья крыльями.
– А это кто плачет?
– Чайка, али не слышишь?
– Да, слышу, чайка.
– Что ж ты не спишь?
– Я сон видела… я летала над морем… лечу это и стала падать в море, ух!
– Это к росту, глупая.
– А меня из воды Спиря вытащил…
– Ну, чего ж еще! Перекстись истово, сотвори молитву Исусову и спи.
– Жарко… в окно кто-то глядит…
– Что ты! То бузиновая ветка… Придвинься ко мне ближе и баинькай, глупая…
– Ох? Что это!..
Это грянула с сторожевой башни вестовая пушка, и глухой гул ее, казалось, отскочив от монастырских зданий, покатился по морю. Вздрогнули кельи, и сонный монастырь ожил: и ратные люди, и черная братия спешили к монастырским стенам, крестясь и спрашивая друг друга, что случилось, хотя каждый догадывался, что случилось что-то недоброе.
В самом деле, над монастырем висела страшная опасность. Стрельцы, сделав в одном месте подкоп, под защитою которого они могли подобраться под самую стену, и протащив туда до десяти лестниц, ночью приставили эти лестницы к стенам, плотно, лестница к лестнице, и, пользуясь сном часового в этом месте, полезли на стену. Так как лестницы приставлены были одна бок о бок к другой, тесно, чтобы на одном этом пункте сосредоточить силу нападения и стойко выдержать сопротивление на стене, в случае если монастырь вовремя проснется, то казалось, что на стену взбиралась сплошная масса людей, сверкавших в темноте бердышами. Монастырь был на краю гибели. Уже верхние стрельцы, во главе которых взбирался старый Чертоус, почти касались верхушки стены. В монастыре была мертвая тишина, все спало.
Не спал один человек: это был Спиря юродивый. Из своей подземной засады, из «печерушки», он высмотрел, что враги подкопались под самую стену. Он видел, что готовится что-то. Когда он из своей засады, напугав стрельцов словами «я, Спиридон Иванов, сын Хилков, здесь», пробрался в монастырь и оттуда на стену, он увидел, что лестницы были уже приставлены и стрельцы взбирались по ним. Выждав, чтобы они подобрались выше, он разбудил часового, стоявшего у вестовой пушки, и, велев ему приложить фитиль к затравке, остановился у самого края стены.
Пушка грянула… Дрогнули лестницы, сверху донизу покрытые стрельцами, и стрельцы дрогнули. Подняв головы, они, при свете северной весенней ночи, с ужасом увидели наверху, над самыми их головами, страшного человека с черепом в руках…
– Я, Спиридон Иванов, сын Хилков, здесь, а вот женина голова! – раздался знакомый стрельцам голос, который еще недавно привел их в ужас.
Вслед за возгласом сухой костяк черепа с треском ударился в голову Чертоуса.
– Ох, батюшки! Мертвец! Это он! – И Чертоус навзничь полетел с лестницы.
Неожиданный пушечный выстрел, страшный возглас со стены, отчаянный крик Чертоуса произвели общее смятение: на стрельцов напал ужас; они падали с лестниц, сбиваемые верхними товарищами и увлекая нижних…
– Батюшки! Мертвецы на стене! Нечистая сила! – слышались испуганные крики.
За ними следовали стоны падающих, нарывающихся на острия копий и бердышей. Стрельцы, раненые и здоровые, падали один на другого, давили раненых, душили своею тяжестью здоровых, упавших раньше. Кучи народу, кричащего и стонущего, барахтались под стенами. А на стенах не умолкал страшный голос:
– Я здесь! Сарынь на кичку! Го-го-го-го! Здесь-здесь я!
Когда монастырские ратные люди и черная братия, всполошенные вестовою пушкою, выбежали на стену, те из стрельцов, которые не были ранены при падении или не получили никаких тяжких повреждений, успели спрятаться за окопы, а те, что были ранены или тяжко ушиблись, отчаянно метались под стеною и стонали.
Старый Никанор, выбежавший на сполох в одном подряснике и босиком, поняв, в чем дело, широко перекрестился и поклонился юродивому.
– Господь Бог наградит тебя на небесах, и святая обитель будет молиться за тебя вечно! – сказал он, целуя руку юродивого.
Но этот вырвался и побежал к лестницам.
– Ох-ох-ох! – кричал он. – Головушка моя упала! Охте мне, оо!
И он стремительно стал спускаться со стены по лестнице. Все с недоумением смотрели, что из этого будет. А что, как стрельцы опомнятся и схватят его? Но юродивый недолго оставался под стеною: он поднял что-то с земли и снова стал взбираться по лестнице. В руках у него оказался знакомый всем череп…
Скоро ратные люди встащили на стену все лестницы осаждающих. Ударил колокол, и братия сыпанула в собор, словно пчелы в улей, служить благодарственный молебен.









































