Текст книги "Москва слезам не верит"
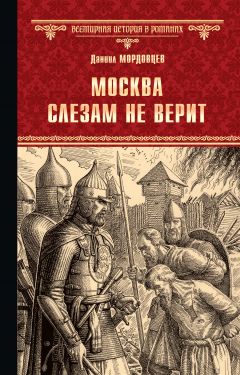
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
II. Черный собор и посол Кирша
На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурею и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосима и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартины-рыболовы и островерхие стрижи, казалось, радостно тянется к небу своими церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из глубокой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и коми тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, проросшими мохом камнями.
Но в самом монастыре было неспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были заперты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к смутному говору и смятению, господствовавшим в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по острову и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и дьяконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волохатые, и глинистые, рудожелтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал, – все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один, особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее сглупу за общее торжество, такие выделывал в воздухе кувырки, что Исачко Воронин, сотник и стратиг всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затанцую пищаль, так залюбовался на воздушные кувырки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородатую голову к небу, на этого сорванца птицу, что чуть не опрокинулся со стены.
На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из странноприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители – архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородкою в виде двух клоков немытой овечьей шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сыромятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий – остробородый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица – сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянец Самко: первый – косой на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь с вздернутым носом и бородою, второй – с ипокляпым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бородою.
Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним – тот монашек с козелковой бородкой, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и великого князя Василия Ивановича.
Сборище у соборного круга увеличивалось с каждою минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Московского государства богомольцы и богомолки, из Архангельска, из Москвы, из Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба: это был бритый, круглощекий с голубыми глазами за пивною слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичсм. Каролус Каролусович тоже пришел полюбопытствовать, по какому случаю такой сбор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодничкам, вышла к собору и аглицская немка, мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске с своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома, мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом аглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой. Это была высокая сухощавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя в штанцах, волосами. Амалея Личардовна приехала в «Соловки» просто из любопытства, как туристка, посмотреть на это московитское, как ей казалось, уэстминсгерское аббатство[38]38
Вестминстерское аббатство – усыпальница английских королей, государственных деятелей, знаменитых людей Великобритании.
[Закрыть]. В долгое пребывание в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкой Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское сборище и послушать, что там будет.
Когда они пришли к сборищу, то увидели, что какой-то широкоплечий с сросшимися бровями стрелец, это был Кирша, подал архимандриту Никанору какой-то свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь, с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.
Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как смоленый шест, кашлянул, словно из бочки, и, тоже словно бы из бочки, начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов «сие наше», «со-со-со-борное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранити», «и по – и поко – и покорятися святей во-восточной церкви…». Далее отец Теронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова.
– «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору, или начнет прекословити и противлятися нам, – гремело на весь черный собор, – и мы таковаго противника, данною нам властию от святого и животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и благодати, и проклятию предаем…»
При слове «проклятие» сдержанный шепот прошел по собору. Все груди, по-видимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно – «проклятие»; кто-то кого-то проклинал… кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и грудников? А за что? Вон какие мозоли они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим – Савватея… А их проклинают… Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание… Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами…
У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Прогасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник косит своими глазами на Кирщу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать…»
– «Аще же от мирского чина, – продолжают вылетать слова из сухой бочки, – отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, дондеже вразумится и возвратится в правду покаянием».
Отец Гёронгий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнурке колыхалась. Сотник Исаченко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пищаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана в штанцах, и искоса опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.
– Чти дале, на нет чти, – нетерпеливо и дрожащим голосом понукал архимандрит.
– «Аще ли кто не вразумится, – продолжал отец Геронтий, – и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего – да будет и по смерти отлучен и не прощен, и часть его и душа со Иудою предателем и с роспеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, камение и древеса да разрушатся и да растляется, и той да будет не разрешен и не разрушен и яко тимпан бряцаяй во веки веков, аминь!»
Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого архимандрита. Отец Никанор – стар бывал человек, живал и на Москве, и архимандричал в Савином монастыре, и на глазах у царя бывывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Али так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них и закона нет? А Никанор стоит, заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуйи, пасть сметием и прахом под нозе Никона… И стыд за прошлый позор, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам… Вон Аввакум протопоп не убояся собора нечестивых и пребысть крепок, аки адамант и яко скала нерушим…
Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ясным солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.
– А что дале, после аминя? – резко вдруг спросил Никанор.
– После аминя скрепа дьяка патриарша приказа, – отвечал Геронтий.
Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которыми, кроме местных поморов и усольцев, находилось несколько донских казаков, после поражения Стеньки Разина перекинувшихся с Волги на Белое море, на службу к соловецким старцам, ибо Стенька не раз говаривал своим удалым молодцам, что и он когда-то был в Соловках и маливался соловецким угодникам. Никанор всего более боялся, чтобы ратные люди, под страхом анафемы, не покинули монастырь на произвол судьбы, и потому сразу решил, что ему делать. Он подошел к Кирше, как к посланцу царского воеводы, и стал так, чтобы его видели ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.
– Ты почто прислан к нам? – спросил он громко посланца.
– Прислан я с грамотой, – отвечал Кирша, поводя сросшимися бровями.
– Мы вычли оное безлепичное лаяние патриарша дьяка и то бреханье на ветер пустили. Почто ж еще ты прислан к нам?
– Прислан я, – заговорил Кирша по-заученному, – от воеводы Ивана Мещеринова, чтоб вы, соборная и рядовая братья, добили челом великому государю…
– А потом что?
– Чтоб принесли великому государю вины свои…
Никанор перебил его, схватив за руку.
– Вин за нами перед великим государем нет и не бывало, и добивать нам челом великому государю не по что, окроме как молиться за его государское здоровье, и мы то делаем, – скороговоркою проговорил он. – Поди и доложись о сем твоему воеводе… Слыхал?
– По указу его царского пресветлого величества, – как бы не слушая его, продолжал Кирша, – воевода приказал вам монастырь отпереть и государевых ратных людей принять с честью.
Никанор окончательно вспылил.
– Али твой воевода царским словом торговать стал! – закричал он. – Али пресветлое царское слово может исходить из такого поганого смрадного рта, как у твоего воеводы? Али у великого государя бумаги и чернил недостало, чтобы слово его пресветлое всякими пьяными глотками в кабаках выкрикивалось? А! Так, что ли?
Озадаченный Кирша не знал, что отвечать. Он догадался, что воевода сделал оплошность.
– Говори! – приставал к нему Никанор. – Как твой воевода смел украсть царское слово? Али он не знает, что царское слово, как и словеса Господа нашего Исуса Христа, либо в церкви, как святое Евангелие, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титуле, объявляться? А! Так вы этого не знали!
По собору прошел ропот одобрения. Головы поднялись уверенно, бледность сбежала с лиц. Исачко смело и дерзко измерял косыми глазами Киршу, как бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: «Али на них и суда нету!», «Али они и впрямь своим дурным наше добро извести хотят!», «Чего их слушать! Воровство их знамое!».
Кирша стоял, как притравленный зверь, озираясь по сторонам. А прибывший с ним монашек испуганно топтался на месте, точно выглядывая норку или скважину, в которую можно было бы юркнуть.
В это мгновение в самую середину круга протискался какой-то оборванец с длинными, как у простоволосой бабы, никогда не чесанными пасмами волос, падавшими ему на худое аскетическое лицо и на плечи. Оборванец был босиком, в одной, чужой, по-видимому, рубахе, которая была слишком длинна для него. Из-под рубахи виднелись голые, худые, как щепки, икры ног. На шее у него, как у цепной собаки, висела и при движении звякала тяжелая цепь, замкнутая большим замком у горла, ключ от которого был брошен в море. Оборванец держал в руках старую скуфейку, в которой, скукожившись в комочки, спали еще не оперившиеся, с золотым пушком, голубиные выводки. Оглянув круг и нагнувши свою косматую голову подобно барану, собирающемуся драться, он затопал ногами и, припрыгивая, запел детским голосом:
Бушка-баран,
Не ходи по горам,
Убьют тебя —
Не пеняй на меня.
Многие вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привык к разным выходкам и причудам своего юродивого: но всегда искал в его словах чего-либо пророческого, какого-либо иносказания и иногда, конечно, большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их в пользу пророческого провидения своего юродивого. «А вишь Спиря-то блаженный предсказывал нам это тогда, да мы-то, грешные, не уразумели его святых словес, – говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное. – Вон тады, как с Москвы нам прислали книги с трегубым аллилуйем да с треперстием, Сниря-то все нам пел об трех «людях» да об «гулях»:
Люли-люли-люли,
Прилетели гули.
А стрельцы-то и были эти «гули» самые, а нам, глупым, и невдомек; а «люди» была та самая трегубая аллилуйя».
Так и теперь «бушка-баран» – это был не просто баран, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрельцы, что под монастырь пришли. «Не ходи, бушка, по горам, убьют тебя» – это что-то очень страшное. Кого божий человек предостерегает этим: братию ли, посланца ли этого? Кому быть убитым? Эти тревожные вопросы возникали в душе каждого. Одним казалось, что Спиря грозит посланцу, даже в него и лбом уперся; а другие ясно видели, что он будто бы показывал вид, что бодает отца архимандрита Никанора.
– Гулюшки, гули, – забормотал вдруг юродивый, нагибаясь к своей скуфейке, – а, проснулись, детки, естушки захотели.
Птенцы действительно поднимали свои пушистые с неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый тут же сел наземь, вынул из сумочки, что висела у него через плечо, горсть зерен, положил их себе в рот, пожевал и пригнулся лицом к скуфье. Птички широко раскрыли красные рты и сами полезли головками в рот юродивого.
Архимандрит Никанор, озадаченный было сначала появлением юродивого и его загадочными словами, скоро пришел в себя, и, обведя собор своими волосатыми бровями, обратился к Кирше с угрожающим жестом.
– Поди скажи твоему воеводе, чтоб он убирался подобру-поздорову: обитель преподобных Зосимы – Савватия не Петровское кружало.
Кирша выпрямился.
– Так это вы постановили? – спросил он глухо.
– Постановили и на том стоим, – отвечал Никанор.
– Так мы вас добывать станем, как государевых изменников, – резко сказал Кирша.
– Добывать!
Никанор обернулся и показал рукою на монастырскую стену. На стене в разных местах чернелись пушки, около которых стояли пушкари.
– Видишь, каковы у нас галаночки?
– Видим-ста: и у нас таких теток довольно – погорластее ваших будут.
– Что он похваляется своими тетками! – возразил Геронтий. – Нам не впервой спроваживать их: али не Игнашка Волохов[39]39
Волохов Игнатий – стряпчий, отправленный в 1668 г. из Москвы для усмирения иноков Соловецкого монастыря, которые отказались принять нового архимандрита Иосифа. Волохов прибыл с сотней стрельцов, чтобы усмирить непокорных, но был встречен пушками и вынужден был предпринять многолетнюю осаду. Сам Волохов жил вместе с Иосифом в Сумском остроге. Они поссорились, стали писать друг на друга доносы в Москву, пока не были вызваны на суд в столицу.
[Закрыть] сломал свои зубы об наши стены?
– Да и Ивлев Корнилко[40]40
Ивлев Корнилий (по другим сведениям – Клим) – голова московских стрельцов, явился уже с 1000 стрельцов, перевел войска на самый остров, отогнал весь рабочий скот, захватил рыболовецкие снасти, сжег строения вне стен монастыря и пресек все сношения братии с их вотчинами. В 1674 г. царь отозвал его за серьезные притеснения монастырских крестьян.
[Закрыть] ни с чем ушел, – заметил Никанор, – обитель-то преподобных Зосим – Савватия крепонька живет, сам святитель Филипп, митрополит московский[41]41
Филипп (в миру Колычев Федор Степанович; 1507–1569) – митрополит московский с 1566 г. Принадлежал к одному из знатных боярских родов и начал службу при дворе великого князя Ивана Васильевича, впоследствии прозванного Грозным. В конце правления великой княгини Елены, в 1537 г., Колычевы приняли участие в попытке Андрея Старицкого захватить власть. Один из них был казнен, другие попали в тюрьму, а Федор Степанович тайно бежал в Соловецкий монастырь и, продолжая скрываться, постригся в монахи. В 1548 г. он стал соловецким игуменом и благоустроил обитель, в том числе укрепил крепостные стены монастыря.
[Закрыть], стенки те выводил.
– Что с ним разговаривать! – послышалось в толпе. – Шелепами его!
– Вон из обители! Вон нечестью! А то и на чепи посидите, – подхватили голоса.
Кирша видел, что его посольство кончено. Он поклонился Никанору и надел шапку.
– Долой шапку! Али не видишь, где ты? Ты перед черным собором! – загалдела черная братия.
Кирша повиновался, снял шапку и направился к монастырским воротам. За ним подтюпцем поспешал согнувшийся монашек. Городничий старец Протасий, у которого на поясе висел огромный ключ, сотники Исачко и Самко последовали за посланцами. Старец Протасий отпер одну четвертную складку массивных железных ворот и, пропустив Киршу и монашка, снова запер монастырскую твердыню.
Скоро рослая фигура Исачки вырисовалась на вершине стены. Он стоял, оборотясь к морю, и грозил кому-то кулаком.
III. Отбитый чернецами «вороп»
– Бог в помочь тебе, человече божий, – сказала Неупокоиха, смиренно подходя к Спире и низко кланяясь ему. – Благослови нас, грешных, да помолись твоими святыми молитвами о здоровий рабов божиих, меня, рабы божьи Акулины, да рабы божьи Олены, да раба божья Остафья.
При этом Неупокоиха положила перед Спирей золотую монету. Спиря в это время сидел на нижней ступеньке соборного крыльца и играл с своими птичками. Он молча посмотрел на купчиху своими серыми живыми глазами, глубоко запавшими, потом перенес их на Оленушку, которая робко взглянула на него и потупилась, готовая, по-видимому, заплакать, так дрожали ее губы и щеки подернулись алой кровью, как перед слезами. По лицу и по глазам юродивого пробежал свет и тотчас же как бы отлетел, а лицо подернулось туманом.
Молча полез он в свою сумку и, пошуршав там чем-то, вынул оттуда… Оленушка чуть не вскрикнула при виде того, что он вынул, а мать ее испуганно перекрестилась… Юродивый вынул из своей сумки человеческий череп. Это был желтый, потемневший костяк, который, вероятно, очень долго лежал в земле. Спиря долго смотрел на него, тихо качая косматой головой, потом снова перенес свой взгляд на Оленушку. Теперь в этом взгляде теплилось что-то доброе.
– Видишь это, раба божья Олена? – спросил он, обращаясь к девушке.
Та стояла молча и дрожала, прижимаясь к матери. Расширившиеся от испуга глаза готовы были брызнуть слезами. Нижняя губа сложилась в плаксивую складку.
– Видишь, Оленушка? – переспросил юродивый ласковее.
Молчит испуганная девушка. Не менее испуганная мать хватает ее за руку.
– Говори… молви словечко, дитятко… Говори божьему человеку: вижу, мол, – бормотала она.
– Вижу, – чуть слышно прошептала девушка.
Юродивый замотал головой, взглянул на солнце, которое высоко стояло над монастырской оградой, снова перенес глаза на череп, перекрестил его, поцеловал и опять остановил свой взгляд на смущенном лице девушки.
– А она была похожа на тебя, – сказал он тихо, – только у нее глаза были черные, что крупный терн, а у тебя вон сини… Да она ж была грешница, а ты чистая отроковица… Молись же об ее душеньке, об рабе божьей Анастасее… Будешь молиться?
– Буду, – прошептала Оленушка и вдруг заплакала.
– Что ты! Что ты, дитятко! – утешала ее мать. – Божий человек тебе святое слово сказал, что ж плакать? И я буду молиться об рабе божьей Анастасее, – говорила она, по-видимому, совсем успокоенная. – Кто ж она была, Анастасея-то?
– Гулюшки, гули, – заговорил юродивый, не отвечая на вопрос и обращаясь к своим птенцам. – Ишь вор, отнял у вас матушку.
– А они сиротки? – участливо спросила Неупокоиха.
– Их матушку голубку Никон съел, – отвечал юродивый.
– Какой Никон, батюшка?
– Вор-ястреб.
– Ах, бедны сироточки!
Юродивый вспомнил о червонце, который положила у его скуфьи Неупокоиха, взял его и возвратил ей.
– Отдай сей сор сметие тем, у кого хлебца нет, – сказал он, – пущай помянут рабу божью Анастасею.
В это время подошла к ним аглицкая немка Амалея Личардовна. Увидев ее, Спиря торопливо схватил свою скуфейку с птичками и побежал, испуганно оглядываясь и бормоча: «Чур-чур-чур! бес во образе немки… бес с курьими лапками…»
– Это дурачок, матушка? – спросила она Неупокоиху.
– Нет, матушка Амалея Личардовна: он юродивый, урод Христа ради, – отвечала та.
– Так шут?
– Нету, матушка, не шут, помилуй Бог! – испуганно заговорила набожная купчиха. – Он божий человек, святой, что ты!
– А у нас в аглицкой земле таковых юродивых нет, и есть токмо шуты, и они бывают умны гораздо, – настаивала аглицкая немка, которая хотя и давно жила в России, а все еще многие стороны жизни поражали ее.
– Нету, нету, родимая, то шуты – особо статья: то у нас скомрахи, гудошники, бражники, а то уроди Христа ради.
Амалея Личардовна невольно вспомнила свою далекую родину. Вспомнила, как она, еще девушкой, в первый раз увидала своего будущего жениха в театре, и именно когда играли об одном несчастном старом короле, которого звали Лиром и у которого были три дочери. Там она видела на сцене и шута, такого же юродивого… А здесь в московской земле ничего подобного нет… И она невольно вздохнула, взглянув на солнце: и солнце здесь не такое, не так ходит, как в ее родной аглицкой земле, так низко ходит московское солнце…
– У нас в аглицкой земле я таковаго шута видала на театре, – сказала она, обращаясь к Оленушке.
– На чем? – с любопытством спросила девушка, которая уже много диковинного и непостижимого слышала от Амалеи Личардовны. – На чем, говоришь?
– На театре, Оленушка, – отвечала аглицкая немка. – Да я уж тебе сказывала о театре.
– А! Помню, помню… Это дом такой, палата большая, аки бы церковь, а в ней люди сидят на скамьях, да друг над дружкой, высоко, ряда в четыре, сидят и глядят на действо: выйдет это аки бы король, либо королева, либо принец, и говорят, говорят, либо подерутся нарочно, а то жених с невестой выдут, тож говорят о своем сердце… Ах, кабы мне посмотреть на все это!
– Что ты! Что ты, непутевая! – остановила ее мать, – в эком-то святом месте да об скомрахах… Вон и у нас на святках хари надевают да наряжаются, кто козой, кто медведем, кто бесом, тьфу! Не к месту бы сказать, грех какой!
Вдруг что-то грохнуло так, что все вздрогнули.
Неупокоиха даже присела от испугу. Оглядевшись, увидела, что в одном месте над монастырской стеной клубился дым. Сотник Исачко стоял около пушки, над которой и подымался, тая в воздухе, белый дым, и смотрел куда-то в зрительную трубку. В других местах на стене тоже суетились ратные люди. Из келий торопливо выходили монахи, тревожно посматривая на стены.
– Пушкари, к наряду! По местам! – раздался зычный голос Исачки.
– Пушкари, по местам! – повторилась та же команда где-то в воротной башне, это распоряжался сотник Самко.
Почти в одно мгновение передовая монастырская стена усыпана была ратными людьми. Скоро на стене показались священники в облачении и монахи. В воздухе заблестели золотые и серебряные оклады икон, несомых по монастырской стене. Церковные хоругви, возвышаясь почти наравне с башнями, веяли в воздухе как крылья и скрипели огорлиями. Впереди процессии шел Никанор в архимандричьем облачении и митре, искрившейся дорогими камнями и бурмицким жемчугом, и, осеняя серебряным Распятием пушки и ратных людей, кропил направо и налево святою водой. Что-то чарующее, поражающее представляла эта картина, где, казалось, всю воинственную рать составляли черные клобуки. Со стены неслось пение нескольких сот голосов, большею частью старых, жалких, дребезжащих, как ослабевшие струны гуслей, но их подхватывали и молодые, сильные голоса, разносившиеся далеко по взморью чем-то глубоко трогательным и печальным. Казалось, древняя священная обитель отпевала себя заживо и кропила святою водой свою собственную могилу. И над всем этим стаи вспугнутых голубей, и выше всех в глубокой синеве слабо поблескивает белыми крыльями общий монастырский любимец, белый турман «в штанцах».
А там, внизу, на море, на голубой поверхности залива тихо покачивались суда, привезшие ратных людей, собиравшихся громить святую обитель. Кровавым пятном горел на солнце красный флаг воеводского судна. А еще ближе, по берегу, краснелись целые кровавые полосы: это красные кафтаны стрельцов, которые, переняв у немцев некоторые воинские хитрости, шли нога в ногу, поблескивая ружьями. Впереди несли тяжелый зеленый стяг с золотыми кистями. За ними медленно двигались, скрипя и покачиваясь в воздухе, какие-то чудовища вроде виселиц на толстых колесах: то были «тараны», стенобитные орудия, которыми предназначалось разбить в щебень стены, сложенные когда-то руками самого Филиппа, святителя московского, во время его печального изгнания. За таранами чернелись пушки, которые стрельцы везли на себе, лямками. Под зеленым стягом грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемом и кольчугою: это был сам воевода, холоп его пресветлого царского величества, Ивашка Мещеринов.
Еще пение на стенах не умолкло, как послышалась резкая команда, еще никогда не слыханная пушкарями.
– Господи Исусе Христе сыне Божий, по-милуй нас! – прозвучал на стене голос Никанора.
– А-минь! – отвечали сотники.
И разом грянуло несколько десятков пушек. Дым заволок стены, башни и самих пушкарей. Никанор осенял пушки крестом. Хор черной братии последними надорванными голосами грянул: «Спаси, Господи, люди твоя!» Внутри монастыря послышались крики и отчаянные вопли богомольцев, которых так неожиданно застигла страшная осада.
Исачко своими косыми глазами ясно видел, что пущенные им ядра не долетели до стрельцов, взрыв землю за несколько десятков шагов впереди их строя. Пушкари вновь зарядили пушки.
Никанор, весь красный, с каплями пота, засевшими в его волосатых бровях, ходил от пушки к пушке, кадил их и пушкарей и кропил святою водою.
– Матушки мои! Галаночки! – приговаривал он к пушкам. – На вас наша надежда, вы нас обороните!
Дым ладана смешивался с пороховым дымом. Пушкари, целуя крест, снова кидались к пушкам. Голос сухого Геронтия, как боевая труба, гремел среди плачущего и взывающего хора: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Вопли внутри монастыря раздирали душу.
– Стреляйте, детушки, стреляйте! – кричал Никанор. – Да смотрите хорошенько в трубки, где воевода: в него, жирного, и стреляйте, детки! Коли поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы.
Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрельцы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.
– В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко, друг! – молил Никанор. – Там воевода.
На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликов преподобных Зосимы и Савватия.
Никанор упал перед иконой.
– Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! – вопил он, ползая перед иконой. – Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!
А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.
– Дайте, братцы! – закричал он. – Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!
И сам он зарядил пушку, сам навел ее и грянул.
Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.
– Стяг упал! Стяг подбили! – кричали пушкари. – Любо! Любо! Еще катай!
Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.
– Спасибо, матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!
Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.
В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двигаться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спиря, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.
– Смотри-тко, братцы, Спиря! – закричали пушкари. – Ай-ай!
– Он и есть, братцы. Что он задумал?
Московские стрельцы, видимо, образ или внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.
В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.
– Братцы! Да это наши там с казаками! – раздались радостные голоса.
– Наши! Ай да молодцы! В засад пошли…
Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфьи.
И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные нулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп. Москвичи окончательно растерялись.
Никанор снова упал перед образом Зосимы и Савватия, который все еще оставался на стене. В старом мятежнике воскресла вся его молодая энергия, которая изменила ему в Москве, на соборе, где он постыдно, как казалось его фанатическому уму, отрекся от двуперстного сложения и сугубой аллилуии. Этот стыд за прошлое горел у него на душе, жег его огнем: ему нужно было залить этот мучительный огонь совести, и он поднял мятеж во всем северном Поморье. С этим огнем в душе он простирался теперь перед иконой соловецких покровителей, под гром пушек.









































