Текст книги "Москва слезам не верит"
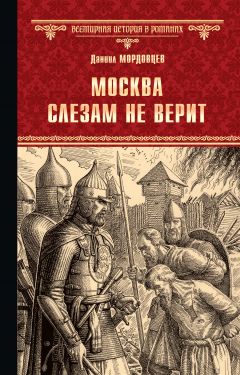
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Где же был тот, которого искала московская бесноватая чернь?
Когда раздался первый набатный сполох у церкви Всех Святых на Куличках, Амвросий вместе с приехавшим к нему в тот вечер племянником, Бантыш-Каменским, отцом известного историка, просматривал то место Фукидида, где он описывает свирепствовавшую в Аттике во время персидских войн страшную моровую язву, занесенную в Грецию с Востока, и обратил внимание на то обстоятельство, что бич этот, по-видимому, поражал преимущественно илотов и рабов…
– Так и у нас, – заметил Бантыш.
– Да… но илоты потом поразили метиков, метики дальше.
В это время набат раздался у Спасских ворот. Затем еще где-то, а там еще, еще…
– Боже! Что это значит!
– Пожар, должно быть, дядюшка.
Подошли к окнам; но зарева нигде не видать – везде мрак. Послали служку к Спасским воротам узнать от звонаря…
А набат усиливается.
– Недоброе, недоброе что-то, – шепчет Амвросий, невольно бросая взор на лик Спасителя… – Илоты, илоты, – как бы само шепчет сердце.
Вбегает запорожец-служка, такой веселый, стучит чоботищами, и слышно было даже, как на дворе еще он что-то хохотал сам с собою… Стоит, прехитро улыбается…
– Ну, что там? – беспокойно спрашивает Амвросий.
Молчит запорожец, зажимает нос кулачищем, чтобы не фыркнуть.
– Да говори же, дурный! Что ты! – прикрикивает на него Бантыш, но и сам улыбается. – Чего тебе весело?
– Та сором и сказати!
– Ну? Да ну же, дурак!
– Ото ж Москва!.. От дурный москаль, такий дурный, ще Мати Божа!
– Да что же такое? Говори, наконец.
– От теперь там, вона сказилась, Москва каже, що Богородицу граблять…
И запорожец добродушно и укоризненно засмеялся… Амвросий и Бантыш переглянулись… Последнему показалось, что у архиепископа волосы на бровях и на голове дыбом встали…
– От дурни москали! Богородицю, бач граблять… А хиба ни можно грабити, коли вона на неби! – мудрствовал запорожец. – Вона на неби – Богородицю не можно грабити…
А набат уже ревел по всей Москве… Несколько сот квадратных верст кругом залито было звоном страшного сполоха, земля и весь Кремль, и стены Чудова дрожали от ужасных звуковых волн…
Амвросий, казалось, раздумывал… Глаза его с невыразимой мольбой упали на лик Спасителя, освещенный лампадою и большими восковыми свечами… «Сад Гефсиманский… моление о чаше… Какой тогда у Него был лик?» – невольно вопрошалось где-то глубоко в душе…
– Ты в карете приехал? – быстро спросил Амвросий племянника.
– В карете, дядюшка.
– Так я еду с тобою…
– И я, владыко? – поторопился запорожец-служка…
Амвросий задумался было немного… «Да, да… и ты… теперь темно… ты, у тебя сердце лучше головы», – торопливо сказал архиепископ своему служке.
А набат ревет… Уже слышен издали рокот голосов, но такой глухой, стонущий, как спор моря с ветром…
Амвросий надел клобук, взял в руку посох и упал перед ликом Спасителя…
– Благослови странника, распятый за ны! – сказал он громко. – Камо иду, не вем, Ты един веси… А призовешь к Себе… иду… готов есмь, готово сердце мое…
И он бодро вышел из кельи, громко стуча посохом, и невольно еще раз оглянулся на Спасителя.
Карета стояла у крыльца. Амвросий, осенив ее и монастырь крестным знамением, поместился внутри ее вместе с племянником, а служке велел сесть рядом с кучером. Кучер тронул. Когда карета выезжала из ворот монастыря, архиепископу почему-то вспомнился тот момент из его детства, когда мать, благословляя его перед проводами в бурсу, сказала: «Не забувай, сынку, коли й попом будешь, а може й архиреем, як тебе мати провожала и головоньку тоби чесала…» И почему это теперь именно вспомнилось, как мать курчавую головку расчесывала? А сколько прошло потом через эту голову дум, сколько в ней накопилось воспоминаний, которых не вместить в себе никаким «пишимым книгам…» И не легче от этого стало многодумной голове, не стало архиепископское сердце счастливее того, которое билось когда-то в груди ребенка…
Карета проехала Спасскими воротами, а там, на Красной площади, валили уже народные волны с ревом, заглушавшим набатный гул колоколов… В темноте двигавшиеся нестройные массы казались каким-то разорванным на огромные куски тысяченогим и тысячеголовым чудовищем.
– Богородицу грабят! – выделялись из этого рева страшные слова, как выделяется из рева морской бури отчаянный выстрел утопающего корабля.
Амвросий невольно вздрогнул и прижался в угол кареты.
– Боголюбскую Богородицу грабят! – ближе и явственнее зеванула чья-то широкая глотка.
– Тю-тю, дурни, – огрызнулся неугомонный служка, сидя на козлах.
– Давай грабителя! Давай еретика!
– Давай им! Кого там?.. Овеча порода! – ворчал служка.
– «Разнесем!» «Мы ему покажем, как козам рога правят». «Мы ему дадим Кузькину мать!» «Стой, братцы, за Богородицу!»
В окне кареты показалась белая, нежная рука и крестила толпу…
– Ишь матушка игуменья из кареты нам ручкой делает, – закричал кто-то, завидев в темноте каретного окна бледную руку архиепископа.
– Благослови, матушка! – кричал другой голос. – За Богородушку стоять идем…
Толпы ринулись дальше, и карета продолжала свой путь.
Страшен был этот путь по мрачным улицам беснующейся Москвы. Кругом тьма кромешная, и в этой тьме еще более дико раздавался крик людей, звон колоколов и отчаянный вой собак. К этому присоединялось карканье птицы, которая металась по темному небу, боясь опуститься на Москву, сесть на крыши домов и на городские стены, которые тоже, казалось, взбесились и кричали.
Карета мчалась к Донскому монастырю. И в дальних кварталах слышались те же крики, отворялись и затворялись ворота, гремели запоры, стучали ставни, кричали и плакали люди.
– Богородицу грабят! – раздавались женские и детские голоса по глухим переулкам. – Турка грабит!
– Матушки! Страшный суд пришел!.. Звезды померкли, солнышко потухло… Турка идет на Москву.
– Помогите, православные, помогите! Умираю… ох, смертушка моя…
Это была действительно ночь смерти, как бы завершавшая собою тот страшный чумной цикл, чрез который, как чрез три-сорокадневные мытарства, прошла Москва, чтобы вступить с плачем и скрежетом зубов в самый ад. И она вступала теперь в эту адскую область.
Амвросий ехал молча. В ушах его стоял набатный звон, и словно разрывались в мозгу и в сердце страшные людские крики, возвращавшие его сюда, в эту адскую область, в эту кромешную тьму, между тем как перед глазами его проносились какие-то яркие, разорванные и разметанные в пространстве и во времени обрывки, клочки из всей его жизни: то стены бурсы, облитые ярким светом месяца в тихую лунную ночь; то массивная греческая книга, из-за которой выступали строгие лица подвижников; то лицо матери, стоящей у ворот и махающей белою хусткою во след фуры, которая увозила куда-то далеко черноголового мальчика; то момент пострижения в монашество, когда откуда-то, словно с купола лавры, неслось пение – «Аксиос ак-сиос-аксиос!» и когда чья-то рука холодными ножницами прикасалась к его голове, а потом эти ножницы звякали об пол, и раздавался голос «подаждь ми ножницы сия…». И ножницы опять прикасаются к голове, с визгом отрезают прядь волос, и холодно-холодно становится голове и сердцу…
И теперь холодно голове… Что-то как будто ходит под волосами, поднимает их, шевелит ими, и дрожь пробегает по всему телу… Да, шевелятся волосы, они ожили, они ходят по голове… Клобук поднимают ожившие волосы…
Амвросий снимает с головы клобук.
– Далеко еще до монастыря? – спрашивает он. – Я ничего не вижу.
– Нет, дядюшка, недалеко уж, – отвечает Бантыш-Каменский.
– А мы точно целую вечность проехали…
– Да, долго… Вы правы, илоты пошли на Афины, – задумчиво поясняет Бантыш.
Наконец, карета подъехала к Донскому монастырю. Там, по-видимому, никто еще не спал, везде виднелись огни. У ворот стоял привратник. Карету окликнули: «Кто едет?»
– Я, архиерейский племянник, – поспешил ответить Бантыш, высунувшись из окна кареты.
Карету впустили в ворота. Незамеченный никем, Амвросий быстро прошел, вместе с племянником в настоятельские кельи, неся клобук в руке. В образной они увидели, что кто-то стоит у аналоя и читает: «Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и дадися в снедь верным. Предходят же сему лица ангельстии со всяким началом и властию, многоочитии херувимы и шестокрылатии серафимы, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа».
– Мир ти! – раздался вдруг тихий голос.
Тот, что стоял у аналоя и читал, высокий белокурый монах с наперсным крестом, с удивлением поднял голову и отступил от аналоя.
– Мир ти! – повторил тот же голос.
– И духови твоему, – отвечал читавший нерешительно.
– Епифаний, друг мой и искренний, ты не узнаешь меня? – продолжал Амвросий (это говорил он).
– Владыко!.. Боже мой!
И тот, кого Амвросий назвал другом своим, Епифанием, с ужасом попятился назад. От изумления или от страха он, по-видимому, онемел.
– Епифаний!
– Владыко! Что с тобою! Что случилось?
– В Москве чернью овладело безумие… Мор и страх лишили народ последнего рассудка… Теперь они кричат, яко бы я велел ограбить Богоматерь Боголюбскую, и ищут главы моей.
Он тихо опустился на складное сиденье, поставил клобук на стол и перекрестился… Высокий монах упал на колени и со слезами припал к рукам архиепископа…
– Не сетуй, друг мой! Судьбы Господни неисповедимы…
– Но, Боже мой! Ты взгляни на себя, владыко! – вскричал монах, всплеснув руками.
– Что ж, друже мой! Страх смерти пройде сквозе душу мою, – тихо отвечал Амвросий.
– Нет! Нет! Я боюсь сказать тебе! – с прежним отчаянием повторил Епифаний.
– Да что же? Я ко всему готов…
– Ты не видел себя… ты… – Епифаний остановился.
– Что же я, друг мой?
– Взгляни на свои волосы, владыко… Еще утром они были черны, как крила ворона… а теперь они седы, как у ветхого старца!
Амвросий, закинув руку за плечо, взял прядь своих густых волос и поднес к глазам; они действительно поседели.
Как-то странно дрогнула при этом бледная рука архиепископа, которая за час до этого благословляла безумную толпу, жаждавшую его крови… Но кроткая улыбка осветила его лицо.
– Да… они седы стали… скоро в час един… да, да…
И он задумчиво и грустно перебирал рукой эти седые волосы чужие, не его… его волосы еще днем сегодня отливали на солнце, как вороново крыло… а теперь они белые, незнакомые какие-то волосы…
– Да… да… белы, аки снег… чище стали, очистились… Окропил их Господь иссопом страха смертного, и паче снега убелилися они… – тихо, качая головой, говорил он.
А Епифаний, безмолвно стоя на коленях перед ним, беззвучно плакал, закрыв лицо руками.
– Да… да… да… Скоро убелил Господь… Тысящи лет пред очима Его яко день един…
Набатный звон, однако, доносился все слабее и слабее.
Вошел и племянник Амвросия и также с ужасом отступил, увидев, что несчастный спутник его поседел на пути от Чудова монастыря к Донскому, вот почему так долог казался им этот роковой путь! Да он очень долог: в продолжение его человек прожил лет двадцать, дожил до седых волос, которых у него еще не было…
– Господи! Что ж это такое! – с отчаянием вскричал Бантыш.
– Ничего, друг мой, это Бог, – спокойно отвечал архиепископ. – Тысящи лет пред очима Его яко день един… Что ж стоило Ему превратить для меня час един в тридцать лет!
А время между тем шло своим чередом, и ночь эта страшная шла своим чередом; для счастливых пролетала как один сладкий миг, как вздох переполненный блаженством души, как опьяняющий поцелуй; для несчастных и страдающих, как вечность, как тысящи лет и тьмы-тем мучительных часов…
Пропустим же эту страшную ночь, вычеркнем ее из нашего повествования, потому что она была слишком долга для несчастного…
Он молился почти всю ночь, и Епифаний не отходил от него, Епифаний Могилеанский, киевский архимандрит, его школьный товарищ и друг. Он приехал в Москву навестить этого друга и дать ход некоторым делам своего монастыря; но чума захватила его тут, и он не мог выехать вовремя.
Когда Амвросий на минуту переставал молиться, Епифаний старался навести его на лучшие, менее мрачные мысли, и они вспоминали свою молодость, академические годы, Украину, Киев…
– И по сей час растет та верба, которую ты посадил, помнишь, в лавре, – вспоминал Епифаний.
– Помню… Я тогда переходил на курс элоквенции… Как это давно и в то же время как это, сдается, недавно было, – грустно качая головой, уже седой теперь, говорил Амвросий.
– Да, и как зелено и пышно растет…
– Так… так… и перерастет нас…
– А на передней парте, в философском классе, все еще цела надпись, что ты вырезал, помнишь?
– Какая? Много я их резывал когда-то…
– А твой девиз: aut omnia, aut nihil.
– Да… Да… Мое omnia уже проходит, а идет nihil.
– Для чего же так думать? Ты еще не стар…
– А Господь на что? Сегодня Он состарил меня на тридцать лет, а заутра… Э! Заутра, друже, может быть, помнишь?
Священники, диаконы
Повелять звонити —
Тоди про нас перестануть
Люди говорити…
И архиепископ горько улыбнулся.
– Да, помню, только зачем же так думать? – успокаивал Епифаний.
– Я и не думаю, друг; а душа моя слышит, что там ищут моей смерти…
– Э! Помилуй… теперь там тихо… Они спят… давно…
Нет, они не спали… Устав бесполезно ломать, разбивать, трощить в щепки и в мусор печи, полы, двери, окна, мебель, посуду, самые стены и не находя того, кого искали, они бросились в монастырские подвалы и погреба, вышибли в них железные двери и добрались до бочек с водками, винами, спиртом, разными питиями и маслами… И тогда потекло пьяное море: черпали из бочек пригоршнями, шапками, сапогами, лаптями и пили, до осатанения пили… Кто выкатывал сорокоуши на двор, кто вышибал из них днища, кто лез головой прямо туда, в источник опьянения, и опять все пило и кричало, что «Богородицу грабят»… Слышались крики, что «Турка идет на Москву», что сам «Мор ходит по Кремлю в виде бабы простоволосой»…
– Ходит, робятушки, и по-турецки разговаривает.
– А ты что ж ее не за косы?
– Э! Поди-тко, сунься, не велено…
– Кто не велел! Бей ее, суку!
Все, что желало пить, забыться, все пило с отчаяния, пило с проклятиями, с криками, что-де все равно, завтра умирать, не видать больше красна солнышка, пить-де умереть, не пить умереть, так пей, душа, пьяною и на тот свет пойдешь…
Иной завалился головой в бочку, и только оттуда окровавленные онучи торчат, а он знай кричит: «Богородицу грабят!»
Отдельные толпы хлынули к окраинам города «карантин разбивать», «несчастненьких выпущать», и все это само лезло на заразу, на смерть… Карантины разбиты…
Где же Еропкин? Куда он девался? Где его энергия, неустрашимость, уверенность?
То же спрашивали и современники. «Где же полицейские офицеры с командами их? Где полк Великолуцкой, для защищения Москвы назначенный?»
«Где, напоследок, градодержатели?.. Город оставлен и брошен без всякого призрения!» – восклицает очевидец этих ужасов в письме к своему другу.
Где же, в самом деле, были в эту страшную, поистине «воробьиную» ночь, когда даже ни воробьи, ни галки на Москве не могли сомкнуть глаз во всю ночь от того, что они видели вокруг себя, где были градодержатели Первопрестольной столицы?
А вон главнейший градодержатель господин генерал-фельдмаршал, ее императорского величества действительный камергер, сенатор и московский главнокомандующий, славный победитель Фридриха Великого, сиятельный граф Петр Семенович Салтыков, ввиду грозившей его собачкам от моровой язвы опасности перевезший весь свой многочисленный собачий штаб в свое подмосковное имение, а вместе со штабом перетащивший туда и свои старые кости, вон, он, мучимый бессонницею, тихо бродит по обширным пустым залам своего роскошного дворца, слабо освещенного восковыми свечами, и то и дело останавливается сам перед собою, не узнавая себя в огромных бемских зеркалах, останавливается и с удивлением спрашивает: «Кто вы, государь мой? Чего вам от меня надобно?» Потом узнает себя, махает с досады рукою и опять бродит. За пазухой его шелкового халата копошится что-то живое, к которому он то и дело нагибает свою старую голову и тютюшкает. Это щенок, которого привез ему оберполицмейстер от генерала Мамонтова и который, по свидетельству обер-полицмейстера, родился с глазами. Граф сильно привязался к малютке и постоянно носит его за пазухой и постоянно тютюшкает… «Ах, бедненький мой сироточка!.. Нету у тебя ни отца, ни матери… постой, постой, я велю моему обер-полицмейстеру, а то и Петру Дмитриевичу Еропкину, он разбитной молодой человек, велю сыскать твою суку-матушку… Ишь, шельма, убежала!» Потом подносит своего любимца к столу, наливает из серебряного молочника молочка в фарфоровую чашечку и кормит его… То подойдет к широкому турецкому дивану, на котором спит и во сне капризничает любимая сука Флора, которой представляется лакей, пристающий к ней с серебряным подносом и с лежащими на нем опротивевшими ей французскими сухарями в сливках, и вот она капризничает… «Ах, Флорушка моя, как бы я желал быть на твоем месте, – качая старой головой, шепчет победитель Фридриха Великого. – Я бы спал, как ты»… И опять бродит, бродит, и опять натыкается на себя самого в зеркале и с удивлением в сотый раз спрашивает: «Кто вы, государь мой?» – и опять с досадой машет рукой, узнавая в этой развалине себя, славного победителя Фридриха Великого.
Вот что делает главный градодержатель!
А вон и Еропкин… Услыхав набат и свирепые крики в Кремле, он велит подать себе коня-аргамака и вместе с веселым доктором скачет на место криков.
– Негодяи! Мерзавцы! Я вас! – неистово вскрикивает он, подскакивая к толпе.
– Тише, тише, генерал! – унимает его веселый доктор.
– Что такое! Я их!..
– Тише, вы не Бог, Его же и ветры послушают, ведь это стихии грозные…
– И я вас!
– А! – Енерал! – сипит великан с сивой косой, и массивный шест, свистнув в воздухе, ударяется о красивое, молодое тело генерала.
– Ой, негодяи! – стонет генерал.
– А!.. Вот тебе ишшо!.. Нна!.. И мы тоже не левой ногой сморкаемся! – и булыжник, в голову величиной, прошумев в воздухе, бьет генерала по ноге, но так, что прекрасный арабской породы аргамак вместе с генералом становится окарач…
– Бей ево! Лови!
И конь, и всадник скрываются… «Улю-лю-лю! Улю-лю-лю!» – слышится им вслед. Остается один веселый доктор… К нему радостно бросается какая-то собачонка…
– А! Маланья!.. И ты тут…
– Тут, тут, ваше благородие, – вырастает из земли краснобровый солдат, – только вы-то, Христа-радушки, уходите отселева… Жаль мне вас… Тут у нас хуже Турции, такие визиря позавелись! И не приведи Бог… Уходите, батюшка Крестьян Крестьяныч!
И веселый доктор тоже исчез.
Так прошла ужасная ночь. На утро главная партия защитников Богородицы под предводительством великана с сивой косой и по науськиваниям «гулящего попика» направляется к Донскому монастырю.
Там уже шла ранняя литургия. Амвросий собирался в церковь, как услыхал у стен монастыря говор, неистовые крики и ружейную пальбу. Он понял, что это пришла его смерть, и, как бы прощаясь, взглянул на своего друга. Тот стоял безмолвный, бледный… Из-за стен доносилось что-то очень грозное…
Вдруг в келью вбегает запорожец-служка. Мужественное лицо его бледно, руки дрожат…
– Ваше преосвященство! – вскричал он, падая на колени. – Нехай мене вбьют, а не вас…
– Спасибо тебе, доброе дитя! – со слезами отвечал архиепископ. – Не тебя ищут, а меня.
– Ни, ваше преосвященство! Вы надиньте мий кожух, а я вашу рясу и клобук, та и посох озьму, то воны не пизнают мене и вбьють.
Архиепископ грустно покачал головой, взглянул на образ Богородицы с Предвечным Младенцем, перекрестился и направился в церковь… Запорожец, обхватив его ноги и обливая их слезами, стонал: «Ни-ни, я вас не дам им, не ходить до их, не ходить, не ходить!» – И он волокся за ногами архиепископа, ловя его рясу и рыдая как ребенок.
На дворе слышнее было, что творилось за воротами монастыря. Амвросий на мгновение остановился, взглянул на небо, которое начинало голубеть и розоветь с востока, и, подняв руку, широко благословил своих невидимых врагов, голоса которых звучали как-то глухо, набатно…
Войдя в церковь и поклонившись местным образам, он обратился к стоявшим в церкви и сделал три глубоких поклона на три стороны. Когда из-под черного клобука блеснуло, буквально блеснуло, его бледное лицо, когда бывшие в церкви увидели, откуда исходит этот странный блеск, когда понятно стало, что это кланяется страдалец, которому одна ночь посеребрила волосы, все упали на колени и поклонились до земли с каким-то стоном ужаса и отчаяния. И он, троекратно благословив эти припавшие к церковному полу черные клобуки, тихо вошел в алтарь.
Началось богослужение. Похоронно как-то звучали молитвы служащих, что-то похоронное слышалось и в пении клиров, многие рыдали…
А глухие раскаты все ближе и ближе… Слышно было, как грохнули, выдавленные напором толпы, монастырские ворота, как ревущая волна, ворвалась в монастырь, как разлилась она по нем и все залила собою…
Скоро из-за черных клобуков показались зловещие лица. Над всеми высилась седая голова с длинною косою и рогаткою в руке. Показались дреколья, шесты, рогатины, ружья… Это облава, это бешеного волка ловят в лесу… Нет, это вошли в церковь защитники Богородицы… Вошли – и ни с места: служба идет, службу нельзя прерывать, грешно…
Амвросий видит все это и не может отвести глаз от седой головы великана с косою… Это Голиаф, только седой, вставший из своей могилы… И Голиаф смотрит на Амвросия, глаза их встречаются…
Служба не может идти дальше: и священник, и дьякон, и клир захлебываются слезами…
Амвросий подходит к жертвеннику, падает перед ним и, подняв руки, громко молится:
– Господи! Остави им, не ведят бо, что творят… Боже правый! Не введи их в напасть, но отврати стремление их, и яко же смертию Ионы укротися волнение моря, тако смертию моею да укротится ныне волнение сего свирепствующего народа… Боже! Боже!
Потом он берет сосуд и приобщается. А те ждут, пущай-де кончит… Вся церковь тихо рыдает…
Кончил, уходит куда-то… скрывается… Ох, уйдет… ускользнет из рук…
– Нет, не ушел!.. – Сапоги, лапти! Босые ноги! Дреколья, рогатины, все повалило в алтарь, все ищет его…
Нашли.
– Сюда! Сюда, братцы! Здесь он!
– А! Ты Богородицу велел грабить, – сипло говорит великан с сивой косою и ударом кулака сшибает с несчастного клобук; блеснули седые волосы…
– Да это не он! – кричит кто-то. – У него черные волосы, а этот седой…
– Я, дети мои, я, Амвросий архиепископ.
– A-а! Так это ты! Иди же на суд!
И огромная рука великана вцепляется в седые волосы мученика, валит его на пол и волочет из церкви… Голова стучит об пол, об ступеньки амвона, ни стона, ни звука жалобы… Волокут мимо образа Донской Богородицы…
– Дети мои! Подождите…
– Чего тебе?
– Дайте приложиться к образу Богоматери…
Страшная рука выпускает волосы. Мученик встает и целует икону… Волосы прядями падают ему на лицо, он их откидывает назад…
– Я заплету тебе их! – И седые волосы опять в безжалостной руке, опять голова колотится об пол, об церковный порог, об чугунную плиту, и опять ни стона, ни звука жалобы…
– А! Молчит! – И над колотящеюся об пол седою головою поднимается чья-то дубина.
– Не бей здесь! Не место, храм вишь…
Выволокли на паперть…
– Здесь можно! – И чей-то кулак бьет по виску несчастного.
– Не трожь! В ограде нельзя, негоже…
– За ограду! За ограду тащи! – ревут голоса. – За ограду долгогривого!
А в ограде делается что-то страшное. Келейник архиепископа, тот добродушный запорожец-служка, который предлагал Амвросию переодеться, увидав, что по двору волокут его, волокут его владыку, диким туром ринулся на толпу, сбил с ног и искалечил десятка два москалей, но далее не мог пробиться сквозь сплошную массу тел с дубьем и рогатинами… Он заплакал… Толпа кинулась было на него, науськиваемая «гулящим попиком», но запорожец, схватив попика за косицу и подняв его на воздух, стал отмахиваться им как дубиною, колотя направо и налево поповскими ногами в стоптанных сапожишках…
– Ай-ай! Мотри, братцы, хохол-то, хохол-то – ай-ай!
– Это он батюшкой-то, отцом Акинфием!
– Ай-ай! Вот дьявол! Вот помахивает!
А Амвросий уже за оградой. Та рука, которая волокла его за волосы, подняла страдальца с земли и поставила перед собой… Лицо было избито, исцарапано, в волосы набилась земля, солома, щепки…
– Стой! Держи ответ! Ты архирей?
– Я, дети… – Да, трудно теперь было узнать в нем того, кем он называл себя. – Я ваш епископ, дети…
– Какой ты нам отец!
– Молчи! Одного слушать! – пригрозил великан. – Сказывай: ты велел грабить Богородицу?
– Я велел запечатывать…
– А! Кается! Сказывай, ты не велел хоронить покойников у церквей?
– Я, дети, по высочайшему…
– Кается!.. Кается!.. Сказывай дале: для чего ты не ходил с попами в ходах?
Амвросий молчал… «Иисус же ответа не даде», – звучало у него в сердце… Из-за толпы показалась высокая фигура Епифания, друга его: он, стоя в стороне, плакал… «Исшед вон, плакася горько», – колотилось в сердце у страдальца, и ему стало легко…
– Сказывай: ты присудил запечатать бани? Ты велел брать нас в карантей?
Нет ответа… тихо кругом… все присмирело… Слышно только, как ворона где-то каркает, да из кабака, на радостях распечатанного молодцами, поется песня:
Подували буйны ветры со горы,
Сорывалн черну шляпу с головы.
Сквозь толпу, с колом на плече протискивается Васька Раевский, тот, что армянина бил.
– Чего вы глядите на него? – кричит Васька. – Али не знаете, что он колдун, морочит вас! Вот я его!
И кол свистнул в воздухе, скулы хряснули на лице у страдальца от страшной дубины, и он упал на землю… Начало было положено: толпа навалилась на упавшего, пошли в ход кулаки, пинки, лапти, каблуки с железными гвоздями, лезли друг на дружку, колотили один другого, в воздухе мелькали рукавицы, дубье, брошеные шапки, клочья волос… Страшная работа!
«Убивши же до смерти архиерея Божия, – говорит самовидец, – отступили мало, скверня языками своими воздух. Присмотри же, что единая рука, правая, отмашкою двинулася, принялися паки бить кольями по голове. Отступивши же несколько, увидели, что пожался тот священный страдалец раменами, то и третично били, дондеже церковник некий, поп гулящий, диавольской церкви слуга, последним довершил ударом, отруби несколько от главы коя часть над глазом, и осталася та часть висящею даже доднесь, лета от Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 1771-го, от страдания же и распятия за ны 1738, месяца сентемврия с 16-го по 18-е число, ни пси лютии, трупы язвенные по граду поядающие, ни врани хищнии, оных язвенных клюющие, не дерзаша оных честных мощей святителя касатися, и токмо врабни невиннии, сирсчь воробушки малин, над архиереем Божием горестно чиракахуть».









































