Текст книги "Москва слезам не верит"
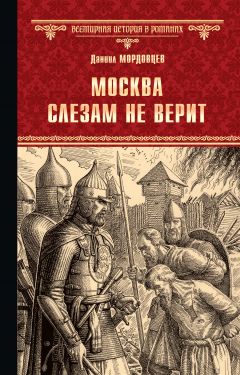
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
VIII. Соловецкие Святки
Время шло. Скучное северное лето, с его бесконечными днями, почти целые сутки освещаемыми незаходящим солнцем, и с его белоглазыми, надоедливыми ночами, сменилось еще более скучною, хмурою и мертвою зимою с ее такими же мертвыми, бесконечными ночами, освещаемыми иногда от полуночи страшными «сполохами», встающими от северного горизонта длинными, с переливающимися яркими лучами снопами света, которыми северное сияние как бы вознаграждает северную мрачную и бесконечную ночь за ее мрак и бесконечность, за малость северного дня и за скудость и безжизненность северного солнца. Весь остров завернулся в белый саван, как покойник на льдине Ледовитого океана. Зловещее море кругом на необъятное пространство, туман и мрак или ветер с пургой и леденящий холод, деревья, утонувшие в инее, мрачные, заиндевевшие стены монастыря – все это до боли бесприветно и безотрадно.
К зиме покинули остров и осаждавшие обитель ратные люди. Осада шла вяло, неохотно, недружно, а осажденные защищались стойко, упрямо. Воевода сам видел, что после неожиданного появления в его стане огненного чернеца, которому он отрубил пальцы на правой руке, а потом, забив в колодки, отправил под караулом в Сумской, что после этого неожиданного появления изувера среди стрельцов стрельцы потеряли бодрость духа и упорство в добывании мятежной обители. Думая, что, проведя зиму в Сумском, они к весне опять будут способны с прежнею отвагой пойти на монастырь, он велел уничтожить все построенные для осады монастырских стен городки, разорить осадные укрепления и подкопы и переехал на зимовку в Сумской. Но чтобы монастырь и весь остров продолжали оставаться в осаде и чтобы осажденные мятежники не имели возможности сноситься с землею и пополнять свои запасы продовольствия, а равно боевые снаряды, одним словом, чтобы довести монастырь до безвыходного положения, воевода поставил заставы во всех главных пунктах, по всему берегу Онежской губы справа и слева.
Но черные мятежники не унывали. Всяких запасов у них было вдоволь, а отрезанность от земли была отчасти на руку старым монахам: она не давала возможности молодым чернецам шляться по усольям и соседним посадам и вожжаться с бабами, до которых черная молодежь были большие охотники.
После серой, скучной и мокрой осени с суровыми ветрами и туманами и после долгого Филиппова поста наступили Святки. Все же хоть какое-нибудь развлечение для братии: и для почтенных старцев, и для молодшей братии – «утешение» положено: и брашно всякое, и разрешение вина и елея. Чего же больше людям, отрезанным от мира и его прелестей! За трапезой и лапшица добрая, и шти с сушеной рыбкой, и пшенники с яичком, и пироги с вязигой[44]44
Вязига (визига) – часть тела (хорда, спинная струна) у рыбы осетровых пород. По виду длинный белый шнур, проходящий через весь позвоночник.
[Закрыть], и икорка паюсная, и теши межукосные[45]45
Теши межукосные – брюшная часть осетра, белорыбицы и некоторой другой рыбы, идущая в пищу в копченом виде.
[Закрыть], и яишенка глазаста, и оладьи со сметанкой, и квасок добрый, и медвяное питье; а по кельям тоже «утешение»: и коврижки прянишны и сахарны, и древо сахарно доброе, и малинка в меду, и вишенка в сахаре аглицком, и яблочки в патоке, и настилки двусоюзные, и все от благодетелей. А для молодшей братии, у кого зубы, и орешки кедровы, и орешки калены. После пенья, да метаний, да урочных поклонов это «утешение» немощи ради плоти не возбраняется.
А соснув после обеда, пока не благовестили еще к вечерням и день был ясный, без метели и пурги, старцы выходили на двор, садились на крылечках да завалинках и смотрели, как молодшая братия, служки, да молодые трудники, да ратнички голубей гоняли. Голуби – большая утеха для отчужденных от мира. Спугнут это их ратники либо груднички, и взовьются они к небу стаями, кружатся, кружатся по аеру над церквами божьими, а турманы свое дело делают, а особливо тот белый, «в штанцах»: уж так-то кувыркаются по аеру, что и сказать нельзя! А старцы поднимают кверху свои седые бороды, щурятся на небо, ищут чудодея турмана «в штанцах», и хоть старые очи ничего не видят издали, а все же утеха некая. А там голуби, все кружась шире и шире, все забирая выше и выше, кажется, совсем хотят оставить монастырь и лететь за море; так нет! Исачко стоит середи монастыря, задрав к небу свою бороду и расставив руки, и все видит, и радостно покрикивает: «Ах он вор! уж и вор птица, что выделывает!» И старцы радуются, хоть и не видят всего, что видит глазастый Исачко. А там голуби, покружась и покувыркаясь по аеру, спускаются на землю и кучами, доверчиво, словно куры, толпятся к старцам. У каждого старца в приполье, либо в скуфейке, горстка зерна либо крох от трапезы, и старцы бросают этот дар божий божьей твари, птичке небесной…
– Воззрите на птица небесная, иже не сеют, не жнут, – с любовью бормочет старец Никанор, швыряя в серую копошащуюся массу крохи от поджаренного пшенника.
А Исачко не отходит от турмана «в штанцах», так и увивается около него. Он вынес ему целый каравай пшенника: сам не ел за трапезой, а приберег своему любимцу и теперь даже испугал его видом огромного кома желтого, рассыпчатого пшенника, брошенного голубю.
– Клюй, дурашка, не бойся, не укусит, не коршун, чать, – бормочет он, нагибаясь к турману.
Появляется откуда-то и Спиря. Он все так же босиком, как и летом, без полукафтанья, в одной длинной рубахе, но уже в скуфейке. Он поднимает голову вверх и смотрит на соборную колокольню. С колокольни срываются два голубя, летят к Спире и усаживаются, как куры на нашест, один на правое плечо юродивого, другой на левое. Спиря осклабляется.
– Что, детки, есть небось захотели? – ласково говорит он. – А не дам, ноне пост.
Голуби машут крыльями и тянутся ко рту юродивого. Тот нарочно нагибает голову.
– Что ты их дразнишь? – вступается сердобольный Исачко. – Не томи… Ты думаешь, и птичина по неделям поститься должна, как ты, двужильный!
Старцы добродушно смеются.
– Не томи их, Спиря, – говорит Никанор, смеясь седыми бровями.
Сухой, серьезный старец Геронтий машет Спириным голубям своей скуфьей и вытряхивает из нее крошки, маня проголодавшуюся птицу. Но Спирины голуби не летят к отцу Геронтию.
В это время из-за собора показывается Оленушка. Она в собольей шубейке, подпоясана голубым поясом и в собольей шапочке. На руках рукавички. В правой руке она везет саночки маленькие: Оленушка каталась на салазках за монастырской оградой. Молодые щеки ее пылали морозным нежным румянцем.
Увидав ее, Спирины голуби, снявшись с плеч юродивого, тотчас же перелетели и уселись на плечах Оленушки, махая крыльями и протягивая головки к ее смеющемуся рту с розовыми губами и белыми, как у мышки, зубами. Оленушка заливалась от радости, а юродивый с любовью смотрел на нее.
– Нет у меня ничего, нету, гулюшки! – смеялась Оленушка, защищая свои розовые губы.
Лица у старцев сияли радостью и умилением. Старый седобровый Никанор улыбался бровями, глядя на Оленушку и на голубей. Даже суровый Геронтий как будто потеплел своим сухим лицом. Один Исачко не вытерпел этого.
– Да что вы морите бедную птицу! – отозвался он недовольным голосом. – Вот нашли!
К архимандриту подошел старый соборный звонарь и низко поклонился.
– Благослови, святой отец, – сказал он, протягивая руки пригоршнею.
– В било? – сказал Никанор.
– Во святой колокол, к вечерне благовестить, – отвечал звонарь.
– Во имя Отца и Сына… – благословлял Никанор.
Звонарь поплелся на колокольню. Скоро в морозном воздухе далеко-далеко по острову и по свинцовому морю с льдинами и скалами пронесся металлический крик колокола. Голуби встрепенулись и побросали зерна.
Старцы встали, перекрестились и тихо побрели к вечерне. За ними сыпнула остальная братия, старшая и молодшая, служки, и трудники, и ратные люди. Остались одни голуби доедать зерна и крохи. К ним налетели монастырские галки и юркие воробьи… Монастырь замер…
Скоро на монастырь спустилась и ночь, темная, с темным небом и яркими звездами, блеск которых бледнел только тогда, когда с полуночи шли и трепетали на небе яркие полосы «сполоха»…
Скоро и сон сошел на монастырь: братии надо успеть соснуть до полуночного бдения и до утренних метаний, и братия спит. Не спит только старость, к которой сон нейдет, так старость молится по кельям и вздыхает о грехах своих да о молодости…
Не спит еще и молодость…
Не спит Оленушка. Накатавшись вдоволь на салазках, которые смастерил ей келарь Нафанаил, большой искусник строитель и худог[46]46
Худог – мастер.
[Закрыть], отстояв потом вечерни и воротившись в отведенную ей с матерью келью, она поужинала, пощелкала кедровых орешков, погрызла немножко орла сахарного и вздумала погадать о суженом. Нельзя же, Святки на дворе: хоть и монастырь, а все же Святки. Мать души в ней не чаяла и потому согласилась на все, хоть в монастыре и грешно было гадать… «Экое мирское дуростное дело, да в святой-ту обители! Что ж, дитя малое, неразумное: пущай побалует… Коли и взыщет Господь, так на мне, на старой дуре; а я отмолюсь, еще привезу в святую обитель, коли жива буду, бочку-другую беремянную, вина ренсково да пуд ладану росново», – думала себе Неупокоиха.
Налили в миску воды, достали жестянку, положили в нее воску от иорданской свечки и стали топить воск на светце. Растопили. Оленушка, вся пунцовая от хлопот, от жару светца и от волнения, загадала про Борю, перекрестилась истово… Рука дрожит, шутка ли! Про судьбу гадает, про суженое… Нагнула жестянку над миской. Желтой лентой полился растопленный воск в воду и, с шипом падая в нее и погружаясь, неровными лохмотами всплывал наверх… Все вылито… Дрожащею рукою, бережно, словно драгоценность какую, вынимает Оленушка восковые лохмотки из воды, кладет их на розовую ладонь и со страхом рассматривает…
– Ничего не разберу, мама, – волнуется Оленушка, – что вышло.
Волнуется и старуха. Приглядывается к ладони дочери, подносит ее к светцу, щурится.
– Кубыть венец, – нерешительно говорит она.
– Ах, нет, мама! Кочеток словно, – еще более волнуется Оленушка.
– Може, и кочеток… У тебя глазки молоденьки, лучше моих… Кочеток – это к добру.
– Нету, мама, это сани…
– И сани к добру.
Оленушка перевернула комок воску на другой бок, приглядывается.
– Не то шляпа, не то сапог, – с огорчением в голосе говорит она.
– Что ты, глупая! Не сапог, а венец! – огорчается и старуха. – А ты не так смотришь, дитятко, – заторопилась она, – надоть тень смотреть… Да-кось!
И она подносила руку дочери к стене, чтоб от нее и лежащего на ладони комка воска падала на стену тень.
– Зайчик, мама.
– Что ты, дурашка! Это твои пальцы.
Оленушка выпрямила ладонь. Тень на стене кельи вырисовывалась яснее.
– Ох, клобук, мама! – испугалась Оленушка и даже побледнела.
Испугалась и старуха, но скрыла, не подала виду.
– Чтой-то ты, непутевая! – рассердилась она. – Венец и есть.
Так и порешили на венце, хотя Оленушка в венце сильно сомневалась.
– А что-то в Архангельском у нас теперь? – грустно заговорила она.
– Святки тож гуляют… поди, озорники в хари наряжаются…
Оленушка вздохнула. Ей кто-то и что-то вспомнилось…
– Господи! Когда же мы в Архангельской, домой воротимся? – заговорила она как бы про себя.
– Весной, дитятко, подожди маленько. Вон летом ты недужала, а там и осада эта.
– А коли и весной осадят?
– Нету, не осадят. Отец Никанор сказывал, ни в жисть не осадят, напужаны-де.
– То-то, мама. А как осадят?
– Отсидимся, дитятко. Отец Никанор сказывал: все войски никониан не возьмут обители, потому: Зосима – Савватий настороже стоят.
Оленушка опять вздохнула.
– А мне хоть век тут жить, так само по душе, – говорила старуха, – святое место, спокой, молишься себе, все тебя уважают… Вот один только этот пучеглазый Феклиска… А все на тебя буркалы пялит… Да уж я его отсмердила добре…
Оленушка вспыхнула. Она сама видела, как на нее засматривался глазастый молодой чернец, что Феклиской звали, и раз в церкви тихонько ей на ногу наступил…
А чернец Феклиска тоже не спал; не спали и еще кой-кто из молодой братии… Нельзя же, Святки… Прежде, до этого проклятого сиденья, когда монастырь не стерегли, как девку на возрасте, еще можно было урваться в посад либо на усолья, около баб потереться да грешным делом и оскоромиться мясцом; а теперь сиди в четырех стенах, словно огурец в кадке либо супоросая свинья в сажалке. Надо же и кости поразмять, чтоб и молодая кровь не сыворотилась…
Вон огонек в работницкой поварне, мельтешит там что-то. А что? Посмотрим, благо городничий старец Протасий ненароком пересыпал себе вина и елея и теперь крепко спит.
В поварне «вавилония» идет, как выразился веселый Феклис: «жезл Ааронов расцвете», это значит, чернецы гуляют. Просторная комната слабо освещена светцом. На столе, у края, красуется бочонок. На лавках сидят чернецы и играют в «зернь». А посреди комнаты стоят друг против друга молодой чернец и черничка: руки в боки, глаза в потолоки, ноги на выверте, плясать собираются. В плясуне монахе мы узнаем старца Феоктиста, вернее Феклиску, а в монашке-плясавице молоденького служку Иренеюшку, который, будучи наряжен теперь черничкою, необыкновенно похож на хорошенькую девочку.
– Ну, царь Давыд! Играй на гуслях! – говорит Феклиска чернецу без скуфьи, сидящему у стола и смотрящему на игроков в зернь.
Чернец без скуфьи оборачивается и смеется при виде плясунов, собравшихся «откалывать коленца».
– Ино играй же, царь Давыд, бери гусли! – не терпится Феклиске.
«Царь Давыд» без скуфьи берет большой деревянный гребень с продетою промежду зубцов бумажкою, – гребень заменяет гусли, – и начинает водить губами по гребню и южжать что-то очень бойкое.
Черничка, подражая настоящей бабе, задергала плечами и завизжала не сформировавшимся еще мужским голосом:
Выходила млада старочка,
Младехонька, хорошохонька,
Поклонилася низехонько:
Я ни девушка, ни вдовушка…
– Не ту, не ту! – перебивает Феклиска.
И, пустившись вприсядку, так что полы полукафтанья расстилались по земле, зачастил говорком, а за ним «царь Давыд» с гуслями:
Не спасибо игумну тому,
Не спасибо всей братьи его:
Молодешеньку в чернички стригут,
Зеленешеньку посхимливают.
Не мое дело в черницах сидеть,
Не мое дело к обедне ходить,
Не мое дело молебны служить,
Как мое дело в беседушке сидеть.
Как мое дело винцо щелыгать.
Посошельицо под лавку брошу,
Камилавочку на стол положу,
А сама млада по келейке пройду,
Молодешенька погуливаю.
– Эх, ну! – гоготал Феклист. – Го-го-го! – пред сенным ковчегом скакаша-играя веселыми ногами!
А Иренеюшко павой выплывал, совершенно по-бабьи, видно, что изучил свое дело в совершенстве, и ручкой помавал, и плечиком вихлял, и глазами «намизал». Игравшие в зернь чернецы бросили игру и любовались Иренеюшкой.
– Ай да черничка! И настоящей не надоть! – похваляли старцы.
А Иренеюшко, подойдя к столу и притопывая ногою в валенке, выговаривает под южжанье гребня:
На улице было
На широкой диво:
Варил чернец пиво.
Чернечик ты мой,
Горюн молодой,
Погуляй-ко со мной.
Вступила хмелинушка
В буйну головушку:
Не даст мне тряхнуться,
Не даст ворохнуться.
– Ну! Ино выпей, млада черничка, на! Вот пивцо, что варил молодой чернец.
И «царь Давыд», положив гребень, налил из бочонка пива в ковш и подал Иренеюшке… Иренеюшко выпил, утер рукавом розовые губы и опустился на лавку.
– Что, брат? Али по-бабьи труднее плясать-ту? – спросил игрец в зернь.
– Не в пример трудней.
– Знамо, надоть, чтоб и плечи, чтоб и все выходило.
В поварню ввалились еще гости. Вошел медвежий поводильщик с бубном, за ним медведь на веревке и коза с рогами, а на рогах старая камилавка. Веселый хохот встретил дорогих гостей.
– Ай да Миша! Ай да воевода Топтыгин! – приветствовал медведя Феклист.
– А ты преж угости меня, – заревел медведь.
– И меня, козу в сарафане, – замекала коза, – мме! И меня!
Гостям поднесли пива. Поводильщик, выпив ковш, задудел в бубен, а «царь Давыд» заюжжал на гребне. Медведь тяжело, грузно пошел плясать, а вокруг него скакала коза, тряся бородой и приговаривая:
Я по келейке хожу,
Я черничку бужу:
Черничка, встань!
Молодая, встань!
Не могу я встать,
Головы поднять.
Уж и встати было,
Поплясати было,
Для милых гостей
Поломати костей…
– Вот я вам переломаю кости, лодыжники! – раздался вдруг грозный голос.
Все встрепенулись и замерли на местах. На пороге стоял городничий старец Протасий. В руках его был огромный посох, «жезл Ларона», как называли его молодые чернецы, по ком гулял этот «жезл»…
И «жезл» погулял-таки в эту памятную ночь соловецкого сиденья…
IX. Спирина печерочка
Наступила, наконец, и весна, к которой и в сонных грезах, и наяву, в келье и в церкви, под ровное постукиванье вязальных спиц матери и под однообразное чтение нескончаемых кафизм, неудержимо рвалось молодое, несутерпчивое сердце Оленушки. Бог весть откуда стали слетаться птицы, оглашая остров и взморье радостными криками, словно бы это были страннички, слетевшиеся со всего света посмотреть, что-то делается на далеком, уединенном зеленом островке и так же ли тут плачут люди, как в тех прекрасных, далеких теплых землях, откуда они прилетели, или новая весна осушила все людские слезы. И ночью, на поголубевшем с весною небе, и на светлой, румяной заре, и в яркий полдень все неслись и звенели по небесному пространству птичьи голоса, и одни смолкали там, в той стороне, с полуночи, а другие неслись к острову с той стороны, от полудня. Все короче и короче становились ночи, все продолжительнее и продолжительнее становились дни. И вокруг келий, и у монастырских стен, и за стенами, и даже в трещинах и на выступах старых стен и крыш пробивалась зеленая травка. Остров ожил вместе с этою оживающею зеленью и с этим неугомонным птичьим криком и гласом. Даже с монастырскими птицами – с голубями, галками, воробьями – творилось что-то необычайное. Белый турман «в штанцах» вился и кувыркался в воздухе еще безумнее, так что Исачко, задирая к небу голову, чтобы лучше видеть своего любимца, чуть не свихнул свою воловью шею. Спирины «гули» совсем бросили своего воспитателя и все целовались на соборном карнизе и доцеловались до того, что едва успели кое-как смостить себе на одной балке гнездо, и то благодаря юродивому, который тихонько подкладывал им поблизости гнезда соломки и шерстки…
– Это брат-ту с сестрой? – подшутил над ним однажды Исачко, увидав его за этим благочестивым занятием, и лукаво подмигнул своими косыми глазами. – Ах ты старый греховодник!
Когда же Оленушка спросила Спирю, почему «гули» покинули его, юродивый отвечал:
– Погоди маленько, дитятко, и ты кинешь матушку для Борьки.
Оленушка только вспыхнула и закрылась рукавом. Ей и страшно и хорошо разом сделалось от слов юродивого. Как он мог узнать, думалось ей, что у нее есть в Архангельске зазнобушка? И как он мог знать, что его зовут Борей? Вестимо, потому, что он святой, прозорливый человек, а потому он насквозь человека видит и мысли его читает, и душу видит как на ладонке, и все грехи его знает. И при этом Оленушка зарделась еще больше: она вспомнила, что сегодня утром ей страх как хотелось молочной каши… А сегодня середа, постный день… Спиря все это знает, ах, срам какой!
Теплый, ласковый весенний воздух тянул Оленушку за монастырские ворота. За воротами, казалось, ближе было к Архангельску: коли бы крылья, как у тех пташек, так бы и полетела через море, и дорогу бы, кажется, нашла, все туда, туда, далеко, откуда солнышко по утрам выходит…
И она очутилась за воротами. Глянула на море, на стены. И смурые стены весною смотрят веселей. Везде пробивается из земли и тянется к небу зелененькая травка. На серых камнях кучами сбились красные божьи коровки, и они выползли погреться на солнышке. Оленушка присела и стала рассматривать их: иные сидят смирнехонько, не ворохнутся, другие копошатся, ползают. В воздухе птичий грай и щекот так и подмывает улететь далеко, далеко от этих постылых мест.
Оленушка пошла дальше, вдоль стен: то сорвет иссера-зеленый кудрявый мох, повертит его в руках и бросит, то нагнется над желтым цветочком, поглядит на него, потрогает лепестки, сдует с них муравья или другую козявку и опять идет себе тихонько, да нет-нет все и поведет глазами по гладкой равнине моря… Ни кораблик ни один не чернеется, ни парус не белеется; только поблескивают иногда на солнце крылья чаек да мартынов-рыболовов… «То-то кабы чайкины крылья, полетела б, не отдыхаючи, до самово Архангельсково, надлетела б над батюшков двор да и крикнула: «Ки-их! Батюшко родимый; выходь-ко на тесовое крылечко, сусгречай свою дочушку Оленушку…» А то бы села у Борюшки под косящатым окошечком и запела б: «Кии-х! мил сердечный друг! отворяй-ко ты окошечко, впущай к себе птушечку Оленушку…»
Оленушка чуть не заплакала. Шутка ли! Скоро год, как они сидят здесь, словно в темной темнице. А еще когда-то приедут богомольцы да возьмут их с собою! Да и приедут ли? Может, опять нагрянут эти московские разбойники, опять запрут монастырь и опять начнется пальба без конца.
Долго бродила Оленушка вокруг монастыря, тоскуя и не находя себе места. Зайдя за один выступ монастырской стены, подходившей почти вплоть к морю, она уселась на краю обрыва и, собирая вокруг себя мох, стала делать из него венок. Она совсем углубилась в свое занятие, вспоминая то, что нагоняла ей на мысли молодая память, или раздумывая о настоящем, смысла которого она никак не могла понять. Она много слышала о каком-то Никоне, и он представлялся ей каким-то зверем, но зверем не виданным, а таким, какой написан на одном образе в соборе, не то зверь, не то человек, не то баба. И зачем это он книги какие-то новые выдумал? Зачем он велит креститься тремя перстами? И для чего он какой-то «аз» у Христа отнял, а самого Господа Исуса каким-то «ижем» прободал? Что это за «иже» такое? Разве то копие, которым воин Христа на кресте прокалывает в ребра?.. И чего нужно от монастыря этим стрельцам?.. Она думала и об Аввакуме, который представлялся ей в виде того святого, который стоит на столбе и крестит двумя перстами тех, что стоят под столбом… Сколько народу стоит!.. Вспомнила она и того красного как огонь чернеца в веригах, что пришел от Аввакума: этот чернец пропал еще с осени: говорят, его воевода замучил, отрубил ему все пальцы на правой руке, а когда на руке снова выросли только два пальца, указательный и средний и он опять начал молиться этими двумя пальцами истово, то воевода отсек ему голову, а пальцы сколько ни отсекал, они вновь приростали…
Сидя так неподвижно, Оленушка с удивлением слышала, как будто кто-то под землею шевелится не то глухо скребется. Она стала прислушиваться и осматриваться. Почти под ногами у нее, ниже, под неровным каменистым берегом плескалось море, наскакивая на берег с пеной и снова отступая и падая. Вправо из-за корней и спутавшихся ветвей с свежею зеленью выглядывал большой серый камень. Всматриваясь в него, Оленушка видела, что из-под самого камня, казалось, сползала земля и тихо сыпалась в море с отвесной кручи. Отчего же это сползала там земля? Так камень, кажется, не двигается…
Вдруг из-за камня показалась косматая голова… Оленушка чуть не вскрикнула, да от ужаса так и прикипела на месте с пучком моха в руке… Голова повернулась, и Оленушка узнала Спирю! Юродивый также узнал ее, и его добрые, собачьи глаза блеснули радостью…
– Это ты, девынька? – отозвался он тихо.
– Я, дедушка, – отвечала девушка, чувствуя, что у нее еще колотится сердце.
Юродивый совсем вылез из-за камня. Он был весь в земле – руки, ноги, волосы.
– Ты что тут, девынька, делаешь? – спросил он, приближаясь.
– Венок заплетаю.
– А!.. А кому?
– Богородице, дедушка, на образ.
– Умница, девынька, заплетай.
– А ты, дедушка, что тут делаешь?
– Ямку собе.
Оленушка глядела на него удивленными глазами.
– Норку, – пояснил юродивый, – норку зверину.
– Нору?
– Да, язвину, девынька… язвину, их же и личи имут, Сын же человеческий не имел.
Оленушка все-таки ничего не понимала и в недоумении теребила свой венок.
– Печерочку себе махоньку копаю, девынька, – пояснил Спиря, показывая руками, как он это копает.
– На что ж она тебе, дедушка?
– А молиться в ней буду, вон как в Киеве печерски угоднички молились.
– А на что ж церква, дедушка?
– Церква церквой… только в церкви соблазн бывает, девынька, а в печерочке только Бог да смерть.
Девушка невольно вздрогнула… «Господи! Как страшно…»
– Страшно меж людьми, девынька, на вольном свету, а под землей благодать.
Оленушка задумчиво смотрела на море. Юродивый сел около нее.
– Только ты, девынька, никому не сказывай о моей печерушке, ни-ни! Ни матушке родимой!
– Не скажу, дедушка.
– То-то же, мотри у меня. Христом прошу.
Девушка продолжала смотреть на море и прислушиваться к далекому плаканью чаек.
– Что, скучаешь у нас, девынька?
– Да, дедушка, домой бы.
– Али дома лучше?
– Лучше.
Юродивый помолчал, вздохнул, помотал головой. Он вспомнил, что и у него когда-то было свое «домой». Только давно это было.
И перед ним вместо этого безбрежного моря с плачущими чайками нарисовалась другая картина, вся озаренная солнцем юга. Высокий берег Волги с темною зеленью в крутых буераках. В зелени не переставая кукует кукушка. Красногрудый дятел однообразно долбит сухую кору старого тополя. В ближней листве высокого осокоря свистят задорные иволги, а на сухой ветке тоскливо гугнит лесной голубь-припутень. Вниз по Волге сверху плывет косная лодочка, изнаряженная, изукрашенная. По воде доносится песня:
Полоса ль моя, полосынька,
Полоса ль моя непаханая…
Лодка причаливает к берегу. Удалые молодцы высаживаются и выводят под руки кого-то на берег… Виднеется девичья коса, а на солнце играет «лента алая, ярославская»…
«Здравствуй, батюшка атаманушка Спиридон Иванович! – кричат удалые. – Примай любушку-сударушку за белы руки…»
Спиря вздрагивает и дрожащею рукою ощупывает в своей суме мертвый череп… «Прочь, прочь!» – мотает он своею поседелою головой…
– Так в Архангельском лучше, чем у нас, вот здеся? – снова заговорил он.
– Лучше, дедушка, не в пример лучше.
– А чем бы, скажи-тко?
– Дх, дедушка! Да теперь там, с весной-то, что кораблей из-за моря придет! И из галанской земли, и с аглицкой земли, и с датской земли, и с любской земли, да из города Амбурха! Ах и что ж это!
Оленушка даже руками всплеснула.
– Ну и что ж, что придут? – как бы подзадоривал ее юродивый, любуясь оживлением девушки.
– Как, чу, что! А товаров-то, узорья всякого, что навезут!
– Ай-ай-ай! – качал головой юродивый.
– И зерна всяки чурмышски, и зеньчуг большой и мелкой и скатной, и бархаты турецки, и вларенски, и венедски, и бурски, и немецки, целыми косяками! А что отласов турецких, золото с серебром, что камок куфтерей добрых всяких цветов, и камок кармазинов, крушчатых и травных, и камочек адамашек! А то золото и серебро пряденое, бархаты черленые кармазины, бархаты лазоревы и зелены, бархаты таусинные гладкие, да бархаты багровы, да бархаты рыты…
Спиря ласково глядел на нее и грустно качал головой.
– А-ай-ай! Что у вас узорочья-то! – повторял он как-то машинально.
– Да, дедушка, а отласы-те каки! – все более и более увлекалась Оленушка. – И черлен отлас, и лазорев отлас, и зелен отлас, и желт отлас, и таусин отлас, и багров отлас! А объяри золотны, а камочки индейски, а зуфы анбурски, а шелки рудо-желты да дымчаты, а шарлат сукно да полушарлат, да сукна лундыши, да сукна настрафли! А ленты-то, ленты!
Оленушка даже руками всплеснула.
А перед юродивым опять промелькнула «лента алая, ярославская», и крутой берег Волги, и эта широкая голубая река, и туманно-голубое безбрежное Заволжье…
«Атаманушко Спиридон Иванович!.. Любушка…»
– Господи! Отжени – ох! – невольно простонал, хватаясь за сердце, юродивый.
Оленушка невольно остановилась.
– Что с тобой, дедушка?
– Ничего, дитятко… Так ленты, сказываешь?
– Ленты, дедушка, алы…
– Так и алы?
– Алы и лазоревы…
– Тете-тете… ишь ты…
Юродивый отмахивается от воспоминаний, мотает толовой, а воспоминанья встают, встают как мертвые из гробов… Краски прошлого встают, звуки голоса, и этот проклятый голос:
Полоса ль моя, полосынька,
Полоса моя непаханая…
Это грехи встают, как они встанут на Страшном суде… Куда от них деваться? Некуда! В землю, в язвину, в пещеру? Они и там найдут…
Оленушка взглянула на море, да так, казалось, и застыла. Приподнятая рука остановилась в воздухе. Доплетенный венок упал на колени. Щеки ее все более и более заливал румянец…
В туманной дали на гладкой поверхности моря белели, как светлые лоскутки, паруса… Да, это не крылья чаек…
– Дедушка! – чуть слышно заговорила девушка.
Юродивый взглянул и оглянулся кругом.
– Что, дитятко? – спросил он рассеянно.
– Плывут… вон паруса…
– Кто плывет?
– Они… богомольцы…
Девушка показывала на море. Юродивый щурился, прикладывал ладонь над глазами в виде козырька.
– Не вижу, девынька.
– А я вижу, дедушка, вон…
– У тебя глаза молоденьки.
Оленушка вскочила на ноги, поднялась на цыпочки и готова была, казалось, побежать по морю, как по суху. Глаза ее горели, губы дрожали.
– Господи! Богородушка! Кабы батюшка приехал!
Вдруг на стене что-то грохнуло и рассыпалось гулом по острову и по морю. Юродивый перекрестился.
– Вот тебе и на! – сказал он тихо и опустил голову.
– А что, дедушка? – встрепенулась Оленушка.
– Злодеи плывут, дитятко. Ах! Ноли не слыхала пушки?
Оленушка, бледная как полотно, упала на землю и зарыдала голосом.









































