Текст книги "Москва слезам не верит"
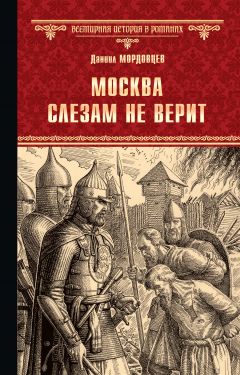
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
– Святители! Великие угодники! Перстом их! Опалите перстом их вашим, аки молнью! – вопил он.
Потом, вскочив на ноги, снова бегал от пушки к пушке, кадил их и кропил с криком:
– Матушки галаночки, не выдайте! Родимые, громите их!
Косой Исачко и кемлянин Самко ревели не менее, распоряжаясь нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.
– Уходют еретики! Уходют! – прошел по стене радостный крик.
– Наутек! Наутек! Улю-люлю! Улю-лю-лю!
– Святители! – с радостными слезами стонал Никанор.
Черный хор с ревущим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых…»
– Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола Его! Господи! Владыко всесильный!
Приступ был отбит.
IV. Сиротская свечка перед господом
Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь, с божьею помощью подклонивший всю Малую и Белую Русь, и царство казанское, и царство астраханское, и царство сибирское со всею необъятною Сибирью, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые Русии самодержец, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверские земли, карталинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич и наследник и государь обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого слова в этом читуле дьяка постигало обычное наказание: «бить батоги нещадно»), и такой, повторяем, могущественный государь в течение восемнадцати лет не мог подклонить под свою державную руку этого отбившегося от великого российского стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяем: то было странное, удивительное время.
Эпитет «тишайший», приданный Алексею Михайловичу его современниками и вполне его характеризовавший, совсем не подходил к характеристике его царствования, полного бурных событий. Он был кроток, набожен, со всеми ласков, с необыкновенно привязчивым сердцем. Он искренно любил Россию, свой народ и всем сердцем желал ему добра, счастия, благоденствия. Его голубиную душу глубоко ценили все его приближенные, с которыми он обходился с отеческой нежностью, и если иногда и наказывал царедворцев за упущения по службе, только не за злоупотребления, то истинно по-отечески: любимое его наказание было купать бояр в пруду. Вот что он сам писал об этом своему стольнику, Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, што стольников купаю ежеутр в пруде. Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти и по двенадцати человек, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да и после купания жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-деи нас выкупают, да и за стол посадят: многие нароком не поспевают…» И царь доволен, тешится, и выкупанные царедворцы довольны, и ни один не простужался, кушая в мокрой одежде, разве что насморк схватит, который послабее… Да что тогда и за насморки были, когда без платка сморкались!.. Таковы были люди, таковы были у них и нервы…
И это-то благодушное царствование благодушнейшего и «тишайшего» государя оказалось самым бурным, роковым для России, государственно и духовно расколовшим ее надвое, на две половинки, которые доселе, через два столетия, не могут спаяться воедино.
Что же это был за клин такой чудовищный, который расколол такое громадное, вековое дерево, как Московское царство, расколол надвое от ветвей и вершины до корня? И где нашелся еще более чудовищный обух, который вогнал этот страшный клин в вековой московский дуб, вогнал так, что расщепил его надвое? Чья, наконец, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обух на московский дуб?
На эти страшные вопросы во вкусе бессмертного Иоанникия Галятовского[42]42
Иоанникий Галятовский (ум. в 1688 г.) – писатель XVII в., ректор Киевско-Могилянской академии, затем архимандрит Черниговского монастыря, издавший свои проповеди в книге «Ключ разумения» (1659).
[Закрыть] можно отвечать только в его вкусе, метафорически.
Великий клин, расколовший Московское царство, был – идея. Идея, в каком бы виде она ни входила в государство, в общество, в семью, всегда входила клином в живое тело и расщепляла его: входила ли она в виде живого слова, проповеди, в виде киши, в виде знания, она всегда и везде одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему-либо равнодушные к господствующим понятиям члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которых господствующие понятия не стали еще делом привычки, чем-то дорогим, своим. Отсюда являлось раздвоение мнений в государстве, в обществе, в семье: отсюда раскол в обширном историческом смысле слова, разделение на «приемлющих и на пеприемлющих», на людей «новых» и на людей «старого порядка». Этою идеею во время Алексея Михайловича была книга, и притом печатная, потому что в Москве завелась первая типография, занесенная из Киева, из того места, откуда заносилось в Древнюю Русь все лучшее – христианство, просвещение, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самые важные, самые необходимые книги. А таковыми были книги богослужебные. Начали печатать их. Но с какого оригинала наборщикам набирать их? Надо было найти лучшие, правильнейшие оригиналы. Собрали их. Стали сверять, оказались незначительные разноречия и в иных описки, которые от древности вошли в привычку, как, например, «Исус» вместо «Иисус». Книги сверили с греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, старые люди отказались принять новые книги… Клин остановился в дереве – ни взад ни вперед…
Тогда является обух и бьет по клину. Клин, повинуясь страшной силе обуха, входит в дерево и расщепляет его надвое. Обух этот – Никон: он проклял не приемлющих новые книги… те ощетинились…
Рука, двигавшая обухом – Никоном, было время: «присие бо час»… Приспе час и Московскому государству дать у себя место печати, книге, новой идее…
Соловецкий монастырь вместе с прочими людьми старого склада не принял новых книг и откололся от Московского государства. Нашлись было и в этом монастыре «новые люди», молодые попы, которые начали было служить по новым книгам; но их «архимандрит» велел «сечь плетьми», и они покаялись после вторичного сеченья.
Вскоре и сам Никон, так сказать, «отложился». Оскорбленный невниманием царя, который не иначе прежде называл его, как «собинным другом», Никон бросил патриарший престол и ушел в монастырь, показывая на стоявшую в то время на небе комету:
– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на жни многи!
Он заперся в своем монастыре и сидел там ровно девять лет. Потом его судили и «обнажили» высокого святительского сана… «Откололся» таким образом и Никон, но не от новых книг…
Затем через год или два после суда над Никоном Стенька Разин «отколол» от Московского государства всю юго-восточную окраину… Так до того ли было Московскому государству, чтоб думать об отложившемся ничтожном островке на Белом море, о Соловецком монастыре… Вот и сидят себе старцы в своей обители и поют по старым книгам…
Разина берут и помещают его буйну голову на кол.
Москву очищают от главных вожаков сопротивления повой идее – новым книгам: протопопа Аввакума и других воротил «отколовшегося» московского общества ссылают в Пустозерск.
Остается один Соловецкий монастырь. Покончив со всеми, принимаются и за него. Шлют туда стряпчего Игнашку Волохова с ратными людьми. Черная братия принимает Игнашку в пушки и прогоняет от своих стен.
Шлют стрелецкого голову Корнилишку Иевлева со стрельцами, и его встречают «галаночками» и гонят, аки волка из овчарни.
Шлют, наконец, воеводу Ивашку Мещеринова с целою флотилиею, с пушками и стенобитными орудиями. И Ивашку принимают в «галаночки».
После неудачного приступа Мещеринов отошел к своим кочам. А монастырь, усилив караулы поблизости стен и подмонастырского хоромного строения и амбаров, вошел снова в обычную жизненную колею. Но через три дня после приступа случилось обстоятельство, которое послужило началом рокового, трагического исхода «соловецкого сиденья».
Старшая начальная монастырская братия, архимандрит Никанор, келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и монастырский законник и грамотей Геронтий сидели в трапезной келье и занимались монастырскими делами. Все они сидели на лавке, а Геронтий у стола, на котором лежали бумаги, книги в кожаных и сермяжных переплетах, свитки и стояла медная большая с узеньким горлышком и ушками пузатая чернильница с воткнутою в нее камышовою для письма «тростию». Утреннее солнце, проникая сквозь узенькие, зеленого стекла, с железными решетинами окна, бросало зеленовато-радужные светлые пятна на бумаги, на серьезные лица братии и на согнувшийся над бумагою широкий затылок Геронтия. У порога стояли два мужика в синих рубахах и усиленно встряхивали волосами, стараясь понять то, что читал нараспев Геронтий.
– «…A который человек по грехом от своих рук утеряетца, или в лесе с дерева убьетца, или колесом и возом сотрет, или озябет, или сгорит, или утонет, или утопленник водою припловет, а то обыщет без хитрости, что которой от своих рук истеряетца и с тех веры за голову не имати», – читал Геронтий и на этом месте поднял свою черную голову.
– Не имати, – повторил отец Никанор в раздумьи, – стало, на вас поголовщина не падает, – глянул он на мужиков.
Мужики потоптались на месте. Из них низенький, с бородавкою на скуле и белыми финскими глазами смело выставил правый локоть вперед и заложил большой палец правой же руки за подпояску, на которой сбоку болтался деревянный гребешок, которым можно было расчесать разве только хвост у лошади.
– Кака, отцы, поголовщина? – сказал он уверенно.
В то время в келью вошел молодой, высокий чернец. Черные говорливые глаза под крутыми бровяными навесами, широкие скулы, редкая черная бородка, маленькие мягкие усы, не прикрывающие мясистых красных губ, и тщательно заплетенная коса изобличали в нем не худородного чернеца, да и одет он был чисто. Войдя в келью, он помолился на образа и, сделав шаг к Никанору, поклонился в землю.
– С чем? – спросил архимандрит.
– С челобитьем, святой отец, – отвечал чернец отрывисто.
– А в чем твое челобитье?
Чернец вынул из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу и с низким поклоном подал архимандриту, который, не развертывая бумаги, глядел на просителя.
– Жалоба мне, святой архимандрит, на купецкую женку, на Неупокоеву.
Архимандрит, видимо, удивился. И другие отцы глядели на просителя с удивлением.
– На-кось, вычти, – сказал Никанор, передавая бумагу Геронтию.
Тот медленно развернул челобитную, разглядел ее и, защищая своею тенью от солнца, стал читать.
– «…Государю архимандриту Никанору еже о Христе с братьею бьет челом нищей государев сиротинка и ваш богомолец, соборной попишко, иеромонашишко Феклиско. Жалоба мне нищему твоему государеву сиротинке на купецку жену Неупокоеву, на Акулину Иванову из Архангельсково города. В нонешнем, государь, во сте восемдесят первыем году, месяца иуния во 2-й день, приходила та Акулина с понахидою и подала мне нищему вашему государеву сиротинке и холопишку поминанье с большим предисловием. И яз нищей ваш поминание у нее взял и стал читать родителей Акулининых. И та Акулина мне нищему вашему стала говорить: прочитай-де и все. И яз нищей ваш стал ей говорить: Акулина Ивановна, много прочитал, не одна ты. И она, государь, Акулина, возгордев богачеством своим, учала меня нищего бранить лодыжником, и долгогривым шпынем и кутьею называть и мучителем обзывать при народе. И яз нищей ваш государев, не хотя от нее позору и терпети, ее легонько взашей вывел вон из церкви, а она сильною мне чинилася, упиралась и кукиш мне якобы с маслом в нос совала. А назавтрее приволокся я по челобитью к богомолке бабе Нениле понахиды служить, и та же меня Акулина нищею вашею собакою называет, и жеребцом, и кобыльею головою, и бранит всячески неудоб сказаемо. Умилосердися, государь, святый архимандрит Никанор, пожалуй на ту Акулину Иванову дочь свой праведный сыск и оборонь, что мне вашему государеву богомольцу и холопишке от ее позорные брани и бесчестие нигде от ней ходу нет, ни в кельях, ни в церкви божии, от ее брани и позору чтоб мне нищему вашему государеву богомольцу впредь как жиги у престолу соборные церкви под твоим государя своего благословеньем и жалованьем. Государь, святый архимандрит Никанор, смилуйся пожалуй».
Отец Геронтий, кончив читать, подозрительно взглянул на челобитчика. Мужички у порога переглядывались, и моргающие глазки низенького мужичонка как бы подмигивали товарищу: «Знаем-де мы его, кочета брудастого, всех наших кемлянок перетоптал». Архимандрит глядел сердито, двигая, как таракан, своими волосатыми бровями.
– Не затейно ли ты, малый, написал? – кинул он на него недоверчивый взгляд.
– Для чего затейно, государь?
– Для чего! По твоей дурости… Она, Неупокоиха, баба статейна и усердна: ежегод вклады дает на монастырь, да и ноне пять бочек беремянных вина ренсково пожаловала на обитель… Я поспрошаю у ней.
– Сыщи, государь.
– А послухи есть? – повторил вопрос архимандрит.
Челобитчик замялся.
– Видоки были? – повторил вопрос архимандрит.
– Она, государь, шпынем, кобыльей ладоницей лаяла.
Мужики переглянулись… «Так-де и бабы-кемлянки зовут его», – говорили глазенки низенького.
– А при свидетелях было? – переспросил городничий.
В дверях показалась косматая голова и скуфья в руках. Мужики торопливо расступились. Юродивый вбежал радостный, восторженный.
– Бегите, отцы, молиться… у нас светлый праздник, – заговорил он возбужденно.
Все смотрели на него недоумевающе и со страхом. Знали, что Спиря даром не станет радоваться.
– Что ты, Спиря? Не мешай нам, мы церковное дело строим, – строго сказал архимандрит.
– Какое дело в праздник! На дворе велик день!
– Какой велик день?
– Все свечи зажжены… все паникадила… до Бога полымя…
– Да что с тобой?
– Я плясать хочу, вот что… Сам Бог глядит на нас, а вы – на! Вокруг дурна возитесь…
Он искоса взглянул на чернеца-челобитчика. Между тем со двора доносился какой-то сметанный гул. Соборный колокол загудел беспорядочно, набатно…
– Сполох, отцы! – тревожно, шепотом заговорил архимандрит, озираясь на всех и вставая.
– Трезвон, великая служба, разлюли малина! – радовался Спиря и прискакивал.
Все поспешили на двор. Там уже был весь монастырь на ногах. По небу ходили клубы дыму.
– Угодья горят! Кругом пожога! – слышались тревожные голоса. – Это они, злодеи!
– Все, все свечечки теплятся к Богу, весело! – твердил юродивый, поспешая вместе со старцами на монастырскую стену.
Действительно, когда старцы вышли на стену, то с ужасом увидели, что весь остров точно утыкан горящими свечами, огненным кольцом было опоясано все пространство на несколько верст от монастыря. Они горели ровно, тихо, потому что и в воздухе стояла тишина, только в иных местах полымя поднималось высоко и широко, как все уставленное свечами паникадило, а в других местах теплились одинокие копеечные свечечки. Это горели монастырские дровяные склады, скирды многолетнего запаса сена, постройки для рыбного и звериного лова, монастырские карбасы, рыболовные и звероловные снасти, все, куда ни глянешь, горело и дымило, восходя к небу клубами дыма. В просветах пламени виднелось темно-синее море. Птицы носились в воздухе, оглашая весь остров криками. К этому примешивался ужасающий рев скотины и ржанье лошадей.
Старцы стояли безмолвно, как бы вдумываясь в глубину страшного явления, совершавшегося на их глазах. У Никанора седые брови окончательно надвинулись на глаза и судорожно вздрагивали. Отец Геронтий, казалось, еще более высох и вытянулся в кнут. В стороне раздавались возгласы негодования: «Злодеи! Богоотступники! Да они хуже татар! Изверги!»
Один Спиря, казалось, ликовал. Он радостно поскакивал и то говорил с своими голубками: «Гулюшки-гули», то бормотал вслух: «Ай да Иванушка дурачок!
Мещеринушка воевода! Умно сделал, почистил нас, а то уж мы больно грязно жили, жирно ели, сладко пили, мало Богу работали… ай да Иванушка! Затеплил нашу сиротску свечечку перед Господом…»
Ждали вторичного приступа стрельцов и приготовились к отражению их; но приступа на этот раз не было, он был впереди.
V. Огненный монах и послание Аввакума
Когда в монастыре убедились, что Мещеринов не намерен брать стены на ворон, добывать монастырь «наглостно», а умыслил измором извести святую обитель, временем и голодом истомить и стал для того вести подкопы под землею, насыпать валы да строить городки, то черная братия опять созвала собор: что делать? на что решиться?
На собор созвана была только черная братия, а из мирян приглашены лишь сотники Исачко Бородин да Самко кемлянин. Собор был в трапезе.
Только что Никанор, перекрестясь на образа и поклонившись черному собору, хотел было говорить, как в трапезу вошел Спиря, а с ним никому не ведомый монах. Он был сух, как отец Геронтий, но только ниже его значительно, с огненного цвета волосами, черными, запавшими, но горевшими фосфорическим блеском глазами и с лицом, изборожденным морщинами. В руках его был железный посох с крестом вместо ручки. За поясом берестяной бурак. Босые ноги, по-видимому, никогда не знали сапог, ни даже лаптей.
Огненный монах вошел, потупя голову, потом поднял глаза к переднему углу, помолился и земно поклонился передовым старцам, а потом в пояс на все четыре стороны.
– Мир обители сей и благословение божие, – произнес пришлец.
– Аминь! – глухо повторил весь собор.
Пришлец опять поклонился.
– Кто еси, человече, и откуду пришествие твое? – спросил архимандрит.
– Что ти во имени моем? Аз еемь птица божья, зверь лесной пред Господом. А пришествие мое от стран полуночных, из страны далекие, из града Пустозерска. Мене послал блаженный протопоп Аввакум.
При имени Аввакума по собору прошел ропот удивления. Слава этого имени разнесена была во все концы Московского государства: он высился в глазах всех, как единый крепкий адамантовый столп среди падающего правоверия.
– С чем прислал тебя отец Аввакум? – спросил Никанор, обрадованный и в то же время видимо смущенный.
– С рукописанием, – отвечал огненный чернец.
– К нам? К соловецкой обители?
– К вам, отцы.
Все ждали, что пришлец сейчас подаст письмо. Но он оглянулся, ища кого-то глазами. Глаза остановились на юродивом, который сидел на полу и улыбался.
– Али печать не сломишь? – спросил он, продолжая улыбаться.
– Не сломлю, брате, крепка.
– Так визгалочку, поди, дать?
– Визгалочку бы.
Спиря полез в свою сумку и вынул оттуда подпилок, по-видимому, заранее приготовленный. Все с недоумением смотрели, что дальше будет. Огненный монах стал раздеваться среди собора: распоясался, снял полукафтанье и очутился в власянице и портах. Власяница была до того жестка, словно бы она была соткана из тонких колючих проволок. Ропот удивления опять, как ветерок, прошел по собору. Огненный чернец снял и власяницу… Собор ахнул! Сухое тело было обтянуто железными обручами, словно разваливающийся бочонок, буквально оковано железом, которое так и въелось в тело и во многих местах проржавело, там, где было до мяса и почти до кости протерто тело… То было странное и страшное время: гонения, воздвигнутые на людей, не признававших новых книг, на людей старого мировоззрения, которых новый исторический клин отколол от «новых людей», выработали изумительные характеры подвижников старой веры, и чем нагнетение на них было острее, тем более обострялся фанатизм преследуемых и, по общему историческому закону, тем более росло их стадо: ничто так не ускоряет рост и не способствует густоте леторослей на дереве, как подрезывание их…
Собор содрогнулся, увидев это худое, искрещенное железными обручами тело. Вокруг пояса обвивалась железная же полоса, шириною в три пальца. Она окончательно въелась в тело, так что краев ее не было даже видно. Полоса спереди замыкалась замком, который висел на двух сходившихся плотно проушинах.
Спиря стал пилить дужку у замка.
– Но нет ли ключа? – с дрожью в голосе спросил Никанор, весь бледный.
– Ключ у Аввакума на кресте, – был ответ.
– О-о-ох! – простонал кто-то в толпе. – Господи!
Подпилок визжал по нервам… но тогда нервов не знали… он визжал прямо по душе, и притом по грешной душе… Все чувствовали эту визготню там, в себе, глубоко, и им чудились муки ада: горящие смолою котлы с плавающими в них людьми; люди, жарящиеся на громадных сковородах, словно осетры; пилы, визжащие по костям и по становым хребтам грешников; крючья, на которых висят подвешенные за ребра люди; клещи, вытаскивающие языки и жилы из рук и ног…
Визжит-визжит-визжит подпилок! Со Спири пот градом катится…
– Сме-ерть моя! – выкрикнул кто-то, и Исачко сотник упал в ноги пришлецу и стал страстно их целовать: это была увлекающаяся, детская натура: как он увлекался белым голубем «в штанцах», так теперь и этим…
– А! Донял! – добродушно улыбнулся Спиря. – Это не пищаль, брат, не гуля в штанцах.
Дужка замка распалась. Замок звякнул о каменный помост. Все вздрогнули.
– А как ты, миленький, к нам попал? – спросил Никанор, все еще бледный.
– Вот дурачок привел, из Анзерского скита, – указал пришлец на Спирю.
– А ты уж и там побывал? – удивился архимандрит.
– Не я, а мои ноги, – отвечал Спиря.
Исачко, поднявшийся с полу, стоял красный, совсем растерянный. Косые, добрые глаза его моргали, как бы собираясь плакать. Огненный чернец глядел на него с любовью и грустью. Черная братия тискалась вперед, чтобы ближе рассмотреть «подвижничка». В трапезе становилось неизобразимо жарко.
Когда Спиря рознял поясной обруч на пришельце, под обручем оказался узкий, уже обруча, кожаный пояс. Спиря вопросительно посмотрел на своего гостя.
– Чик-чик? – спросил он.
– Чик-чик, – ответил тот, улыбаясь.
Сниря бросился к столу и достал из него нож.
– Тут чикать? – спросил он, указывая на живот.
– Тут, – был ответ.
Пояс разрезан и снят. В нем оказалась завернутою длинная, узкая, сложенная вчетверо полоса бумаги. Сниря развернул ее.
– Ишь, как намелил протопоп, – проворчал он, – мачком обсыпал бумажку.
Никанор дрожащею рукою взял от него бумагу. Геронтий подвинулся к нему, протягивая руку.
– Соборне вычесть? – нерешительно спросил Никанор огненного чернеца.
– Соборне, – отвечал тот, надевая на себя опять власяницу и полукафтанье.
– Благословись, отец.
Никанор подал бумагу Геронтию. Геронтий перекрестился, а за ним руки всего черного собора поднялись ко лбам да на плечи. Спиря сел на полу и стал кормить своих голубей.
– «…Всем нашим горемыкам миленьким на Соловках, – начал Геронтий, – протопоп Аввакум, раб и посланник Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, благодать вам, отцы и братия, и чада, и сестры, и дщери, и ссущие младенцы! Послышал я здесь, сидя на чепи в земляной яме, что вы, яко подобает воинам Христовым, ратоборствуете добре супротив проклятых никониан. Честь вам и слава, стрельцы Христосовы! И Никанорушка, свет архимандрит, осквернив руку свою и душу троеперстием, ныне чу кровью омывает пятно то с души своей. Спасибо, свет Никанорушка!»
Куда девалась бледность архимандрита! Он стоял багровый, а из-под седых нависших бровей текли слезы и разбивались в брызги о перламутровые четки.
– «…Хвала тебе, воеводушка и стратиг правоверия! Похвала всем вам, стрельцы божьи в клобуках, и вам, сотнички добрые, и ратные люди, и миряне! Обнимаю вас всех о Христе, длинны су руце мои: всю Русь правоверную обнимаю, яко невесту богоданную».
И Исачко стоял красный как рак.
– Исакушка, слышишь? – прошептал Спиря.
– Нишкни, друг, – отмахнулся тот.
– «…Молю всех вас, страждущих о Христе, кричу к вам из ямы моей, из сени смертней, руце мои простираю к вам из земли, из живой могилы, в ню же ввергоша меня сатанины сыны, молю с воплем и кричанием, откликнитесь, светы мои миленькие: еще ли вы дышите, или уже сожгли вас, что лучину Христову, или передавили, или в студеном море что щенят перетопили? Нет чу? Дай-то Бог. А коли нету, именем божиим заклинаю вас: претерпим зде мало от никониан, претерпим и кнут, и огнь, и костей ломание, претерпим миг един смертный, яко молния краткий, да Бога вечно возвеселим и с ним вместе возрадуемся. Ныне бо в зерцале гадания, тамо же, за гробовой доской, за костром, за виселицей, лицем к лицу Его, Света нашего, узрим. Ныне нам от никониан огнь и дрова, земля и топор, нож и виселица, могила без савана, похороны без ладану; вместо пения “плачу и рыдаю” кричание и рыдание секомых и пытаемых, вопление жен и детей, гугнение урезанных языков; там же ангельские песни и славословие, хвала, и радость, и честь, и вечное ликование в царских венцах. Яра ныне зима, ох яра, студена, но сладок тамо и тепел рай; болезненно терпение, но блаженно восприятие. Того для да не смущается сердце ваше; и я здесь, миленькие мои светы, в землю скачу и ликую, что собачка на цепи: близко венец царский, вот-вот рукою достаю. Так-то, светы. Всяк верный не развешивай ушей, не раздумывайся, гляди с дерзновением в огнь, в воду, в яму глубокую, против ядра и пищали, иди и ликуй и скачи: под венец идешь, на царство. И его-то, нашего батюшку-царя, тишайшего миленького света, нашего “свете тихий”, они, сатанины сына, смутили. Да добро! Его сердце в руце божии: сам Бог ему персты сложит истово и светлы оченьки ему откроет. Любо мне, радостно, светики мои, что вы охаете: “Ох! ох! ох! как спастися? искушение прииде!” Чаю су ох, да ладно так, ладнехонько: а вы, светы, меньше спите, убуждайте друг друга, вас много, кричите Бога, услышит за тридевять земель, увидит за синими морями за окиянами: у него чу очи не наши, всевидящи. А я играю, в земле сидя что сурок зимой, плещу руками, звеню цепями, то гусли мои звончаты, аки райская птичка веселюсь, а меня едят вши, добро! Пускай их! Меньше червям останется. Пускай, реку, диавол-от сосуды своими погоняет от долу грязного сего к горнему жилищу и в вечное блаженство рабов Христовых. Идите же ко Христу, светы мои. Приношу вас и себя в жертву Богу живу и истинну. Богу животворящему мертвые и сожженные в золу. Сам по Нем аз умираю и сам того желаю. Станем же добре, станем твердо. Лще не ныне, умрем же всяко, а из нас, что из зерна горушна, выростут тьмы тем. Помяните первых христиан. Ныне что! Ныне игралище, шутки, широкая Масленица нам: нас жгуг и вешают в одиночку, а тогда, светы, посекали секирами главу по сорока тысяч, топили в озерах по полутретьи до четверты тысяч, жгли без числа, что лес. А что взяли! Из двунадесяти апостол стали тьмы тем верующих. Тако и из нас. Сожгут одного из нас, что из золы-то выйдет! А та зола, светы мои, семя новое: сколько золинок, праху сего от сожженного тела пустят по свету, сколько новых верных выростет из тех малых золинок. Отрубили у кого голову, ино та голова зерном стала, и отродится то зерно из могилы сам-сот, сам-тысяч: ни едина рожь так не родит, ни ячмень, как голова мученика. Это верно, други. Посеки один дуб, ан сто дубков пойдет от корня. Так-ту! Вон меня еще не посекли, а еще росту, старый дуб, а из меня уж вырос во какой молодой дубок. Терентьюшко млад, что к вам сие мое писание принесет, коли Господь сподобит. А был он стрелец московский, караульщик мой, и замкнуты мы с ним здесь в Пустозерске, что собаки на одной цепи, в яме жили да Христос среди нас. А теперь на! Как познал прелесть света и мое тюремное веселие, из тюремщика сынком мне миленьким стал».
– И-и! Хигер су, вор Терешка! – дергал Спиря Исачка за полу, показывая на огненного чернеца.
– А что он? – удивился Исачко.
– Вон приковал себя ко Христу веригами, ну и любо ему со Христом-ту.
– Уж подлинно, ах!
– «…Стойте же, светы, не покоряйтеся, да страха ради никонианска не впадете в напасть, – продолжал Геронтий. – Иуда апостол был, да сребролюбия ради ко диаволу попал, а сам диавол на небе был, да высокоумия ради во ад угодил, Адам в раю жил, да сластолюбия ради огненным мечом изгнан и пять тысящ пятьсот лет горячу сковороду лизал. Помните сие и стойте, светы, держитесь, крепко держитесь за Христовы ноги да за Богородицыны онучки. Они, светы, не выдадут. Аминь».
Голос Геронтия смолк. Сотни грудей, долго не дышавших от внимания, теперь дохнули ветром.
– Аминь! Аминь! – застонала трапеза.
– Будем стоять! Будем держаться за Христовы ноги да за Богородицыны онучки.
– Добре! Добре! Любо! Умрем за крест, за два перста!
– Потерпим за сугубую аллилуйюшку матушку! Посграждем!
Голоса смешались, словно на базаре. Слышалось и «за Богородушку», и «за аллилуйюшку», и «персточки-перстики родимы…».
– А за батюшку «аза»! Ох, за света «аза» постоим! – перебил всех голос юродивого.
Многие смотрели на него вопросительно, не зная, о каком «азе» говорит он.
– Не дадим им «аза»! – повторял юродивый.
– Какого «аза»? – обратились некоторые к архимандриту.
– А в «Верую», – отвечал тот, – в «Верую во единого Бога» – там сказано: «и в Господа нашего Исуса Христа, рожденна, не сотворенна». А никонианцы этот самый «аз»-от и похерили, украли целый «аз»…
– Батюшки! «Аз» украли! Окаянные!
– Так, так, братия, – подтверждал Никанор, – велика зело сила в сем «азе» сокровенна: недаром в букваре говорится: «аз ангел ангельский, архангел архангельский…»
– Ай-ай-ай! И они, злодеи, украли его, батюшку?
– Украли, точно злодеи.
Послание Аввакума внесло такую страстность в это черное сборище, что все готовы были сейчас же идти в огонь, на самые страшные муки. Страдания, и притом самые нечеловеческие, стали для этой нафанатизированной толпы высочайшим идеалом, к которому следовало идти неуклонно, мало того, не идти только, а бежать, рваться со всем безумием мрачного ослепления. На Никанора послание это подействовало как бич на боевого коня и как елей на старые, трущиеся в душе раны. Аввакум, мнения которого он трепетал после публичного отречения от двуперстия, Аввакум, ставший центром и светочем борьбы за старые начала, выразителем силы, ей же имя легион и тьмы тем, этот Аввакум шлет ему привет и хвалу, бросает и на него луч своей мрачной славы. Исачко-сотник, необыкновенно впечатлительное и страстное дитя природы, тоже вспыхнул как порох от послания Аввакума.









































