Текст книги "Москва слезам не верит"
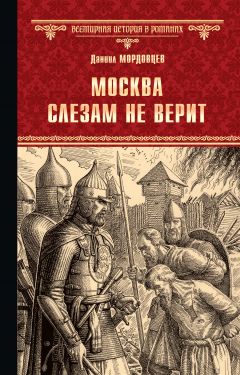
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Ранним утром 21 сентября памятного для России 1771 года императрица Екатерина II Алексеевна с небольшою книжкою в руках, сойдя в сад по внутренней садовой террасе царскосельского дворца, направилась, предшествуемая своей собачкой Муфти, в глубину парка, на богатую зелень которого осень уже налагала свою безжалостную руку. Императрица была одета в серый просторный капот, подпоясанный у талии шелковым сиреневым, с кистями такого же цвета, шнуром, и в высоком утреннем со сборками чепце. Она шла задумчиво, по временам делая движения указательным пальцем опущенной книзу правой руки, как бы мысленно на что-то указывая или отмечая и подчеркивая. Видно было, что эти подчеркивания мысли делались в ее озабоченном мозгу невольно и отражались на спокойном, сосредоточенном лице и в светлых, с двойным каким-то светом глазах.
Тонконогая и тонкомордая собачка, забегая вперед, часто возвращалась к своей госпоже, заглядывала ей в глаза, виляла хвостом, как бы желая сказать, что «ведь и я, матушка, тоже озабочена за тебя, тоже, дескать, вижу, что ты подчеркиваешь что-то в уме, и я вот подчеркиваю хвостом, да только не ведаю, что оно такое»; но, видя, что императрица не обращает на нее внимания, она опять убегала вперед, желая показать свою ревность по службе, обнюхивала каждый кустик, накидывалась на каждого воробья, который осмеливался прыгать по царской дорожке, – и снова с чувством исполненного долга возвращалась к императрице. Но та опять не обращала на нее внимания…
«Что за пропасть! О чем она думает, и понять не могу» – так и светится этот вопрос в умных глазах собачонки, и она опять стремительно летит вперед.
Вдруг в одном густом кусте акаций замяукала кошка, да так резко, что собачка даже припрыгнула от изумления.
Вот сюрприз! Кошка в царском парке! Собачонка и ушам своим не верит.
Кошка опять замяукала… Собачка неистово бросилась на куст и начала лаять, что есть мочи. «Нашла! Нашла врага!» – слышалось в ее усердном лаянье. И собачка счастлива: она обратила на себя внимание императрицы. Мало того, даже часовой, вытянувшийся там где-то в струнку и издали сделавший ружьем на караул, и он добродушно улыбался, поглядывая почтительно то на императрицу, то на собачку, то на предательский куст.
– Не трогай ее, Муфти! – сказала императрица, приближаясь. – Она тебя оцарапает.
Собачонка залаяла еще неистовее, да так и уткнула морду в куст… Но вдруг она завиляла хвостом, запрыгала, да так радостно, что самое императрицу занял этот восторженно виляющий хвост.
– Что, Муфти, кошка там?
Кошка снова замяукала и фыркнула. Собачонка закувыркалась от радости и бросилась к императрице.
– Чему рада, глупая собака?
Собачка восторженно залаяла, желая что-то объяснить, но, не имея другого органа гласности, кроме хвоста и бестолкового языка, она только закувыркалась.
– Верно, знакомая кошка…
Но из куста вдруг показалась голова в напудренном парике и снова замяукала… Часовой невольно фыркнул, сцепив зубы.
– А! Это ты, повеса, – весело сказала императрица. – Вот наделал тревоги Муфти.
Из куста во весь рост встал мужчина в одежде придворного сановника.
– Опять за старое принялся проказник? – продолжала императрица, ласково улыбаясь.
– Как за старое, матушка государыня? – отвечал царедворец, кланяясь.
– За мяуканье…
– Помилуй, матушка государыня, это самое новое, самое новое дело мяуканье, даже, можно сказать, государственное дело, – отвечал вельможа.
– Как государственное, повеса?
– Да как же, матушка, не государственное: ныне коты во времени…
Императрица бросила на него лучи двойного света из своих немножко расширенных зрачков и, улыбаясь, ждала объяснения шутке.
– Да как же, матушка! Вон киевский кот сколько тревоги наделал тамошнему генерал-губернатору Федору Матвеичу Воейкову…
– Да, да, тумульту наделал изрядного.
– Как же-с! А султан турецкой, сказывают, этому Ваське киевскому, за учинение им зла врагу султанову – великой царице Северной Пальмиры, обещал прислать орден шнурка, коли Васька останется цел.
Императрица задумчиво улыбалась.
– Ах, Левушка, Левушка, ты все такой же повеса остался, как тогда, помнишь, еще в молодости…
«Повеса» или «шпынь», как его называл Фонвизин, Лев Александрович Нарышкин, или, вернее, «Левушка», как-то комически махнул рукой, конечно, на молодость.
В это время по аллее показались две фигуры, торопливо шедшие по направлению к императрице. В руках одного из них была папка с бумагами, у другого – небольшая чернильница, утыканная перьями и карандашами.
– А! Кровопийцы идут, мухи государственные, что вам, матушка, и дыхнуть не дадут, все на ухо жужжат, – заметил Левушка, гримасничая.
– Да, Лева, много нам дела, теперь не до мяуканья, – грустно сказала императрица.
Пришедшие были неизменные докладчики наиболее важных дел по внутреннему государственному управлению; генерал-прокурор князь Вяземский и генерал-фельдцейхмейстер граф Григорий Орлов.
Они издали почтительно поклонились императрице и остановились.
– С добрым утром, – ласково сказала государыня, – что же вы не идете?
– Не смеем, ваше величество, приблизиться, – с тоном пасмурного сожаления отвечал Вяземский.
– Почему же так? – несколько дрогнувшим голосом спросила Екатерина.
– Бумаги с нами, государыня, из неблагополучного места, из Москвы, – отвечал Орлов.
– Что же такое? Что там? – еще тревожнее спросила императрица.
– Простите, ваше величество, – нерешительно заговорил Вяземский, – курьеры прискакали из Москвы с эстафетами экстренными…
– Давайте же их мне, – рванулась императрица.
И Вяземский, и Орлов несколько отступили назад. Они казались смущенными. Императрица заметно побледнела…
– Что же, наконец, там? Давайте бумаги!..
– Выслушайте, государыня, и не извольте тревожиться, – по-прежнему, не торопясь, начал Вяземский, – зная ваши матерния попечения о своих подданных, для блага коих вы готовы жертвовать вашим драгоценным здоровьем, мы осмелились не допустить этих эстафет до ваших рук, трепеща за вашу жизнь, и сами вскрыли их, приняв должные предосторожности… По тому же самому мы и не осмеливаемся приблизиться к особе вашего величества…
– Благодарю, благодарю вас, но я желаю знать, что же там, – несколько покойнее сказала Екатерина.
– В Москве неблагополучно, ваше величество… Вот что доносит Еропкин…
Императрица вошла в ближайший павильон, а за нею и докладчики. Князь Вяземский развернул бумагу и погрозил собачке, которая хотела было к нему подойти. Тогда Левушка взял собачку за ошейник и уложил на ближайшую скамейку…
– Куш-куш… не подходи к ним, они бука…
Вяземский откашлялся и начал читать:
«К беспримерному сожалению, ожидание превосходящей бедства и ужаса наполненный случай необходимо обязывает меня, всемилостивейшая государыня, и сверх моего рапорта генерал-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, как своему собственному командиру, все нижайше представить и от себя о том происшествии, которое подвергало столичный вашего императорского величества город наисовершенному бедствию, состоящий в том, что народ, негодуя доднесь на все в пользу их поведенные от вашего императорского величества мне учреждения о карантинах и других осторожностях, озлились как звери, и сего месяца 15 дня сделали настоящий бунт, вбежав в Кремль и разоряя архиерейский дом, искали убить оного. Но как съехал сей бедный агнец скрытно в монастырь Донской, то, выбежав и туда в безмерном пьянстве, злодеи до трехсот, 16-го поутру, убили оного мучительски до смерти»…
Екатерина в ужасе всплеснула руками… «Боже мой!» Она была бледна. Зрачки глаз расширились…
Все молчали…
– Ну, что же еще?.. Прошу… продолжайте… – в голосе ее слышались слезы.
Вяземский продолжал, но так тихо, что едва слышно было:
– «Карантины учрежденные разорили, выпустя из Данилова монастыря и из другого двора, состоящего на серпуховской дороге, разбив дубьем и каменьями стоявшего на карауле офицера, сопротивлявшегося им, как и подлекаря, в одном из тех карантинов находившегося; а другие из злодеев, вбежав в Кремль, пробыли там всю ночь и до половины дня, бив в набат везде, разоряя и дом доктора Меркенса. В злодействе сем находились боярские люди, купцы…»
– И купцы, – задумчиво повторила императрица.
– «…подьячие и фабришники (не останавливался Вяземский), а особливо раскольщики, рассевая плевелы, что они стоят за Богородицу, нашел образ на Варварских воротах, сказывая, что он явленный, которому толпами ходят молиться. Архиерей несчастливый, видя, что от такой молитвы заражаются опасною болезнию, послал своего эконома и секретаря запечатать ящики денежного сбора: и произвело, всемилостивейшая государыня, вышеупомянутое смятение»…
– Что же он сам, Еропкин, делал, я не вижу, – хмуря брови, говорила императрица.
– Он далее доносит о сем, государыня, – успокаивал ее Орлов.
– Ну… вот и счастливый семьдесят первой год! – качала головой Екатерина. – Счастливый!
– Еропкин, государыня, пишет: «Я, видя злоключительное состояние города, послал тотчас ко всем здесь находящимся гвардии офицерам с командами, объявя им высочайший вашего императорского величества указ, чтобы они мне повиновались, отправя в то же самое время нарочного к генерал-фельдмаршалу в подмосковную»…
– Я так и знала, что он с собачками там…
Ее собственная собачка, услыхав о собаках, запрыгала около нее.
– Пошла, Муфти, не до тебя теперь… Плохое дело вверять государство выжившим из ума старикам… Ну, прости, князь, я тебя все перебиваю (это к Вяземскому).
Вяземский поклонился и продолжал:
– «…в подмосковную, который уж и приехал, и Великолуцкий полк ввел в город, дав свою диспозицию обер-полнцеймейстеру, в каких местах занять пост для истребления злодеев, потому что я в эту ночь, в которую выгнаны были мною разоряющие Чудов монастырь возмутители, спеша истреблять оных, от одного из сих дерзостных, брошенных в меня шестом, а от другого камнем в ногу вытерпел удары»…
– Бедный… ну…
– «…и быв двои сутки безвыходно на лошади, объезжая разные места города, совсем ослабел, и не имея чрез все то время ни сна, ни пищи, в крайнее пришел бессилие, получа от того и пароксизм лихорадочный и, наконец, теперь принужден уж слечь в постелю, быв здесь в то время один только с губернатором московским, потому что все другие господа сенаторы разъехались»…
Екатерина покачала головой, но ничего не сказала; а Левушка как бы про себя прибавил: «И я бы удрал наверное»…
– «Соединив к командам гвардии за раскомандированием оставших пятьдесят человек Великолуцкого полка и набрав не больше ста тридцати человек, причем были некоторые и из статских для смотрения, что с корпусом, мною предводительствуемым, случится, пошел где не одна тысяча была пьяных, разорявших архиерейский дом и погреба купеческие, под монастырем Чудовым состоящие, производя такую наглость, что в Кремль и проехать никому было невозможно. И хотя увещевал я изуверствующих, посылая к ним здешнего обер-коменданта, генерал-поручика Грузинского царевича, но они встретили его каменьем, как равномерно и бригадира Мамонова[53]53
Возможно, правильно: Мамонтов.
[Закрыть], который для того же увещания приезжал, чрезвычайно разбили голову и лицо. И так сия дерзость заставила меня, всемилостивейшая государыня, действовать ружьем и сделать несколько выстрелов из пушек и истреблять злодеев мелким ружьем и палашами. В Кремле их пало человек не меньше ста, да взято под караул двести сорок девять человек, из которых несколько находится со стреленными и рублеными руками, и хотя они, от того устрашаясь, разбежались, но и вчерашний день на Варварской улице»…
– А которого числа пишет Еропкин? – спросила императрица.
– Осьмнадцатого, государыня, – отвечал Орлов, до того молчавший.
Екатерина кивнула головой и начала что-то считать по пальцам.
– Я слушаю, – сказала она.
– «…на Варварской улице и против Красной площади несколько шаек народу было, однакож, на бросание каменьев и шестов уже отважиться не смели и только требовали у стоявшего на Спасском мосту подле учрежденного там пикета здешнего губернатора, чтоб отдали им взятых под караул их товарищей, а притом чтобы без билетов хоронить и не вывозить в карантины».
Вяземский остановился, он кончил.
– Чего они так не любят билетов? – спросила императрица.
– Они, матушка, хапанцев не любят, а не билетов, – улыбнулся Левушка.
– Каких хапанцев?
– Хапен зи гевезен…
И Левушка сделал такой жест, как это «хапен» делают, что даже серьезный Вяземский улыбнулся.
– Хапен зи гевезен: барашка в бумажке, – пояснил Левушка.
– Ну, будет дурачиться, не до того теперь…
– Еропкин еще пишет, государыня, – подсказал Орлов, которого, по-видимому, беспокоила какая-то мысль. – Он просит отставки…
– Отставки! Теперь именно! – воскликнула императрица, вставая с места и вопросительно глядя на присутствующих. – Значит, там хуже, чем как пишут…
– Хуже, государыня! – тихо сказал Орлов.
– Что же еще пишут! Докладывайте все разом: не бойтесь, не упаду в обморок… Я уже десять лет царствую… Благодарю Бога, все вынесла на своих плечах… Бог поможет, вынесу и это…
Она ходила, ломая руки, то подходя к докладчикам, которые пятились от нее, то делая круги по павильону… Светлые глаза ее как-то полиняли, «сбежали», как говорится о линючем ситце…
– Девятнадцатого числа, ваше величество, Еропкин доносит, – снова начал Вяземский, – «сколь злоключительны нынешние обстоятельства Москвы, о том вчерашний день по эстафете…»
– Когда же эта пришла? – обратилась императрица к Орлову.
– Через полчаса или менее после той, ваше величество… Этот курьер загнал лошадей…
– А!.. Узнать его имя… Дальше…
– «…я всеподданнейше доносил уже вашему императорскому величеству, а сим то еще всенижайше представить не пропускаю, что хотя дерзость явно произведенная в злодейском убийстве московского архиерея отчасти возмутившегося здешнего города мною и истреблена, и три дня прошло здесь в желанном спокойстве, но слухи, однакож, с разных сторон доходящие до меня, всемилостивейшая государыня, одно мне приносят уведомление, что оставшее от злочестивых совещателей устремление свое во всей силе имеют всю зверскую их жестокость обратить на меня, обнадеживая себя, что они убийством меня и всех докторов скорей получат свободу от осмотров больных, от выводу в карантин, а притом и хоронить будут умерших внутри города, считая, что будто и тому я причиною, смущаясь притом и недозволенней в бани ходить, грозят тем и подполковнику Макалову, у которого карантинные домы состоят в смотрении. Ожесточение предписанных злодеев так было чрезвычайно, что они не только кельи архиерейские, но и его домовую церковь, как иконостас, так и всю утварь совсем разграбили. Вышеобъясненные неудовольствия и угрозы злочестивых людей, как лютых тигров, от безрассудства их на меня пламенеющие за то одно, что я здесь в сенате и во всем городе один рачительным исполнителем всех тех учреждений, о которых вашему императорскому величеству высочайшими своими повелениями о карантинах предписать мне благоугодно было. Но вся жестокость злонравных людей, каковую по совещанию вкоренили они в свои грубые сердца, не имела силы ни умолить моей прилежности к порученному мне от вашего императорского величества делу, ни ужас»…
– Ну, ну, это слова… Я их давно знаю… прочтите мне дело, – нетерпеливо сказала Екатерина.
Вяземский пробежал бумагу глазами.
– Он смущается, государыня, чтобы злодеи в теперешней его расслабленности не навлекли на него участи покойного архиерея, – проговорил Вяземский.
Императрица слегка нахмурила брови и бросила взгляд на Орлова.
– Он просит увольнения на время, – поторопился Орлов, – он говорит, что одно отрешение его от дела в состоянии будет успокоить безумную чернь.
– А! Понимаю… – и глаза ее сверкнули по-прежнему, – значит, мы должны уступить черни…
Все молчали, чего-то тревожно ожидая…
– Да? Так? – обратилась она к Вяземскому. – Уступить нам?
– Ни за что, ваше величество! – с силой сказали оба докладчика.
Императрица улыбнулась как-то странно…
– А я полагаю, что мы должны уступить, – сказала она твердо.
Все переглянулись: никто не находил, что сказать. Нашелся один Нарышкин.
– Тягучее золото, матушка, всегда уступает в грубости и неподатливости мерзкому чугуну, – играя с собачкой, вставил невинную лесть хитрый Левушка.
– Правда, правда, Левушка! – И императрица одобрительно кивнула головой своему «шпыню». – Но кого же мы пошлем на место Еропкина? – спросила она, ни к кому не обращаясь.
Все молчали.
– Меня, матушка, – сошкольничал Нарышкин.
Но Екатерина даже не взглянула на него.
– Я себя пошлю! – сказала она решительно.
Орлов встрепенулся. Вяземский спрятал свои лукавые глаза, которые как бы говорили: «Хитрить изволите, матушка… Вы очень, очень умны; но и мы ведь не мимо носа нюхаем»…
– Государыня! – возвысил голос Орлов. – При подписании первого манифеста о моровой язве вы изволили вспомнить Орловых…
Государыня милостиво взглянула на него, и глаза ее выразили ожидание.
– И я, матушка, желаю иметь свою Чесму, – продолжал Орлов, – мне завидно брату Алексею…
Говоря это, он смотрел в землю, ожидая ответа императрицы, и по мере того, как она медлила ответом, он бледнел. Нарышкин же между тем шалил с Муфти, повязывая ей голову шелковым фуляром, что делало собачонку похожею на старушку.
– Быть по сему! – сказала, наконец, императрица после томительного молчанья. – Но я сама должна говорить с Москвою.
– Манифестец, матушка, я живо настрочу, – снова заговорил Нарышкин.
– Нет, Левушка, ты мастер в комедиях да в сатирах, а манифест мы и без тебя напишем, – сказала императрица.
Она встала и последовала ко дворцу, сопровождаемая докладчиками и Нарышкиным с собачкою.
Войдя в кабинет, она тотчас же приказала Вяземскому сесть за сочинение манифеста.
– Да поискуснее: смотри, батюшка князь, а главное, покороче, для черни, – добавила она. – Дело щекотливое.
Когда Вяземский уселся писать, императрица позвонила. Вошел угрюмый лакей, очень любимый Екатериною за его честность и даже ворчливость.
– Здорово, Захар! Позови Марью Савишну…
Захар поклонился и начал укоризненно качать головой.
– Что, Захар, чем я перед тобой провинилась? – спросила, улыбаясь, императрица.
– Да как же тебе, матушка, не стыдно! Точно у русской царицы слуг нет… Встала нынче ни свет ни заря, когда еще девки дрыхнули, да сама и ну шарить, одеваться, чтоб только не тревожить этих сорок, прости Господи! Да и надела капотишка-то во какой! Ветром подбитый, а на дворе-то холодно… Эх! А тоже русская царица!
– Ну, виновата, Захарушка, никогда не буду…
Захар махнул рукой и угрюмо удалился. За ним вошла средних лет женщина, с полным и, по-видимому, добродушным лицом, лицом совершенно простой русской бабы, но тоже с двойным, гарнитурового цвета блеском в серых глазах.
– Вот что, Марья Савишна, – сказала императрица вошедшей женщине, – вели мне голову сейчас же чесать, да только без пудры… А то вчера просматривала я счеты и нашла, что на мою голову в год выходит пудры 365 пудов: по пуду на день… А я все не догадаюсь, отчего это у меня голова так тяжела, а это от пудры…
Марья Савишна добродушно засмеялась; но этот добрушный смех должен был ножом пройти по сердцу того, кто подал императрице счет о пудре.
– Что же, матушка государыня, твоя головка не простая, оттого и пудры на нее столько идет, – болтал Нарышкин, продолжая играть с собакой. – Вот блаженной памяти царю Петру Алексеичу тоже раз подали счетец… Однажды, просматривая работы на рейде, он изволил промочить себе ножки.
– Уж и ножки, – улыбнулась Екатерина.
– Точно так, матушка, ножки, – продолжал Нарышкин, – и сделался у его величества насморк. Государь тут же приказал подать ему сальную свечу и помазал нос… Ну, с тех пор по счетам адмиралтейств-ревизионцухт-конторы и показывали по пуду свечей в сутки на насморк государя…
– Ну, Левушка, уж это ты сам сочинил, – заметила императрица, поглядывая на Вяземского, который усердно писал, часто потирая себе то лоб, то переносицу, как бы выдавливая изо лба самые энергические выражения.
Наконец, он положил перо.
– Готово? – нетерпеливо спросила императрица.
– Готово, ваше величество, – отвечал Вяземский, делая на бумаге поправки, – не знаю только как изволите найти мое сочинение…
– Послушаем… Ну, начинай, сегодня манифест должен быть напечатан и отправлен.
Вяземский начал:
– «Божиею милостию»…
– Хорошо, хорошо. Текст-то как начинается? – нетерпеливо перебила его императрица.
– «Взирая с матерним прискорбием и негодованием»…
– Будет! Будет! – остановила чтеца Екатерина, вставая с распущенными волосами и подходя к столу, за которым сидели Вяземский и Орлов (последний просматривал папку своих докладов). – Ты не понял меня, князь… Ты прямо с чугуна начинаешь…
Вяземский встал и хладнокровно ждал разъяснения слов государыни: он знал, что она принимала иногда совершенно неожиданные решения, когда забирала себе в голову, и решения эти были умны.
– «Негодование»!.. Да тут о «негодовании» и помину не должно быть! – говорила императрица, тревожно ходя по кабинету. – Ты их, чего доброго, и бунтовщиками назвал…
– Да как же, государыня, ведь они бунтуют? – настаивал Вяземский.
– Мои дети не бунтуют!.. Они могут ошибаться, огорчать меня, но никогда не бунтуют… Еще неизвестно, как дело было, а мы уж и бунтовщикам в манифесте место отводим… Может, еще и Еропкин что по горячности и из усердия напутал, а то и покойный Амвросий, а мы все на народ… Не забудьте, он стоял за Богородицу!..
Императрица говорила горячо, постоянно откидывая назад волосы и засучивая рукава капота… Лицо ее покрылось краской… А Вяземский стоял по-прежнему и прятал глаза, потому что они говорили: «Ох, умна, умна!.. Умно хитрит… У! Умница»…
– Садись, Алексеич, и пиши, я сама продиктую, – сказала, наконец, Екатерина, отдавая свою голову в распоряжение камеристок. – Пиши: «Всем и каждому, кому о том ведать надлежит, наше монаршее благоволение»…
– Благоволение! – не утерпел Вяземский. – Это бунтовщикам-то и злодеям!..
– Ну, добро. Кто не был в царской шкуре…
– В порфире, матушка, – подсказал Нарышкин.
– В шкуре, Левушка, кто не был в ней, тот и не поймет царя… Не строгость побеждает, а милость… Так пиши, знай: «Видя прежалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивых болезней, мы бы сами поспешно туда прибыть за долг звания нашего почли, есть ли бы сей наш поход по теперешним военным обстоятельствам самым делом за собою не повлек знатное расстройство и помешательство в важных делах империи нашей. И тако не могши делить опасности обывателей и сами подняться отсель, заблагорассудили мы туда отправить особу от нас поверенную, с властию такою, чтобы, по усмотрению на месте нужды и надобности, мог делать он все те распоряжения, кои ко спасению жизни и к достаточному прокормлению жителей потребны. К сему избрали мы (императрица ласково, но зорко взглянула на Орлова), по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерала-адъютанта графа Григория Орлова, уполномачивая его поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, и отменять (на этом слове императрица сделала особенное ударение), отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или не вместно, или не полезно, и вновь установлять все то, что он найдет поспешествующим общему благу. В чем во всем повелеваем не только всем и каждому его слушать и ему помогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением, и ему по сему делу присутствовать в сенате московских департаментов; прочие же присутственные и казенные места имеют исполнять по его требованию. Запрещаем же всем и каждому делать какое-либо препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повелено будет; ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, колико смертных сила достает, погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полною властию и без препоны».
Императрица остановилась. Вяземский продолжал держать перо над бумагою. Орлов был бледен и, видимо, думал о чем-то трудном… «Кто же?.. Кто же?.. – иногда невольно и неслышно шептали его губы. – Разве Потемкин»…
– Все! – сказала императрица, вставая.
– Все… и ни слова о бунте, – изумленно бормотал Вяземский, – и еще им же, негодяям, монаршее благоволение… Да такого манифеста сроду не было ни к кому, а тем паче к бунтовщикам…
Один Нарышкин, все время возившийся с собакой, понял Екатерину. Он упал перед нею на колени и целовал подол ее капота.
– Матушка! Матушка! – говорил он с восторгом. – Ты мудрейшая из всех царей земных, ты великая сердцеведица… Так и меня спасли когда-то, как ты спасаешь ныне Москву… Когда мне было лет пятнадцать, я из отроческого молодечества стал пить, и пил по ночам, тайно от отца, которого я трепетал. Сия пагубная страсть чуть не погубила меня совсем: я доходил до тременса… Отцу и донесли о сем холопы… Отец и виду не показал, что знает мою преступную тайну; но за первым же обедом говорит мне: «Лева! Ты уже большой мальчик, чокнемся с тобой… Привыкай к жизни, привыкай и к вину… Пей, как все мы, взрослые…» Признаюсь, я заплакал и бросился батюшке на шею… Никогда я не любил его так, как в сей момент… И поверишь ли, матушка, я стал человеком, каким ты и знаешь меня давно…
– Ты хороший человек, Левушка, – ласково сказала императрица.
– А ты – величайшая женщина и мудрейшая монархиня!
– О! Левушка! Ты всегда меня баловал…
И, погрозив Левушке пальцем, императрица удалилась.









































