Текст книги "Москва слезам не верит"
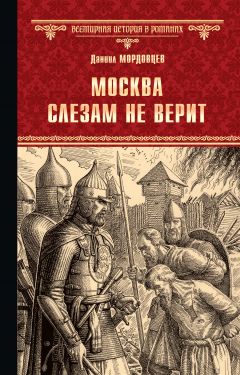
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Так… и это помню… Будем надеяться, что Бог оградит нас… Я так и Вольтеру писала, который опасается за мое спокойствие и безопасность; я говорю, что у меня есть уксус не только «четырех разбойников», но «сорока-сороков разбойников»…
– Это в Москве-то, ваше величество, граф Салтыков? – лукаво спросил Орлов.
– Нет, есть помоложе… Я за Москву не боюсь… Она богомольная старушка, хоть и не опрятная…
А чума между тем уже ходит по Москве, но только никто ее не видит, а если бы увидал, то не поверил бы, что это чума, что тут именно, в этом миловидном существе с черненькими глазками и бровками, напоминающими что-то цыганское, с вздернутым кверху, несколько курносеньким, курносеньким по-детски, носиком, что в этой живенькой, трепетной, как брошенная на стекло горсть ртути, фигурке, источник ужасов, страданий, десятков тысяч смертей, целых рек слез и стенаний, которые, если бы можно было их собрать в один, огромный с гору, эолов мех и выпустить из него на волю, то стенания эти поколебали бы моря, потопили бы корабли и целые флоты…
Чума – эта безобразная смерть десятков тысяч народу, приютилась в Москве, на груди девушки лет семнадцати-восемнадцати, сидит под ее лифом, оправленная в золото и финифть, прикрытая святым ликом Спасителя…
Вон недалеко от церкви Николы, «что словет в Кобыльском», в переулочек выглядывает чистенький домик с зелеными ставнями, уже закрытыми на ночь, а на мезонине в крайнем окошке светится огонек. Войдем туда, нам везде можно входить, как всюду входит и темная ночь с своими тенями и сонными грезами, как всюду приходит и светлый день своими неслышными шагами…
Мы входим в скромную спаленку молодой девушки. Справа у стены белеется небольшая постелька: она еще не смята, не помяты ни подушки в белых наволочках, ни белая простыня, свесившаяся до полу, и только отогнут один край байкового одеяла, вероятно, тою заботливою рукой, которая стлала на ночь эту девическую постель.
У другой стены стоит ломберный стол, покрытый филейною скатертью и прислоненный к нижней раме небольшого зеркала в темной старинной оправе с тонкою медною каймой. Тут же брошены шпильки и гребень, которым незадолго пред этим, как видно, девушка расчесывала свою черную косу, спадающую ровною сетью на смугловатые, круглые плечи и на белую ночную сорочку. У зеркала стоят две свечи, расположенные так, что при помощи другого зеркала отражаясь на поверхности первого, они как бы тянутся бесконечным рядом огоньков в далекую темную глубь, едва-едва освещаемую этими светлыми, отраженными точками.
Девушка сидит неподвижно, положив руки на стол, и пристально вглядывается в глубокую даль зеркала, отражающего бесконечную аллею свечей и какую-то неведомую, таинственную темень.
Девушка гадает… На дворе Святки стоят.
О чем же гадать молодой девушке, как не о своем суженом? А суженый ее далеко-далеко… Вот уж другой год, как он в походе, где-то у Дуная, воюет с турками… Из-под Кагула писал он, что жив и здоров, впредь уповает на Бога, сражался с турками три раза, видел смерть в очи и не получил ни одной царапинки; а в последнюю ночь ходил с казаками добывать языка под Кагулом и добыл. Еще шутит в письме, пишет, что его поцеловала кагульская красавица Мариула, и сказал, что он никогда не забудет ее поцелуя. А в конце письма прибавил – такой милый шутник! – что цыганка эта, Мариула, седая и страшная старуха, которую казаки и зарубили… Ух, как страшно должно быть… А он, суженый, пишет, что целует Ларисины ручки пухленькие с красными ноготочками, каждый пальчик и ладонки Ларисины целует… Так и горят ладони от этих слов! А с тех пор не писал. Да, может быть, потому, что там везде стоят карантины от этой моровой язвы и письма пропускают оттуда с трудом. И последнее письмо было все истыкано чем-то и пахло не то уксусом, не то камфорой…
Что-то с ним теперь? Думает ли он о своей суженой, о своей Лариньке? Или уж спит?
И девушка все пристальнее и пристальнее всматривается в непроглядную даль, выступающую позади зеркала. Даже глазам больно становится… И жутко, и страшно гадать, а все тянет…
А из темени зеркала точно в самом деле выглядывает что-то знакомое, милое, так тускло, тускло, тускло видится, но так явственно говорит сердцу… Это он глядит, суженый, в красивом новом военном камзоле, в своей треугольной шляпе, из-под которой виднеются светлорусые кудрявые волосы, оканчивающиеся небольшою косою, по-тогдашнему, по-военному… Суженый смотрит такими любящими глазами, как тогда, когда… ух! Чуть сердце не выпрыгнуло…
Скоро он сам приедет, и тогда свадьба, можно свадьбу сыграть тотчас после Святок… Вот его товарищи, говорят, уж воротились. Слышно, что приехали Рожнов и Грачев, только захворали, простудились, что ли, в дороге и лежат в военной гошпитали, никуда еще не ходят… А вот няня Пахомовна обещала сегодня вечером сходить к ним и узнать о Саше, скоро ли он приедет…
На улице шумят «святошники», ряженые, ходят до поздней ночи, хохот, песни, им весело…
Как у месяца золотые рога —
Таусень!
И Ларисе скоро будет весело… Скоро придет няня и скажет, что он к Крещению приедет, а до Сретения можно будет и свадьбу сыграть… Жарко становится. Горит лицо, глаза горят ожиданьем и счастьем, теперь счастье берется взаймы, а там отдастся долг… Даже уши горят… А грудь-то, грудь как колотится под сорочкой… подожди, не колотись даром, не на его груди… А сердце-то замирает, Господи!.. Сколько счастья у человека, непочатый край счастья, пока он… не знает…
Девушка прислушивается. Кто-то тихонько поднимается по деревянной лестнице в мезонин, к комнате гадающей невесты. Невеста узнает знакомые шаги старой няни. Это Пахомовна идет, «Пахонина», как ее Лариса называла маленькою… Боже! Пахонина несет радостную весточку! Она видела глаза тех, которые еще недавно смотрели в ясные голубые глаза его, Саши, в глаза суженого… Счастливая няня! Но и гадающая невеста предвкушает такое же счастье, и она сейчас увидит добрые старые глаза Пахонины, которые только что сейчас смотрели в другие глаза, а эти другие глаза смотрели недавно в его глаза, в глаза суженого, которого и конем не объедешь, зачем объезжать! И девушка сейчас-сейчас, вот сию минуту увидит глаза самого суженого, Саши ненаглядного…
Но как она долго копается там на лестнице, старая! Не знает, что ее тут дрожма ждут, всю душеньку расхлебенили, ждут-не дождутся… А она там, старая, шаркает своими старыми ногами, шамкает, охает… За ручку двери берется… Вот она, наконец!..
Но что с ней? Она на ногах не стоит… Пьяная, что ли?
– Ох! Гадает голубушка… об ем…
– Нянюшка! Что ж ты! Была?
– Ох!.. Была.
– Что ж, видела?
– Ох, ластушка моя…
– Да что с тобой?
Девушка вскакивает и подбегает к старухе, отстраняя руками растрепавшиеся косы… На старухе лица нет, глаза заплаканы, подбородок трясется, руки к чему-то судорожно прижимаются на груди…
– Что ты, нянюшка, Бог с тобой! Больна, что ли? Устала?
– Ох, ластушка барышня… и сказать-то не умею… и речей-то у меня никаких нет…
И старуха со слезами припала к похолодевшим рукам своей вскормленницы…
Тут только девушка почувствовала, что ее ожгло что-то, и огнем, и льдом ожгло… Кусок льду к сердцу подкатился… Из-за зеркала вышла темень и упала завесой перед глазами, потемнело и в глазах, а из души искры брызнули, осветили что-то страшное, неведомое, невыговоримое словом…
– Говори!.. Ох, говори!
– Матушка барышня, не вымолвлю… отсохни язык…
– Убили его, в полон взяли?
Говоря это, девушка машинально опустилась на колени, как бы умоляя о пощаде… Старуха дрожащими руками вынула из-за пазухи роковой образок-медальон…
– Вон… прислал голубчик… волоски тут…
Девушка, схватив образок, видимо, не понимала, что же такое делается вокруг… Старуха качалась на месте, словно бы безмолвно причитая по ком… Девушка все поняла…
– Не в полону… не убили… сам прислал… Так умер?
– Преставился…
Девушка ничего больше не сказала. Она, шатаясь, подошла к столу, на котором за минуту перед тем гадала о своем суженом и даже видела его, тихо опустилась на стул, бессмысленно глядя на медальон, и молчала…
– Волоски-то какие, шелковые… целая прядочка, – шептала старуха, по-прежнему качая головой.
Девушка спокойно открыла медальон, спокойно! Тихое спокойствие бывает или перед безумием, или перед смертью… Она знала, как открывать финифтяную крышечку… Открыла… увидала…
– И ленточкой синенькой перевиты волоски, – продолжала терзать старуха.
Да, под финифтью лежала прядь волос, свитая кольцом и перехваченная голубой ленточкой… длинные, белокурые волосы, словно от девичьей косы… А старуха причитала!
– Я всю дорогу целовала их, плачучи… Голубчик мой!.. Как и кстили его, я мамкой была, так и тогда, как поп в купель волоски-то его с вощечком бросил, я вынула их, спрятала… Беленьки, как вот и эти… А твои-то, сердешная моя, волоски черненьки… Я и тебя кормила, от их отошла тогда к вам… три годочка тогда ему было, как тебя-то кстили… Я и твои волоски в ту пору спрятала, вместе лежат у меня. Думала я тогда, глупая, что невесту ему, бедному, вскормлю… Вот и вскормила на горе, на слезы горькия… Обеих-то я вас, горемычная, вскормила, да только счастья-доли у Бога не вымолила…
Девушка, наконец, зарыдала, упав головой на стол…
– Плачь, дитятко, плачь, бедное… Слезы льются – горько, а не льются – горше того… Выкатится слеза, высохнет, а не выкатится, камнем на сердце падет…
И девушка плакала, выкатывала слезы-камни, которые к сердцу приваливали… «О! Зачем я родилась! Зачем не умерла раньше его!»
Из боковой двери, ведущей в соседнюю комнату мезонина, выглянуло испуганное лицо юноши, почти мальчика. Это был брат плачущей девушки, который спал в другой комнате.
– Что случилось, нянюшка? Об чем сестра плачет?
– Ох, горе у нас, батюшка барин… и-и-хи-хи, какое горе!
– Да что же такое? Говори… Лара! Что случилось?
Девушка еще горше заплакала, вздрагивая всем телом и не поднимая головы от стола. Юноша растерялся…
– Да что же, разве в доме что случилось?
– Нет, батюшка… Александр Андреич помер…
– Как? Где? Когда?
– Там, батюшка, на войне… Приехал оттуда Грачевский молодой барин, вести эти горькия привез, да и волоски от его на память мертвые отрезал…
– А чем он умер?
– Да вот этой самой, сказывают, хворобой, что и в Киеве летось люди мерли…
– Моровой язвой? Что ты?
– Моровой, батюшка, моровой, точно… солдатик ихний сказывал…
– И это волосы от мертвого? – с ужасом спросил юноша.
– Точно, батюшка, от покойничка…
Юноша взглянул на стол и, увидав раскрытый медальон с прядью волос, лежавший недалеко от головы девушки, которая судорожно плакала, бросился к сестре, схватил ее за голову и силою поднял от стола…
– Лара! Ларочка!.. И ты трогала эти волосы? – спрашивал он задыхающим голосом.
Девушка упала было ему на грудь своей бедной головой, но юноша с ужасом отскочил от нее…
– Она трогала волосы? Говори, нянька! – отчаянно допрашивал он.
– Нету… нету, батюшка, барышня не трогала их… Я только их целовала всю дороженьку…
– Да ты с ума сошла! Ты нас всех погубишь!
– Чем же, батюшка барин, я вас погублю? – наивно спрашивала старуха.
– Да ты заразилась уж…
– Что ты, барин, пустое говоришь! От мертвых-то волосиков… да и скончался-то он, батюшка, еще летось, за тридевять земель. Отчего тут заразе быть?
Юноша отчаянно махнул рукой и подошел к сестре.
– Ларочка! Няня говорит, что ты не дотрагивалась до этих волос, – и он со страхом указал на медальон… – Ради Бога, заклинаю тебя! Не прикасайся к ним… Дай, я их тотчас же сожгу…
Эти слова заставили опомниться девушку.
Она схватила брата за руку.
– Нет! Нет! Не трогай их… Я хочу с ними в гроб лечь, – плакалась несчастная.
– Да в них зараза, смерть…
– Смерть… о! А зачем мне жизнь?
– Глупости, Ларочка! Да если и хочется тебе умереть, так зачем же нас всех со свету гнать? А ведь от тебя мы заразимся все. Нам Шафонский читал об этой болезни. Это такая проклятая зараза, что она пристает к здоровому не только от больного, когда к нему дотронутся, но от его и платья, и от всех вещей, которые у него были. Оттого после умершего всю одежду сожигают, а золотые и серебряные вещи или моют в растворе таком особом, либо окуривают особым порошком… Дай же, Ларочка, я хоть окурю эту мерзость, у меня есть порошок… А к няньке ты не смей и дотрагиваться… – Потом, обратясь к старухе, юноша сердито сказал: – А ты, старая дура, убирайся сию же минуту из нашего дома… Вон! Чтоб и нога твоя не была тут, пока не пройдет месяц-два, и пока тебя не продержут в опасной больнице… Уходи сейчас же, а то я кочергой вытолкаю и кочергу в огонь брошу… Уходи прочь, прочь!
– Уйду… уйду, батюшка, – обидчиво сказала старуха, утирая слезы. – Вот за всю-то мою службу награда, словно собаку бешеную гонят… Уйду!.. Прощай, барышня голубушка…
Девушка ничего не слыхала… Она, припав головой к столу, тихо плакала. А за окном, на улице выкрикивали женские голоса:
Что у месяца рога…
Та-а-а-авсень… та-а-а-усень.
Москва не предчувствовала еще ничего и веселилась. Не веселились только те, у кого было личное горе.
VI. «Чума по Москве ходит»Спит Москва богатырским сном, не знает, не видит, что в ней творится. Не видят люди, так видят птицы.
Вон на Пречистенке, у церкви священномученика Власия, раным-ранехонько вокруг чего-то, распростертого среди улицы, попрыгивают голодные воробышки, чирикая с холоду и напрасно ища на промерзлой земле какого-нибудь зерна, оброненного человеком… Но скуп человек, не роняет ни одного зерна даром, хоть и тратит миллионы и тьмами тем… Ничего не остается маленькому воробышку…
А это что-то большое, распростертое на земле, лежит, не двигается. Должно быть, пьяный человек, кому же другому придет в голову лежать посреди улицы на мерзлой земле в такую раннюю пору?
Да, человек. Московским воробьям это очень хорошо ведомо. Вон на Масленицу сколько, бывало, пьяных валяется по улицам, и никто их не убирает, потому – широкая Масленица…
И воробьи попрыгивают около пьяного, боясь, однако, близко подойти к нему. А как проснется да схватит? Нет, надо осторожнее к нему подбираться…
Вон и ворона с крыши священномученика Власия зорко глядит на это что-то, распростертое на земле. У вороны зрение лучше воробьиного, должно быть: а и то сказать, ворона птица наметаная, понаметаннее воробья. Она – мастер распознавать пьяного человека от мертвого. Не так лежит это что-то, распростертое на земле, чтобы признать его за пьяницу; не так смотрят в морозное небо открытые, остекленевшие глаза; не живым смотрит это синее с багрово-черными пятнами лицо, безмолвно посылающее к безответному небу свою мертвую укоризну; не шевелятся от дыхания заиндевевшие на усах, на бороде и на открытой голове поседевшие морозною сединою волосы…
Да, не пьяный это человек мертвецки спит, а мертвый спит сном вечным.
Ворона слетает с крыши и садится около этого чего-то, распростертого на земле. Воробьи с испугом отскакивают от этой большой черной птицы, от этого крылатого чудовища. Для маленького воробья и ворона кажется чудовищем, великаном, все на свете относительно…
Ворона осторожно и пытливо попрыгивает около этого чего-то, распростертого на земле. Воробьи тоже робко, один за другим, подскакивают к занимающему их предмету, а там все смелее и смелее, – и вот уже подергивают своими маленькими носиками лежащего на земле человека то за полу кафтана, то за рукава… И ворона становится смелее: она вскакивает на грудь мертвому и заглядывает ему в остекленелые глаза… У! Как любопытно и страшно!.. Для птицы, как и для всякого животного, нет ничего страшнее человеческих глаз – страшны они иногда и для самого человека – ух, как страшны.
И вороне страшно этих глаз – хоть и мертвые они, но все же смотрят… Надо заставить, чтоб они не смотрели, надо их выклевать… Оттого птицы раньше всего выклевывают у мертвецов очи – так и «орлы сизокрыльцы» у казаков прежде всего «очи из лба выдирали»…
И ворона робко пробирается по груди человека к его лицу, к его страшным, обращенным к небу глазам… Вот она уж у самого лица… ноги ее путаются в заиндевевшей бороде…
И ворона разом долбанула в мертвый, замерзший глаз и тотчас же слетела с трупа. Рассыпались и воробьи: страшно, у вороны такие большие крылья. Ворона опять на груди мертвеца. С груди перескакивает на голову, на лоб… Опять долбанула, раз-два-три… долбит усердно, жадно…
Из переулка выбегает собака и, увидав лежащего человека, останавливается в нерешительности. Ворона улетает на крышу, воробьи отскакивают далеко… Собака начинает лаять нерешительным лаем, громче, решительнее, тот не шевелится… Собака начинает обходить пьяного кругами… А если вдруг проснется да камнем или комом мерзлого снегу хватит? Собака трусит…
Из-за утла показывается старуха с корзиной. Старость плохо спит, не спалось ночью и этой старухе. И вот она ни свет ни заря плетется на рынок, хоть на рынке еще и собаки-то редкие проснулись после ночного служебного лаянья на воздух да на луну.
Видит старуха, лежит человек на улице… Пьяный, должно полагать… Кому же другому, как не горькому пьянице?
– О-о-хо-хо! Грехи-то какие! – печалуется старуха. – Для Великого-то поста эдакое-то дело. Владычица Матушка!
Останавливается старуха и укоризненно качает головой… Что качаешь! На свою могилу качаешь… Собака около старухи увивается.
– Да уж не замерз ли пьяненькой-то, матушки мои! – пугается старуха. – Лежит, не шелохнется…
Подходит старуха, всматривается, и собака подбегает, лает смело, решительно…
– Так и есть замерз… Ох, матушки!
Еще бредет старуха. А там старик, бабьим платком повязанный, костыляет… Нету сна жалкой старости, гуляет сон с молодыми, а старость мается, не спит, охает, бродит, свою жизнь молодую вспоминая да в свою могилу заглядывая…
Собирается старость около мертвого. А он лежит без шапки, в распахнутом кафтане, без сапог, в однех шерстяных вязанках… Подходят ближе…
– Да никак это Кузьма Ивлич, спаси Господи! – пугливо говорит первая старуха. – Да он человек непьющий… Матушки! Что с ним сподеялось! Уж не убит ли?
– Убит, поди, ограблен, – отвечают другие.
– Вон и сапоги-то сняты, и шапка скрадена.
Все больше собирается народу. Живые люди увидали мертвого человека и глядят, ахают!.. Каждый день мрут люди, и люди все не могут привыкнуть к этому, все это кажется для них страшною, неожиданною новостью… Да, это старая история и вечно новая… Старая пьеса, не сходящая с подмостков жизни вот уже тысячелетия, и все-таки потрясающая человечество.
– Да это никак, язвенный, братцы! – заявляет кто-то из собравшихся. – У нас на Суконном дворе эдаких уж много померло, сказывают, от моровой язвы…
Толпа при этих неожиданных словах пятится назад от страшного трупа.
– Язвенный, это точно – подтверждает другой суконщик…
Суматоха увеличивается, являются, наконец, и уличные полицейские, которые в Москве всегда тяжелы на подъем, а сто лет назад – и Господи! – это были какие-то ходячие Морфеи, которые на ходу и стоя спали, если не грызли семечек или орехов, безденежно получаемых ими со всякого лотка, со всякой лавочки.
– Стой! Не подходь к мертвому телу! – кричит полицейский, размахивая варежкой.
– Подымать мертвое тело должен лекарь с поручиком, – подтверждает другой в деревянных кеньгах на валенках.
– Так беги живой рукой, оповести начальству, – приказывает варежка…
Кеньги бегут «живой рукой», пряча в карман горсть семечек, которые они не успели сгрызть до открытия мертвого тела. Варежка остается около трупа, важно глядя на народ и с укоризной на мертвого.
– Ишь облопался для Великого-то поста, – ворчит варежка.
– Не облопался… ишь, облопался! – огрызается суконщик. – Он, чу ли, язвенный.
– Что ты врешь, Дурова голова! Где у нас быть язвенным! – защищает чистоту своей Москвы полицейская варежка.
– Где быть! У нас на Суконном дворе… Вон намедни и гошпиталь спалили на Веденских горах, где язвенные померли.
– Так-так, родимый, сама я своими глазыньками видела, – подтверждает старуха с корзинкой. – Подпалили это ее, шпиталь-ту эту, начальники сами, лекаря да солдатушки – ну, и взялось полымем… так свечкою и сгорела… А из полымя-то из самово, мать моя, она, язва-то это моровая, совой-птицей вылетела…
– Что ты, бабушка! – ахала баба в мужниной шапке. – Совой-птицей?
– Совой, касатая девынька… Да эдак крыльями-то мах, мах, мах… Да так с дымом и улетела на Воробьевы горы.
– Ох, страхи каки!
– Уж таки-то страхи, касатая, таки страхи!.. А у совы-то глазищи, у этой язвы-то самой, yж каки! Во!
– Так как же, бабунька, сова, значит, опять в Москву прилетела с Воробьевых гор? – любопытствует баба в мужниной шапке.
– А поди и прилетела, проклятая…
– Ах, батюшки! Светы мои!
– Да ты что, девынька, в шапке-то? – в свою очередь, любопытствует старуха.
– Да мой-то загулял, бабунька, боюсь, пропьет… Я и взодела на себя.
В толпе говор необычайный. Слышатся то «горячка», то «перевалка»; но чаще и чаще звучит «моровая язва». Слышны голоса, отрицающие язву, слышны голоса и за язву.
– Аще же разсыпася язва по ризе, или по прядене, или по кроках, да сожжет ризу, – ораторствует знакомый голос «гулящего попика», – и да отлучит жрец язву на седмь дней, глаголет Господь.
– А ты толкуй, мухов окорок! – слышится рев детины из Голичного ряда.
– Да толкуй! Вон намедни, на Святках еще, померла у святого Миколы Чудотворца, что словет в Кобыльском, нянюшка господ Атюшевых, лекаря Атюшева дочки Ларисы бывая кормилка, я и хоронил ее с отпуском… А помре оная раба Божия тако: привезли из полку, из турецкой земли ладонку после скончавшегося тамо моровою язвою сержанта Перекурова, привезли оную ладонку Атюшевой Ларисе, с коею был помолвлен оный, скончавшийся моровою язвою сержант Перекуров. А в ладонке той были волосы от того Перекурова… И те власы та нянюшка господ Атюшевых, рекомая Пахомовна, по простоте своей и неведению лобызала, понеже тот Перекуров, что от язвы в турецкой земле скончался, тако же, как и Лариса Атюшева, был вскормлен оною приснопоминаемою рабою Божиею Пахомовною. А та Пахомовна, как занемогла, лежала у сторожа церкви Миколы Чудотворца в Кобыльском и от оного, по родству с неким суконщиком, была привезена им на Суконный двор, где язвою той и скончалася… И отсюда она, язва, по Москве пошла: первым делом скончалася вся семья церковного сторожа святого Миколы Чудотворца в Кобыльском, я и напутствовал их, а за ними язва пошла и по Суконному двору, а с Суконного двора и на Москву перешла…
Разглагольствования «гулящего попика» были прерваны приездом лекаря и полицейского поручика. Завидя сани с начальством, толпа расступилась. Из саней первым выскочил небольшой кругленький человек в ергаке и в меховой шапке с ушами. Это был лекарь. За ним вывалился полицейский поручик. Приезжие подошли к трупу…
– Те-те-те! Старая знакомая… молдаваночка… Она, она, узнаю голубушку. Ишь, шельма, куда затесалася. Мы от нее, а она за нами, – говорил лекарь, разводя руками. – Это, батенька, она, сучья дочь, незваная гостья к вам пожаловала; рады не рады, принимайте, – обратился он к полицейскому поручику.
– Не может быть, господин доктор! – испуганно не соглашался тот. – У нас все, кажись, чисто… Да и карантины охраняют Москву…
– Так-то они, батенька государь мой, охраняют… Да за нею, шельмою, и не углядишь… Вон в Киеве некий Васька-кот, большой ферлакур и петиметр, махался, государь мой, с некоею прекрасною кошечкой… Василий-то Васильевич, государь мой, жил на Горах, его прекрасная метресса на Подоле. А на Подоле-то, государь мой, была моровая язва, а на Горах-то ее не было, через рогатки не пущали… Так Васенька-то, махаючись с своею Метрессою по крышам да по чердакам чумных домов, где развешивалось язвенное белье, и занес заразу на Горы… Как донесли, государь мой, о сем ее императорскому величеству, так они изволили и ручками развести…
Толпа понадвинулась. Веселый лекарь ее поободрил. Но лекарь обратился к толпе:
– А вы, голубчики, подальше от этого покойничка… Он из таких, что вскочит и погонится за вами.
Толпа шарахнулась назад. Бабы заахали.
– А вы, батенька, – обратился лекарь снова к полицейскому, – прикажите бережно, у! наибережнее, сего новопреставленного раба Божия, имя рек, баграми стащить на съезжий двор пока, да произвести дознание, что и как… да ни-ни-ни! Волоса его не троньте, подальше от него… А там мы распорядимся. Я же повинен, государь мой, неупустительно доложить о сем как его сиятельству господину московскому главному начальнику генерал-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, так и матушке государственной медицинской коллегии – конторе самолично… А вам, батенька, советую непомедлительно заехать в первую аптеку да спросить там некоего иру, такой корешок есть, иром называется, ирный корень, да и держать его всегда во рту, когда вам придется возиться с сумнительными больными, да и полицейским служителям, кои около сего почтенного мужа (он указал на распростертый на земле труп) обхождение по службе иметь будут, дайте в зубы, государь мой, по ирному корешку и посоветуйте им заменить подсолнуховые семена, до коих ваши полицейские чины большие охотники, ирным корешком… Корешок преполезный, вкуса и запаха преотменного… А засим, государь мой, счастливо оставаться и с прекрасною молдаваночкою не встречаться…
И взяв первого попавшегося извозчика, веселый доктор велел везти себя прямо к московскому главному начальнику, к графу Салтыкову. В веселом докторе читатель, вероятно, узнал того милого человека на вате, который пользовал на привале у Прута нашего чумного сержанта Сашу и уверил, что смерть на чистенькой подушечке в лазарете, а не на перевязочном пункте, малина, а не смерть. Это был штаб-лекарь Крестьян Крестьянович Граве[51]51
Христиан Христианович.
[Закрыть], русский немец, совсем обрусевший милый человек, вечно бодрый и неутомимый, всегда веселый, несказанно любимый солдатами и офицерами, но сам не любивший только перевязочных пунктов и «главного мясника», как он называл полкового хирурга, за то, что хирург отнимал у его любимых солдатиков «ручки и ножки», и все равно потом зарывал их в землю, только «калеками»… Это заставило его выйти в отставку и расстаться со своими милыми солдатиками, которые за доброту, ласковость и геройское самопожертвование любимого лекарька своего переименовали его из Крестьяна Крестьяновича в «Христос Христосыча»… На его руках солдат всегда умирал с улыбкою на устах, с облегченным сердцем, с верою в людскую доброту…
– Ишь веселый какой барин! – галдела толпа вслед удалявшемуся доктору.
– А добер, кажись, пра, добер…
– Кот, слышь, в Киев язву занес… От кота этого, бестии, мор и по свету пошел. Эко, Господи…
Салтыков, крупная историческая личность, доживал свой век на почете, в звании главнокомандующего Москвы. А когда-то, очень-очень давно, он был действительным главнокомандующим – командовал войсками в кровопролитных битвах с Фридрихом Великим и побеждал страшного Фрица… Но это было так давно, так далеко, что и самому Салтыкову стало уже казаться, что этого не было вовсе, что это о нем так только рассказывают льстецы и искатели. Да и было ли оно в самом деле, это золотое, за тридевять земель улетевшее время? Не был ли это сон, мечтание сладкое? Была ли когда-нибудь эта молодость дивная, которая только во сне теперь пригрезиться может? Было ли, полно, это голубое небо, каким оно представляется в сониях старческих? И если было все это, то зачем прошло, падучею звездою по небу прокатилося? Зачем от всего, от славы и молодости, остались только подагра, да почечуй, да глухота, да слепота? Куда девались армии, которыми он когда-то командовал? Перемерли, перебиты, превратились в инвалидов, гниют по кладбищам, да по гошпиталям, кто без руки, кто без ноги, кто без головы… А когда-то, кажись, и головы были… И самому ему, славному победителю непобедимого Фридриха, кажется иногда, что и у него головы уж нет, прошла, пропала, осталась там где-то на полях славных битв… То была голова в лаврах… Ох, молодость, молодость! Куда все это девалось? Куда все это закатилось?..
Так думается иногда старому графу в долгие бессонные ночи… И куда сон девался? На полях битв, что ли, остался он, с запахом ли пересохших лавров отлетел, испарился? Проклятое время!..
А теперь граф занят делами по управлению первопрестольным градом Москвою. Его сиятельство елико возможно бодрится, принимая с докладом господина бригадира и московского обер-полицмейстера Николая Ивановича Бахметева, который, вытянувшись в струнку, рапортует, что на Москве все обстоит благополучно: на Пречистенке двух армян зарезали, на Стретенке купца убили, в Голичном ряду семнадцать лавок подломали, у Андронья пьяный пономарь колокол разбил, у Николы в Кобыльском икона плакала, у генерала Федора Иваныча Мамонтова борзая сука тремя щенками ощенилась и все с глазами. Его сиятельство, благосклонно улыбаясь и, посыпая мимо носа белый пикейный жилет табаком из массивной жалованной табакерки, ласково выслушивает донесение господина обер-полицмейстера, при каждом сведении кивает головой в знак одобрения и только при последнем известии оживляется.
– Как, государь мой, и все с глазами!
– С глазами, ваше сиятельство!
– Так съезди тотчас к Федору Ивановичу, попроси для меня одного.
– Слушаю-с, ваше сиятельство.
– Да, смотри, не простуди его, под камзолом укрой…
Обер-полицмейстер кланяется… Тут же в кабинете около графа возится несколько собак, которые со всех сторон обнюхивают господина обер-полицмейстера, а обер-полицмейстер им дружески улыбается. У камина перед развалившейся на ковре ожиревшей сукой почтительно стоит лакей в графской ливрее и предлагает суке на серебряном подносе сухари в сливках. Сука лениво отворачивается.
– Так вы, государь мой, утверждаетесь на том, что у меня на Москве моровой язвы не будет? – обращается граф к почтенному, в богатом камзоле гостю с красным лицом и жирным подбородком, сидящему поодаль и следящему глазами за ухаживаниями лакея перед капризной сукой.
– Утверждаюсь, ваше сиятельство, – уверенно отвечает господин с жирным подбородком.
– А я уж было за собачек моих испугался, – говорит граф, посыпая себя табаком… – Да и по сей час, государь мой, я не покоен за них… Вот у бедной Флоры совсем аппетит пропал, ничего не кушает, боюсь, не занемогла бы… – Граф указывает глазами на капризную суку… – А все эти холопы не берегут их…
– Да помилуйте, ваше сиятельство, Флора нынче изволили на поварне двух рябчиков скушать, – защищается лакей. – Оне не голодны.
– То-то, не голодны! Коли что случится, запорю, в Сибирь сошлю, в кандалах сгною… Так не бояться мне за моих собачек, господин доктор? – Это к господину с жирным подбородком.
– Не извольте опасаться, ваше сиятельство.









































