Текст книги "Москва слезам не верит"
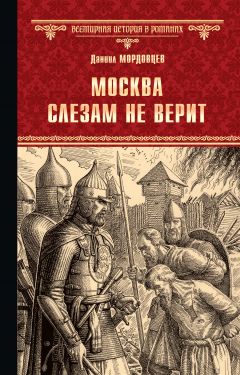
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
– Моровой язвы нету?
– Заверительно могу свидетельствовать пред вашим сиятельством, что таковой нет.
Граф жует губами, посыпает табаком жилет и что-то припоминает.
– Вспомнил… А в гошпитале, государь мой, что на Веденских горах, где вместе с язвенными был заперт доктор Шафонский?
– Там, ваше сиятельство, болезнь прекратилась, и гошпиталь сожжена.
– Как сожжена, государь мой? Кем? Кто поджигатель?
– Гошпиталь сожжена по приказанию вашего сиятельства.
Граф в состоянии столбняка… Табак сыплется на пол… Руки дрожат…
– Как? Кто смел?
– Гошпиталь сожжена по высочайшему повелению, ваше сиятельство.
– По высочайшему повелению?.. A-а! Забыл, забыл, государь мой… стар становлюсь… Так сгорела?
– Сгорела, ваше сиятельство.
– А поджигателя поймали?
Все молчат… Тяжко видеть развалину… А Флорка все капризничает, лакей в отчаянии.
– Так моим собачкам безопасно можно бегать по городу, господин доктор?
– Безопасно, ваше сиятельство.
– Благодарю… А поджигатель гошпиталя чтоб был пойман, – это к обер-полицмейстеру.
Обер-полицмейстер низко кланяется, чтобы скрыть предательские глаза.
– Бедная, бедная Флора… аппетит совсем потеряла…
– Обожралась, – ворчит лакей себе под нос.
– Так моей Москве не грозит опасность, господин доктор?
– Ни с которой стороны, ваше сиятельство.
– Благодарю, благодарю… А то я все за своих собачек боялся… Вон пишут, якобы в Киеве кот перенес заразу в незараженные кварталы, так я и боялся, что и мои собачки могут заразиться от городских собак.
– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, – успокаивает доктор, – на сей счет будут приняты надлежащие меры…
– Так, так, я уверен…
– Извольте сами согласиться, ваше сиятельство, что если мы допустим заразу в Москву и сие несчастие сведано будет в других местах государства, то из того великий ущерб торговле и всему казенному интересу произойти может, и вы, ваше сиятельство, сего не допустите.
– Не допущу… не допущу! Я стою на страже.
– Так, ваше сиятельство, и именитое московское купечество думает: «Нас, говорят, батюшка граф не захочет разорить этими карантинами да заставами, он добрый»…
– Но я строг… очень строг… Чтоб поджигатель был пойман!..
Обер-полицмейстер кланяется еще ниже. Доктор что-то юлит.
– Да притом, ваше сиятельство, если застой в торговле произойдет, то сие их императорскому величеству государыне императрице огорчение причинить может.
– О да, да, любезный доктор! Я этого-то и боюсь, огорчить всемилостивейшую государыню… Чтоб у меня в Москве заразы не было, – неожиданно грозно, но как-то хрипло, сиповато кричит одряхлевший герой к обер-полицмейстеру, стараясь выпрямиться и путаясь в полах своего шелкового халата. – Чтоб ни одна собака в Москве не захворала…
– Слушаю-с, ваше сиятельство.
– И поджигателя гошпиталя изловить!
– Слушаю-с…
– То-то… А щенка-то от Мамонова привезти мне…
В эту минуту графу докладывают, что штаб-лекарь Граве испрашивает у его сиятельства аудиенцию по самонужнейшему государственному делу. Доктора с жирным подбородком при этом известии сильно передергивает.
– Просить… просить… – шамкает граф. – Ох, не легко управлять Москвой…
Веселый доктор шариком вкатывается в кабинет графа и останавливается в изумлении. Собаки стаей обступают его и, радостно виляя хвостами, бросаются к ошеломленному добряку. Даже капризная Флора встает и милостиво виляет хвостом…
– Хе-хе-хе! Сейчас видно доброго человека, – радостно шамкает граф. – Сразу собачки мои почуяли честного человека… Очень рад… Что прикажете, государь мой?
– Я уже имел честь представляться вашему сиятельству… Штаб-лекарь Граве, из армии…
– Забыл… забыл, государь мой… Дела много у меня… Что прикажете?
– Сейчас, ваше сиятельство, на улице, у церкви священномученика Власия найдено мертвое тело с явными знаками моровой язвы, и я счел священным долгом немедленно довести о том до сведения вашего сиятельства на предмет принятия неотлагательных энергических мер.
Граф поражен. Он вопрошающе смотрит то на обер-полицмейстера, то на доктора с жирным подбородком, то на веселого доктора…
– Что вы! На улице?
– Так точно, ваше сиятельство.
Граф совсем теряет голову и только разводит руками. Доктор с жирным подбородком смотрит на веселого доктора и недоверчиво и не совсем дружелюбно.
Потом граф как бы опомнился. Голова его затряслась.
– Как же вы докладываете мне, государь мой, что все обстоит благополучно! А это что?
Обер-полицмейстер молчит. Доктор с жирным подбородком беспокойно переминается с ноги на ногу.
– Сейчас же запереть всех моих собак! Принять неупустительно меры… А! В городе… на улице… у меня, можно сказать, под носом, и я не знаю…
Граф топчется на месте. Собаки окружают его, не дают двигаться. Флора милостиво подходит к лакею и протягивает морду, чтобы взять сухарь… Она кушает…
– Вот, вот… очень рад, очень рад… к ней аппетит возвращается, – радуется граф. – Ну так что же, государь мой? – обращается он с веселым лицом к веселому доктору.
– Чума по Москве ходит, ваше сиятельство.
– Очень рад, очень рад… к ней аппетит возвращается…
Лакей фыркает. Обер-полицмейстер прячет глаза… Веселый доктор делает безнадежный жест…
– Ты что? – спрашивает граф лакея.
– Флора, ваше сиятельство, изволили разом два куска сглотнуть.
– Очень рад… очень рад… Так принять меры и донести мне… Отпускаю вас, государи мои… Я устал…
Старик действительно устал… жить… Все откланиваются… Победитель Фридриха Великого опускается в кресло… Усталая голова свешивается на грудь, нижняя губа падает…
А когда-то голова эта бодро держалась на воловьей шее. Когда-то вокруг этой шеи обвивались прелестные ручки, от которых осталась горсть, щепоть могильной пыли, щепоть небольше графской понюшки!
Что-то грезится этой поникшей голове? Что шепчут эти жидкие, отпадающие губы? Вспоминается ли чудная, невозвратная молодость, пора любви, деятельности, славы? Проходят ли перед усталыми глазами тени товарищей битв, молодых друзей, милые образы дорогих сердцу, которые давно отошли куда-то и не возвращаются? Не тоскует ли усталый дух о том, что эти ноги не ходят, эти глаза не видят, это сердце не греет холодеющего тела?.. Нет! Улыбающиеся губы шепчут: «Очень, очень рад… У Флоры опять аппетит есть».
О безжалостное время! О проклятая старость.
VII. Еропкин и АмвросийДо сих пор Москва все еще не подозревала, что чума гнездится в ее стенах, что страшные гнезда эти, в форме невидимых, неосязаемых, даже необоняемых атомистических миазмов сна разбросала во все концы города, пересылая их из дома в дом, из квартала в квартал, из церкви в церковь, от одной площади до другой, то на немытой рубахе фабричного, то на грязном, истоптанном лапте чернорабочего, то на чапане больничного сторожа, то на лопате гробокопателя, копавшего яму для язвенного, то на церковном покрове, прикасавшемся к савану покойника, то на животворящем кресте Господнем, к которому прикасались коснеющие губы напуствуемого… Невидимая рука смерти через водосточные трубы и водороины пускала эти губительные гнезда заразы на воду, и зараза через питье входила в живые организмы и в жизнь вносила смерть. Дружеское пожатие, руки, горячие объятия, поцелуй, прощание с дорогим покойником – все передавало заразу от человека к человеку, от семьи к семье…
Наступала весна, из земли выползала зеленая травка, и травка уже была заражена, в каждом ее нежном стебле сидела ужасающая смерть, потому что на травку эту брызнула капля, одна-единственная капля воды из сосуда, к которому прикасались губы язвенного.
Солнце начинало греть и оживлять землю, природа просыпалась; но каждый луч солнца нес с собою заразу, потому что под живительной теплотой его оживала страшная миазма, придавленная было морозом, и цеплялась за все живое и неодушевленное, что только нечаянно прикасалось к ней – к невидимой, неосязаемой, необоняемой…
«Язва рассыпалася», как гласила книга Левит, рассыпалася по «ризам», по «прядениям», по «крокам», по всей земле, по людям, по всей природе. Это была та страшная язва, которую ветхозаветный Бог, в гневе своем, насылал когда-то на Египет за угнетение народа Божия…
А Москва все еще не могла уразуметь этого…
– Бог наслал на нас язву за грехи, наши, – задумчиво говорил Амвросий собеседнику своему, красивому, в военном камзоле, мужчине, сидевшему в кабинете архиепископа, в покоях Чудова монастыря.
– Так, ваше преосвященство, – отвечал собеседник Амвросия, нетерпеливо постукивая пальцами по своей расшитой золотом треуголке, – но извините, владыко, ссылаться на «грехи наши» – это, как говаривал мой наставник в риторике, общее место… Нам нужно дело, а не общее место.
– Я и докладываю вашему превосходительству дело, а не общее место, – строго сказал архиепископ.
– В вашем сане, конечно, оно так…
– Не в сане архиепископа, государь мой, а в сане человека я докладываю вам.
– Перед вами, владыко, не просто человек, а лицо, не по заслугам снисканное высочайшим доверием всемилостивейшей государыни моей на трудное дело прекращения сей язвы.
– Я и докладываю вашему превосходительству, как представителю высочайшей персоны и воли ее императорского величества, – настаивал Амвросий, нетерпеливо звякая четками.
Собеседник его не отвечал, но этот ответ можно было прочитать на его открытом лице: «Поп везде попом останется»…
– Вот вы теперь меры изыскиваете, как бы помочь горю, – продолжал Амвросий, – хорошие меры – дело хорошее. Но не в мерах спасение наше, государь мой, а в сердечном покаянии о грехах наших…
Собеседник даже пожал плечами от нетерпения… «Вот попина наладил!.. Тут надо биться, чтоб проклятая язва из Москвы не вышла да до Петербурга не добралась, а он о грехах долбит»…
– Ваши меры уподобятся врачеваниям болеющего, – продолжал архиепископ, – и то хорошо, врачуйте недугующего брата… Болит ли кто в вас, ну, и прочая, и прочая… Кто недужен горячкою, врачуй от горячки, у кого рука поражена гангреною, урежь руку. Врачуйте, государь мой, урезывайте, урежьте всю Москву, яко пораженный член России. Но это не все, надо покаяться… Припомните, государь мой, Египет, Индию. Из каких гнездилищ сей благословенной страны во все века исходила на мир Божий язва? Из гнездилищ, в коих жили парии…
Собеседник Амвросия выпрямился. Речь архиепископа, видимо, производила на него действие. На лице его уже не было написано: «Поп – везде поп, все о грехах долбит»…
– Где, государь мой, в наши времена зарождается моровая язва? В Персии и Турции. А отчего? Полагаю, от бедности, oт грязи, от невежества. Вот что лечить надо.
Собеседник Амвросия встал и беспокойно заходил по комнате. В живых глазах его блеснула энергия.
– Вы правы, ваше преосвященство, – сказал он, останавливаясь перед Амвросием, – много, много надо сделать. Мы точно грешны.
Амвросий улыбнулся. Лицо его приняло ласковое выражение.
– Виноват, ваше преосвященство, – продолжал Еропкин, – теперь я совершенно вас понимаю… Так вы полагаете не менее десяти кладбищ отвести за городом?
– Не менее: город велик.
– И никого при городских церквах не погребать?
– Ни-ни… ни единого покойника.
– А благородных и чиновных людей? У нас, ваше преосвященство, знаете, обычай древний…
– Не все то хорошо, ваше превосходительство, что древне: и грех имеет свое родословное древо, и бедность славится своею древностью, токмо…
– Согласен, согласен… Так и чиновных?
– Ну, для чиновных покойников можно будет отвести кладбища при загородных монастырях…
– Да, это хорошо, и почет…
– В Донском можно хоронить, в Новодевичьем, в Спасо-андрониевом.
– Преотменно. Так мы посему и распорядимся.
Это говорил Еропкин. Когда, после отыскания на улице близ церкви священномученика Власия мертвого тела с явными признаками моровой язвы, веселый доктор, в присутствии доктора с жирным подбородком, который был не кто иной, как московский штаб-физик и медицинской конторы член, доктор Риднер, главный медицинский туз в Москве, по невежеству ли или по каким-либо политическим и экономическим соображениям отрицавший существование в Москве настоящей моровой язвы или индийской чумы, – когда веселый доктор напугал графа Салтыкова положительным заверением, что «чума по Москве ходит» уже на собственных ногах и хватает людей за плечи и за икры, как бешеная собака, и когда Салтыков донес о том императрице, Екатерина, зная дряхлость графа и неспособность управиться с такою страшною гостьею, как чума, сказала докладывавшему ей о том князю Вяземскому:
– Нет, это не Фридрих Великий и не графу Салтыкову с нею бороться… Если мой милый старичок мог победить Фридриха там, то тут его «Фридрих» победит. Я пошлю в Москву Еропкина, он умен, расторопен и находчив. А чтоб не обижать старичка графа и не отвлекать от собачек, я командирую к нему Еропкина яко бы «под главное надзирание его сиятельства».
И именным указом 25 марта генерал-поручик и сенатор Петр Дмитриевич Еропкин был назначен полным хозяином Москвы, хотя в указе и сказано было, что государыня «все предосторожности и попечения о хранении от опасной болезни столичного ее города Москвы гораздо усугубить и все оное распоряжение и сохранение помянутому господину генерал-поручику, по известной ее императорскому величеству его усердности, под главным надзиранием господина генерал-фельдмаршала графа Салтыкова, высочайше препоручить соизволила».
В то время, когда Еропкин, вскоре после принятия в свое ведение Москвы, приехал в Чудов монастырь к Амвросию, чтобы посоветоваться насчет перевода кладбища за город, и когда они толковали об этом и немножко даже поспорили, Амвросий нечаянно выглянул в окно и увидал против своих келий огромную толпу народа. Толпа переминалась на месте, толкаясь и об чем-то горячо споря. Иные лица прямо обращены были к окнам архиепископских келий… Ясно, народ ждет кого-то, ищет…
– Что бы сие означало, не понимаю, – сказал Амвросий несколько встревоженно.
– А что там? – спросил Еропкин, подходя к окну.
– Народ собрался… чего бы им нужно было?
– А не о кладбищах ли прослушали? Так просить, может, думают…
Амвросий позвонил. На колокольчик явился служка, молодой с добродушным лицом, малый, со толстою черною косою, выползавшею на широкую спину из-под черной скуфейки, малый, скорее смахивавший на запорожца, чем на монастырского служку.
– Что за люди там под окнами? – спросил архиерей.
– А громада собралась, ваше преосвященство, – добродушно ответил запорожец в рясе.
– Какая громада, дурный?
– Та от до их.
И запорожец в рясе лениво ткнул широкою ладонью по направлению к Еропкину. И Еропкин, и архиерей улыбнулись.
– Чего же им от меня нужно, хлопче? – весело спросил Еропкин.
– Та просить, мабуть, де-шо…
Толпа, однако, прибывала, а единственный полицейский, стоя у ограды, преусердно чесал себе спину по-свиному, терся спиной об ограду.
Еропкин, наскоро простившись с архиепископом и сказав, что он наведается к нему по делам, вышел к толпе. За ним вышел и архиерейский служка.
При виде генерала толпа обнажила головы. Заколыхался целый лес волос всевозможных мастей, но с сильным преобладанием русоватости и нечесанности.
– Чего вам нужно, ребята? – по-солдатски спросил Еропкин.
– Мы к вашей милости, – загалдели и замотались головы, кланяясь и встряхиваясь, как в церкви перед иконой.
– В чем ваша просьба?
– Будь отцом! Заступись! Дай за себя Бога молить!
– Вели распечатать! Голодом помираем!
– В разор разорили нас, батюшка! Защити! Укроти их алчобу несытную!
– Сделай божескую милость! Не пусти по-миру.
Разверстые глотки распустились, и удержу им нет. Понять эту стадную речь, эту коллективную народную петицию нет никакой возможности. И Еропкин должен был прибегнуть к знакомой русскому человеку речи, к сильному ораторскому приему.
– Молчать! – закричал он, как на ученьи.
Разверстые глотки остались разверстыми, рты так и замерли открытыми, но безмолвными. Еропкин понял, что вступление к его речи оказалось удачным, и потому он продолжал в том же русском стиле, с прибавлением в скобках крепких, любезных русскому уху слов или крепостей словесных, вроде трах-тарарах и тому подобных трехпредложных междометий и глаголов.
– Вы, сякие-такие, ворвались сюда без спросу! Кто позволил вам ломиться в монастырь, нарушать тишину святого места? Я вас, трах-тарарах, перепорю всех до единого! Чего вам нужно? Говори один кто-нибудь, да потолковей да покороче… Вот ты, старик, говори, в чем ваша просьба?..
Еропкин указал на старенького-старенького старичка с слезящимися от ветхости глазами и с бородой грязно-желтою, словно закоптелою или залежавшеюся в могиле. Старик мял шапку фасона времен Ивана Васильевича Грозного, шапку, чудом уцелевшую от опричнины.
– Говори, старик!
– Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй! – зашамкал старик языком челобитных времен царя Алексея Михайловича. – Мы, холопи ваши, московские банщики, челобитную приносим тебе, вашему сиятельству, на твоих слуг государевых, на полицейских воровских людей…
– Что ты вздор городишь, старый дурак! – осадил оратора Еропкин. – Говори дело, какие воровские люди?
– А печатальщики, батюшка князь, что запечатали добро наше, и нам с женишками и детишками помереть пришло голодною смертию… Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй!
– Какие печатальщики? Какое добро запечатали?.. Говори ты! – накинулся Еропкин на детину из Голичного ряда, который любил толкаться, где много народу. – Сказывай ты, а то от бестолкового старика ничего не добьешься… Ну!
– Мы, ваше сиятельство, из Голичного ряда, голицами торговали, – начал детина, который был не робкого десятка, – а намедни, значит, бани запечатали…
– Ну, запечатали, так что ж?
– А нам мыться негде…
– Вот претензия! Да тебе, быку эдакому, зимой в проруби купаться, так за честь, – засмеялся Еропкин. Детина осклабил свой рот до ушей.
– А мы, ваше сиятельство, банщики, нам детей кормить-поить надо, – осмелился другой парень, видя, что страшный генерал не сердится. – Мы без работы с голоду помираем…
– Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй! Не вели казнить! – снова завопил старик языком челобитных. – Мы твои холоп и государевы… смилуйся, пожалуй!
– «Вели бани распечатать!..» «Защити!..» «Не пусти по-ми-ру!..» «Сделай божескую такую милость!» – прорвалась плотина, снова разверзлись глотки всего соборища банщиков и не банщиков. – «Распечатай…» «Заступись!»
Еропкин опять должен прибегать к испытанному средству, к ораторским приемам в русском стиле.
– Молчать, канальи!..
Рты опять закрылись. Передние ряды попятились, навалили на задних, те дрогнули, шарахнулись…
– Ишь, сволочь, чего захотела! Отпечатай им торговые бани… Да вы все там перезаразитесь и заразите весь город. Вот и так язва уж в городе…
– Где язва в городе, батюшка! Никакой у нас язвы нетути, – заговорил другой старик. – Коли суконщики мрут, дак это их рукомесло такое… Фабричному как не мереть!
– Шерсть, чу, заразную к им из Серпухова отай привезли…
– Не шерсть, а голицы, чу, от морной скотины шкуру…
– Как голицы? Что ты врешь!
– Не вру… за грош купил, за грош и продаю…
– То-то, грош…
– Не голицы, а кот, слышь из Киева чумный прибег…
– Где коту из Киева до Москвы добежать! Не кот…
– Знамо, не кот… А из полку, из турецкой земли, сказывают, от мертвой цыганки волосы привезли, целу косу, бают…
– Не косу, а образок, чу, с волосами, от офицера к его невесте, Атюшевой прозывается, Лариса… От ее мор пошел…
– А вон люди бают, не от ее, а от собачки махонькой, полковой, Маланьей зовут; солдат сказывал.
Еропкин чувствовал, что у него голова начинает кружиться от этого невообразимого гама и от этой ужасающей чепухи, в которую превращался народный говор. Он видел, что, покажи он малейшую слабость и нерешительность, ему этого народного моря уж не унять без потоков крови… Этот кот, что «прибег из Киева», «голица от чумной шкуры», «коса какой-то цыганки», «махонькая полковая собачка», да это уж народные легенды, верованья, которые из них пушками не вышибешь…
Еропкин все это сразу сообразил и понял, что Москва стоит над пороховым погребом, что достаточно одной искры, чепухи вроде кота, что «прибег из Киева», и Москву взнесет на воздух.
– Молчать! – в третий раз прибег он к верному, ошпаривающему средству, к крепкому слову, которое для русского народа сильнее всяких заклинаний. – Бани запечатаны для того, чтоб народ в них друг другу заразу не передавал…
– Как же, батюшка, от мытья-то зараза быть может?
– Она, сказывают, от нечисти, так надо мыться…
– И мертвых, чу, обмывают, а живых и подавно…
Еропкин поднял кверху толстую, с золотым массивным набалдашником трость и сделал два шага вперед с угрожающим жестом.
– Если кто из вас пикнет хоть, так того сейчас же в колодки, и в Сибирь! – резким, надтреснутым голосом крикнул он. – Торговые бани, слышите, мерзавцы! Торговые бани запечатаны по высочайшему ее императорского величества повелению… Слышите! По высочайшему повелений. Так ни я, никто в мире их, без указа ее величества, распечатать не может. Я передаю вам высочайшую волю… А теперь по домам! Марш! А то я прикажу вас всех нагайками загонять в ваши стойла… Вон отсюда!
Оторопевшее стадо шарахнулось назад. Передние ряды смяли задние… Вместо оторопелых лиц виднелись только спины и нечесаные затылки, все бросились к выходу, и через минуту из окон Чудова монастыря виден был один лишь прежний часовой, от страха и изумления прикипевший к земле.
– Чтоб вперед народ не собирался кучами, а то я тебя пугну! – крикнул Еропкин, садясь в коляску.
Архиерейский служка, напоминавший запорожца в рясе, даже свистнул от удивления.
– От сердитый, так сердитый! Ой-ой-ой…
При выезде из Спасских ворот Еропкин встретил веселого доктора, который скакал куда-то на паре ямских. Доктор остановился.
– А! Это вы, доктор, – ласково сказал Еропкин, приказав своей коляске остановиться. – Куда мчитесь?
– К вашему превосходительству.
– С дурными вестями?
– Ни с дурными, ни с хорошими, а с докладом… По приказанию вашего превосходительства.
Еропкин перебил его торопливо.
– Нам время дорого, доктор, и мы не должны воровать его у государства… Не удлиняйте вашу речь пустыми словами, «ваше превосходительство»… Для краткости и для пользы службы называйте меня просто «генерал»: это короче, а то и никак, это еще короче…
– Слушаю-с.
– Ну?
– Я сейчас был в Симоновом и Даниловом монастырях, куда переведены фабричные с Суконного двора. Подойдя с надлежащею осторожностью к воротам, я, с ведома караульного офицера, приказал вызвать к калитке запертого в том монастыре вместе с фабричными подлекаря и чрез огонь расспросил его обстоятельно, были ли вновь из фабричников заболевшие и умершие, и оба сии приключения каким порядком происходили… Из ответов подлекарей я узнал, что и умершие, и вновь заболевшие были и что по признакам болезнь та, несомненно, моровая язва, с какою я в Бессарабии познакомился…
Еропкин сурово задумался.
– Благодарю, – сказал он, тотчас опомнившись… – А из тех тысячи семисот семидесяти фабричников, что разбежались по городу, много полициею розыскано и в монастыри доставлено?
– Мало, почти никто не пойман.
Еропкин насупился. Он чувствовал, что чума гуляет по Москве, не поймать уж ее… Предстоит страшное дело и страшная борьба…
– В последующие разы, доктор, – начал он торопливо, – я вижу, что вы добрый и честный человек, так в последующие разы, когда вы будете осведомляться о ходе болезни в Симоновом и Даниловом монастырях, я вам поручаю, как у подлекарей, что заперты в монастырях с фабричными, так и у их старост, доподлинно узнавайте о том, получают ли все фабричные определенную им порцию, и какова она качеством, и довольно-ль все одеты и обуты, и не имеют ли в чем какого недостатка, и не притесняет ли кто их… Так я уж на вас надеюсь…
– Все исполню, генерал… Я знавал нужду народную…
– А в городе как?
– Не смею скрыть; зреет беда, тем более что народ все еще не верит страшной истине и разносит заразу, утаивая больных из боязни карантина и пряча лохмотья после умерших.
– А все это Риндер да Скиадан, да Кульман… за торговлю испугались… купцовских мошон жаль стало… На осину бы их!
Коляска тронулась, и Еропкин ускакал. Толпы банщиков, понурив головы и в сотый раз толкуя о коте, что «прибег из Киева», да о сказочной косе цыганки, медленно расходились по домам. Веселый доктор, сообразив что-то с минуту, приказал своему вознице заворотить от Спасских ворот и ехать мимо церкви Василия Блаженного.
В это время он увидел, что к церкви подходит какая-то девушка, совсем молоденькая, но вся в черном, с траурными, неприятно режущими глаз белыми каймами на платье, глубоко задумчивая и глубоко печальная… Подойдя к церкви, она остановилась, по-видимому, в тяжкой нерешительности, снова рванулась к церкви, как бы переломив боязнь, потом опять.
Вглядевшись в девушку, доктор, казалось, узнал ее. Доброе, круглое, лоснящееся от усталости лицо его сразу побагровело, потом побледнело, приняло горькое, тоскующее выражение… Он торопливо велел своему вознице остановиться и стремительно, шариком покатился к девушке… Это была та девушка, которая гадала о суженом и получила от него…
– Лариса Владимировна! – грустно, нерешительно, не своим голосом окликнул веселый доктор девушку в черном.
Та с удивлением и испугом остановилась. Она, казалось, не помнила, где она и что с ней.
– Вы не узнаете меня? – робко спросил доктор.
Девушка опомнилась. Глаза ее, большие, черные, с длинным разрезом и как бы усталые, блеснули странным светом. Но как она изменилась с того вечера, когда гадала о суженом! Матовое, несколько смуглое, словно выточенное, лицо ее побледнело, успело из детского превратиться в лицо большой девушки. Цыганочку она напоминала теперь только очертаниями лба и изгибами длинных бровей, но уж не глазами, в глазах было что-то слишком грустное, даже что-то большее, чем грусть…
– Нет, я узнала вас, доктор, – тихо сказала девушка. – А вы давно воротились оттуда?
В глазах ее, сквозь детское выражение, промелькнуло что-то такое, отчего веселый доктор готов был заплакать, разрыдаться. Но он пересилил себя и отвечал:
– Недавно, Лариса Владимировна… О! Тяжело вспоминать… это…
Девушка понимала это недосказанное «это». Они думали об одном…
– Ведь он умер на моих руках, – продолжал доктор свою тяжелую исповедь.
– Да знаю… мне говорил Грачев…
Девушка вздохнула и задумалась. Она говорила так, как будто то, о чем говорилось, еще тут вблизи где-то да не откликается и не откликнется никогда, а все будешь о нем думать… И у того, и у другого на душе это вечное и ужасное «что же делать!»
– Он был первый в нашей армии, на котором я увидал знаки этой… проклятой болезни… Меня поздно уведомили, что он занемог…
– Да… да, – как бы думая о чем-то своем, повторила девушка.
– Умирая, в бреду, в агонии, он шептал ваше имя и имя какой-то цыганки…
– Да… да… – повторяла девушка.
– Я догадываюсь, она передала ему заразу.
– Да… да…
Веселому доктору становится невыносимо тяжело. В первый раз в жизни они видел такое безмолвное горе и у такого молодого существа.
– Я очень жалею, что за недосугом не успел быть еще у вас… Батюшка здоров? – снова заговаривает доктор.
– Да, здоров, – все тем же упавшим голосом отвечала девушка: но потом с какой-то особой силой прибавила: – Но няня, Пахомовна, умерла…
Доктор заметил это что-то особенное в ответе и спросил:
– Чем она умерла?
– Вот… этой… – девушка не договорила.
– От кого же она могла заразиться?
Доктор сам испугался своего вопроса, когда взглянул на девушку, она, казалось, должна была упасть.
– Вам дурно?.. Ради Бога, что с вами?
– Ничего… я вам все скажу, – как-то торопливо отвечала девушка. – Я заразила няню… я заразила всю Москву… от меня пошла эта страшная болезнь…
Доктор испугался. Он думал, что перед ним несчастная, помешавшаяся от горя. Он сразу не нашелся, что сказать.
– Грачев привез медальон, образок от него, – все так же торопливо продолжала девушка. – В образке его волосы… Грачев от больного отрезал локон… Няня целовала их… От няни заразилась семья сторожа у Николы в Кобыльском и тот купец, что нашли на улице у Власия… Больную няню племянник ее, суконщик, свез на Суконный двор… Оттуда и пошла зараза от меня… Меня надо сжечь…
Доктор схватил девушку за руку. Рука была холодна, как у мертвеца.
– Ради Бога, успокойтесь, – едва выговаривал от волнения доктор. – Как же вы сами? Где же эти несчастные волосы?
– У меня на груди…
– И вы прикасались к ним?
– Нет… Я поклялась отцу и брату не дотрагиваться до них и не видеть их до смерти… Образок закрыли… его окуривали, обмывали…
Доктор задумался, продолжая держать девушку за руку, как бы стараясь отогреть ее в своей руке.
– Я буду у вас, я поговорю с вашим батюшкой об этом деле, – говорил он, сильно пожимая маленькую холодную ручку. – А теперь вы шли в церковь?
– Да… я хотела… я… – Девушка замялась и вспыхнула: детский румянец на бледных щеках и детское выражение стыдливых глаз выдали какую-то тайну, что-то недосказанное… Девушка, видимо, решалась на что-то серьезное, не детское, но еще не решилась, не осилила себя… Доктор понял это…
– Я скоро буду у вас, – сказал он. – А вы, девочка милая, – он взглянул ей в глаза своими добрыми глазками, – вы забудьте вашу «Пахонину» (у девушки задрожали губы при этом напоминании) – ей пора было на погост… А пока держите клятву, данную отцу, не заглядывайте в медальончик… а главное, не решайтесь пока ни на что, – доктор сделал ударение, – не поговорив с батюшкой или со мной… Ведь я вас, милая девочка, когда-то на руках носил… Бывало, кричите мне навстречу: «На меня, дядя Кистяк, на, на ручки»… Так-то, милая девочка… А теперь прощайте…
Он крепко пожал ей руку и направился к своему вознице. Девушка вошла в церковь.









































