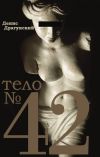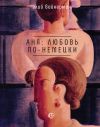Текст книги "Смелая женщина до сорока лет"

Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Оказывается, есть новая категория
нервных просьба не читать!
художественной продукции: “feelgood”.
Вот такое новое понятие – «филгудность».
A feelgood film is a film which presents people and life in a way which makes the people who watch it feel happy and optimistic.
(Филгудный фильм – это фильм, который представляет людей и жизнь таким образом, что люди, которые его смотрят, чувствуют себя счастливыми и оптимистичными.)
Уже есть филгудные книги. Те, которые, как пишут современные критики, «так приятно читать в воскресенье после завтрака, усевшись в любимое кресло, завернувшись в любимый плед и попивая чай с молоком из любимой чашки».
Филгудные картины тоже есть, я их часто вижу в интернете, полотна старателей четвертого ряда, где бабушка вяжет, внучка играет, девушка идет по аллее, молодой человек держит над ней зонтик, и всё это в стиле и колорите этакой Берты Моризо для бедных.
Важные уточнения касательно «филгудности».
Первое.
Не путайте слащавость и филгудность. Особенно это касается картинок. Слащавые рождественские открытки начала XX века, где условные крестьянские детишки дарят друг другу конфетки, – это одно. Это винтаж и ретро. Иногда даже забавно. А вот написанный вроде бы широким мазком красивый вечерний город, где за столиком уличного кафе сидит изящная парочка и пьет красное вино, – совсем другое. Это филгуд.
Пошлые слезодавильные истории, где старик на бульваре рисует портрет бедной девочки и дарит ей этот лист с размашистой подписью «Пикассо», – это одно. Длинный роман из университетской жизни, где все-все-все в итоге находят свое счастье, мужа, детей, домик и постоянную профессуру в Беркли, – это другое. Это то, что в СССР называли «добрая книга» (или «добрый фильм»).
Второе.
Сразу вспоминаются детские книги. Да, все они (особенно начиная с середины XIX века) добрые и оптимистичные – по своей воспитательной задаче. Как буквари, как игровое обучение, как сладкая микстура. Даже самые печальные детские книги – вроде «Без семьи» Гектора Мало – там все равно в конце надежда и какое-то устроение судьбы.
Наверное, «филгуд» – это и есть детские книги (фильмы, картинки) для взрослых.
Соцреализм! хоть имя дико…
из дневника, запись 29 июня 2021 года
В давней молодости мне случалось листать романы советских писателей второго-третьего эшелона. Как правило, это случалось в библиотеке дома отдыха. На полках стояли толстые книги в картонных переплетах с картинкой: город, над которым дымят трубы завода, и по улице идет бодрая молодая пара. Или та же пара, но он что-то чертит, а она смотрит из-за его плеча, а в широком окне виден подъемный кран. Название: либо короткое – «Новаторы», либо длинное – «Личное счастье Веры Толмачевой».
Раскрыв книгу, я непременно натыкался на увлекательный диалог.
* * *
– Веруша, – спросил Николай, усаживаясь за стол и с аппетитом отламывая вилкой кусок поджаристой котлеты. – Как у тебя день прошел?
– Провели читательскую конференцию для пенсионеров, – отвечала Вера, подкладывая мужу картофельное пюре. – По книге молодого писателя Юрия Трифонова «Студенты». С докладом выступил товарищ Ксенофонтов, ветеран труда с «Красного котельщика». Были очень интересные вопросы. Писатель сказал, что просто поражен уровнем наших читателей!
– Молодцы!
– Не молодцы, а молодицы! – Вера озорно сверкнула глазами. – А теперь ты докладывай! – и она подлила себе и мужу в стаканы компот из сухофруктов.
– Мы сегодня на собрании цеха приняли повышенные обязательства. Хотим перевести весь коллектив токарей на микролитовые резцы, что позволит повысить скорость обработки деталей не менее чем на тридцать процентов. Лагутенко считает, что на тридцать пять, но я всё же не стал бы рисковать. Тридцать – самый раз.
– Осторожничаешь? – поддела мужа Вера.
– Подхожу к делу ответственно, – спокойно возразил Николай. – Чтобы потом не авралить в конце квартала…
* * *
Я закрывал книгу и со стоном ставил ее на полку…
* * *
Но жизнь бывает еще смешнее, чем литература.
Например, сегодня.
Мы с Олей просидели весь день за компьютерами в разных комнатах.
Вечером сошлись попить чаю на кухне.
– Как ты? – спрашиваю.
– Ничего, – говорит. – С двух до четырех участвовала в конференции Института экономики, по зуму. Потом читала диссертацию своего аспиранта, собрала замечания к первой главе. Ну и на сладкое сделала презентацию по динамике валютных курсов, завтра у меня доклад.
– Опять по зуму?
– По нему, родимому… А ты как?
– Сделал одно интервью, маленькое, на пять тысяч знаков.
– Всего-то?
– Ты что! – обиделся я. – Еще Наташа Иванова просила сократить статью с тридцати тысяч знаков до восемнадцати! Уже отослал. А завтра у меня съемка на ТВ…
* * *
Вот такой наш маленький домашний соцреализм.
Литература, она, вообще-то говоря, отражает, да.
Главная тема
ответы литературы
«Стержневой образ Достоевского – образ мещанина, корчащегося под двойным прессом сословного бесправия и капиталистической конкуренции». Это в 1930 году, в «Литературной энциклопедии», написал известный тогда Валерьян Переверзев (1882–1968). Советское марксистское литературоведение заклеймило эти перегибы как «вульгарный социологизм», и даже ругательство такое было специальное: «переверзевщина».
Однако доля истины тут все-таки есть.
Эмоциональные и интеллектуальные темы у всех писателей всего мира в общем-то одинаковы: любовь, семья, смерть, поиск Бога или смысла жизни; искание истины о людях или о себе, или поиск конкретной истины в детективе, скажем.
Но нужна главная социальная тема.
Лев Толстой действительно «зеркало русской революции», иначе говоря, зеркало русской модернизации. Крах сословно-крепостнического мироустройства и миросозерцания – вот главная, базовая, матричная тема Льва Толстого. Гениальный писатель рассматривает это с двух сторон, и с точки зрения аристократа, и с точки зрения мужика. А вот промежуточный статус (разночинцев или обедневших дворян) – не приемлет.
У Чехова главная тема – личное достоинство и личная свобода именно разночинца и вообще небогатого и нечиновного человека. «В нем возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость» (рассказ «Супруга»).
У Бунина главная тема – оскудение мелкопоместного дворянства. Герой Бунина страдает и гибнет оттого, что рушится его милый и уютный поместный мир. Частая мысль бунинского персонажа в его раздумьях об отношениях с женщиной: «Что я могу ей дать, я беден, отец разорен, имение заложено…» Мысль о том, что образованный молодой человек может пойти в службу или в предпринимательство и его подруга вскорости может стать женой «его превосходительства» или богатого фабриканта, – для героя Бунина просто невозможна. Его жизнь, его счастье – это в морозный день подойти к окну и смотреть, как Прошка с Ерёмкой привезли сани с дровами для печей…
Вот и выходит, что для русской литературы 1860–1910-х годов тема, в общем-то, одна: модернизация и ее трагедии.
Основная тема русской литературы в эмиграции – ностальгия.
У советской литературы, вплоть до Трифонова, Горенштейна, Домбровского, Карабчиевского, Кормера, а также Астафьева, Абрамова, Белова, Распутина, – тоже одна тема: революция и советская власть. Неутихающая боль «деревенщиков» – коллективизация 1930-х и обнищание деревни в 1970-е. Горечь «мастеров городской прозы» – сталинские репрессии и маразматическая несвобода брежневского застоя.
Но я, собственно, вот о чем: есть ли у современной русской литературы некая общая тема?
На самом деле вопрос не только литературный – вопрос такой: есть ли в современной России некий мощный социальный процесс, сопоставимый с крахом сословной России XIX века или с коммунистической революцией XX века?
Если бы, допустим, в России в 1991 году объявили люстрацию и два-четыре миллиона самых активных, богатых, социально мощных людей были бы росчерком пера лишены, как говорилось в старину, «прав состояния», выкинуты из «власти» и переведены в «простой народ», да заодно лишены и богатства – это бы непременно стало «центральной темой литературы».
Но на нет и суда нет…
Бессмысленное изобилие
сколько их! куда их гонят? что так жалобно поют?
Эти слова лучше и короче всего описывают мои впечатления о ярмарке Нон-фикшен.
Впервые нечто подобное сказал мне известный социолог культуры и философ чтения, ныне покойный Борис Дубин: «Нон-фикшен вгоняет меня в депрессию. Я понимаю, что никогда не смогу не только прочитать, не только перелистать, но даже пройти внимательным взглядом по корешкам всех этих, наверное, замечательных, умных, ученых книг…»
Мне кажется, что этих замечательных книг раз от разу становится всё больше, несмотря на все стенания о кризисе печатной (она же бумажная) книги, о кризисе чтения, издания, критики и проч.
Вдруг мне показалось, что я разгадал секрет этого изобилия. Этот секрет вовсе не в том, что откуда-то появились новые ученые, исследователи, литераторы. То есть они-то, конечно, появились, но дело чуточку в другом. Они появились постольку, поскольку их рекрутирует рынок.
Вот, например, появилась книга под названием, условно говоря, «Детская травма и взрослые невзгоды». Или «Как мозг управляет зрением». Или «Исторические парадоксы Мишеля Фуко». Книга (книги) имеет (имеют) успех среди рецензентов и читателей.
Готово. Через год на рынок выбрасываются книги: «Травма детства и депрессия в среднем возрасте», «Как проработать травму», «Травма не приговор», «Травма: кто виноват». Еще через год это количество утраивается, удесятеряется.
Точно так же появляются книги «Зрение и мозг», «Мозг и близорукость», «Нейропсихология взгляда», «Взгляни на мозг свой, ангел». А также: «Фуко и Делёз: диалог о понимании», «Фуко и маятник культуры», «Тайные ответы Фуко на незаданные вопросы бытия».
Далее возможно скрещивание: «Травма и ее следы в мозгу: фуколдианский анализ проблем зрения».
Далее возможно вообще всё что хотите. Хватило бы прилавков на Нон-фикшен.
Очень хочется обратиться к цитированному в начале этой заметки Борису Дубину, хотя уж поздно, увы. Этакая телеграмма на тот свет.
– Дорогой Борис Владимирович, зря вы тогда грустили. Вы, конечно же, читали все эти книги. Причем довольно давно. Нужды нет, что они появляются под разными заголовками и написаны разными авторами. Книги-то на самом деле одни и те же… Ну, не все, так большинство.
Вспомнилось:
«…он вскочил, схватил со стола журнал и сказал с жаром:
– Верочка! А какую я для тебя штучку приготовил! Давай-ка прочтем ее вместе! Прекрасная, чудная вещь!
– Ах, нет, нет… – испугалась Вера Семеновна, отстраняя книгу. – Я уже читала! Не нужно, не нужно!
– Когда же ты читала?
– Год… два назад… Давно читала и знаю, знаю!»
(А. П. Чехов. «Хорошие люди». 1886).
* * *
И тут я с некоторым ужасом подумал: а вдруг это касается не только всякого научного и паранаучного нон-фикшена – но также и беллетристики? И, страшно сказать, «большой литературы»? Может быть, она тоже поражена вирусом бессмысленного изобилия?
* * *
Могут спросить: отчего я сегодня думаю об этом? Оттого, что почти все наши нынешние споры – бессмысленно изобильны и повторяют то, о чем мы спорили в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и во все последующие, а также, увы, в предыдущие годы.
Искусство как инструмент устойчивости режима
парадоксы культурной политики
Иногда странные мысли в голову лезут – про мои родные 1970-е.
В частности, про кино (а также про книги и спектакли).
Какое кино было хуже в смысле «морально вреднее»? Официозные опупеи про колхоз и доменную печь, про «укрощение огня» и «выбор цели», сделанные жесткой рукой умелых ремесленников? Или акварельно-каприччиозные фильмы про мятущихся интеллигентов, доцентов и поэтов, созданные талантливыми и тонкими художниками, которым советская власть дала щелочку в стене – подышать чуток?
В злые моменты сдается мне, что вторые – хуже. Морально хуже. Они обманывали и нас самих, и людей снаружи стены. «Ничего, у нас (у них) всё нормально, вот ведь какие фильмы снимают!»
Интересная картина получается.
В СССР был жесткий тоталитарный режим – что касается демократии, свободы и прав человека, а также экономики. Был поэтому дефицит всего на свете, включая продукты питания.
Но режиму нужна устойчивость. А для этого нужны какие-то моменты, которые придают отдельным участкам жизни вполне себе милый, обустроенный, вальяжный и даже интеллигентный облик. Это вроде правильно: нельзя же навсегда превращать страну в реальную казарму или буквальный лагерь. Первые годы – наверное, да, можно. А потом…
А потом нужны хорошие книги, хорошие фильмы и спектакли, красивые и удобные дома и дачи, импорт товаров, нужна некая элита – сытые и изящно одетые люди, которые живут в красивых квартирах, пишут хорошие книги и ставят хорошие спектакли.
Но вся эта милота – которая нужна, иначе бы люди сошли с ума, – она очеловечивает самый жестокий режим. Она делает сносной, а то и приятной жизнь тех 5 %, которые попали в счастливый оазис. Она примиряет с жизнью еще примерно 20 % – которые время от времени залетают своими мечтами в эти кущи (смотрят хорошие спектакли и фильмы, например), – и еще кого-то это мотивирует на социальные достижения в рамках тоталитарного строя. В итоге – примерно четверть народа не то чтобы довольна жизнью, но согласна с ней. С одной стороны, конечно, кошмар, но, с другой-то стороны, всё вроде и ничего. А то, что 3/4 народа вообще вытолкнуты из круга – никого не волнует. Ни тех, кто в круге, – потому что они эгоистичны и боятся потерять то, что у них есть. Ни тех, кто вне круга, – потому что у них нет навыка социальных размышлений, потому что они окованы нуждой и страхом.
Бернард Шоу в начале 1930-х сказал: «В СССР нет никакого голода, потому что я никогда и нигде так роскошно не обедал, как в СССР».
Эти обеды были реальны и, надо полагать, являли собою кулинарные шедевры. Но взятые как факт советской жизни – эти обеды были ложью.
Вот такая диалектика: хорошие фильмы, спектакли, книги – были хорошими, даже очень хорошими. Но при этом они – именно в силу своей хорошести – были стабилизаторами режима, а потом даже стали неким ностальгическим козырем: «Вы тут ругаете СССР, партийность, цензуру – а как же фильмы Тарковского? Пьесы Володина? Спектакли Товстоногова? Повести Трифонова?» – и так далее.
Текст как текст может быть внутренне тонок и правдив, а текст как социальный факт – контекстуально лжив именно в силу того, что он был создан здесь и сейчас (вернее, «там и тогда»).
В этом, очевидно, и заключается великая миссия и безысходный трагизм искусства: оно помогает пережить самую ужасную реальность – и одновременно как бы оправдывает ее, самим фактом своего явления.
Но почему именно я?
ведь я этого достоин!
Дайте чуточку помечтать.
Вот мне 28 лет. Я самый обычный парень. Из самой обычной семьи: папа бригадир ремонтников, мама медсестра. Работа у меня – обычный офис. Обычная зарплата. Недвижимости у меня – доля в родительской квартире. Девушки постоянной у меня нет.
Гляжу на себя в зеркало: нет, не урод, не хиляк – но и не красавец и не бодибилдер.
Регистрируюсь в сети знакомств. И вдруг на меня наплывает суперкрасавица. 27 лет. Вот такие синие глаза! Рост, вес, фигура – всё супер. Американка, что характерно. Зовут Аннабель Ли. Папа у нее генерал из Пентагона, дедушка – миллионер из Техаса. А сама она – окончила Гарвард и владеет юридической конторой. Управляет офшорными счетами индийских фирм.
И вот она, значит, говорит, что надо начать переписываться, потом встретиться и развивать серьезные отношения, а там уж, сами понимаете, до законного брака недалеко.
Я рад и счастлив? Золотая рыбка заплыла в мою облупленную ванну? Сейчас она вильнет хвостиком и на меня обрушится дождь любви, красоты и удачи?
Дудки-с.
Я задаю себе простой вопрос. Конечно, я достоин счастья. Как всякий человек на Земле, о да. Но всё же: а почему именно я – именно такого счастья? Почему именно мне так дико и неимоверно повезло? Чем я заслужил интерес такой великолепной девушки, красивой, умной и богатой? В Америке 330 миллионов народу. То есть примерно 50 миллионов женихов для Аннабель только на ее родине. А еще есть другие страны. Почему же она выбрала именно меня? А?
Молчишь, красавица? То-то же.
Я не буду отвечать на твои письма. Потому что я знаю, что будет дальше. Дальше твой дедушка разорится в своем Техасе, твоего папу уволят из Пентагона, твою фирму закроет полиция, а ты сама застрянешь без единого цента в кармане где-то на полпути от Рима до Мумбаи, и «вышли мне хоть 2 000 баксов, милый, а то я погибну»…
Сделаем гендерное переключение.
Самая обычная девушка. С обычной работой, из обычной семьи, собою мила, но не более того.
С какого перепугу на нее вдруг наплыл сын суперолигарха и внук бельгийского барона? Со всеми своими яхтами, апартаментами и проч.? «Я, конечно, достойна счастья. Но все-таки – почему именно я? А не аферист ли ты, о мой прекрасный принц?»
Иногда кажется – реалистичное представление о собственной персоне позволяет отсечь всех этих эротических аферистов.
Мне начнут возражать:
«Но же ведь же бывает же!!!»
«Вот у меня подруга, ну ни кожи ни рожи, кассирша в “Магнолии”, в интернете познакомилась с одним… и вот теперь жена итальянского графа!»
И самое главное:
«Почему вы насмехаетесь над мечтой о счастье?»
Да нет, что вы!
Мечтайте дальше. И переводите аферистам свои трудовые две тысячи долларов.
Дороговато для коротенькой мечты, нет?
Фестиваль
сон в ночь на 29 октября 2023 года
Фильм, который показали на российско-германском фестивале, вдруг вошел в шорт-лист этого фестиваля.
Женщина из оргкомитета говорит мне:
– Напиши на него краткую аннотацию, типа представление. Что это очень хороший фильм, и всё такое. Достойный награды.
Я говорю:
– Я тут при чем?
– Но это же по твоей книжке снимали!
– А что ж вы сами-то не сделали? – говорю.
– Да мы совсем не надеялись, что на него внимание обратят. А вот видишь, как получилось. Напиши! По-немецки. Коротко.
– Пусть немцы и напишут. Тут было два типчика, Карл и Алекс, если я правильно помню. Члены оргкомитета с немецкой стороны. Да?
– Они уехали. Их мобилизовали.
– Куда, блин?
– Да на войну. Сейчас же осень сорок четвертого! Наши уже перешли границы рейха! Наступаем! Вот их и мобилизовали. Типа защищать фатерланд. Сам не понял?
– Погоди. А куда надо эту аннотацию посылать?
– В Берлин. Не дергайся. Война войной, кино кином! – смеется она.
Хорошо. Сажусь за комп. Написал: «Дизес Фильм ист айне Перле дер марксистишен Кинематографи».
Женщина заглядывает через плечо. Смеется:
– Ну прямо уж «Перле»… Нарцисс какой. И насчет марксизма ты зря, они не любят. Напиши что-то типа вроде «реалистишен Кинематографи».
– Ладно, – говорю я.
– Запиши мыло, пошлешь прямо этим Алексу и Карлу.
– Их же мобилизовали! Как они получат?
– У них айфоны есть. Должны быть. Я точно знаю.
Этот сырой осенний вечер
из дневника, запись 4 октября 2022 года
этот темный от влаги асфальт, засыпанный осенним золотом, этот запах палой листвы, которая, как мокрой тряпкой, очистила воздух от гари и копоти и сделала его почти что лесным, садовым и парковым вблизи шумных улиц.
Как прекрасен холодный дождь. Как упруг и объемлющ ветер. Как весело держать в одной руке сумку с батоном хлеба, а в другой – зонтик-трость. И цокать этой тростью по асфальту, шаркать по опавшим желто-красным листьям, отгребать их от лужиц и глядеть, как в серой воде отражается серое небо с проводами и случайной птицей.
О, Господи, ничего не надо, только бы ходить по этим тротуарам, видеть под ногами это золото на черном, вдыхать эту прохладную влажность… Только об этом прошу Тебя! Не отнимай!
«Хитренький какой! – усмехается Бог. – Ишь! Дудки-с».
Jаmais vu
психопатология обыденной жизни
Тебе кажется, что этого никогда не было с тобой. Ты никогда не ходил в эту школу и тем более никогда из нее не возвращался. В университет, на работу – то же самое.
Почему ты здесь? Что это за улица? Что за автобус причаливает к остановке? Какой номер? И как называется остановка? Кировский проезд? Что это значит? Может быть, Кирочный? Или Коровий?
Откуда у тебя эти ключи?
Что это за дверь? Почему ключ подходит к этому замку? Ах, конечно же! Это чужая дверь и чужие ключи – наверное, тебе их подкинули. Да, на дороге что-то металлически брякнуло, когда ты шел к дому, к этому незнакомому дому.
Но кто тебе сунул эти ключи в карман?
Дверь открывается. Почему в прихожей горит свет? Кто эта женщина в халате поверх розового бюстгальтера и черных легинсов? Зачем она тебя целует? У тебя не было такой жены. У тебя никакой жены не было.
Кто это мягко, и туго, и опасно стучит в окно сизой грудью, а потом скребет лапками по цинку отлива? Голубь? Откуда здесь голуби? Что ему надо?
– Вадик, Вадик… – курлычет голубь старым женским голосом.
Ты бы поверил, что это мама тебя зовет, но ты не Вадик, ты Сережа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.