Читать книгу "Александр I"
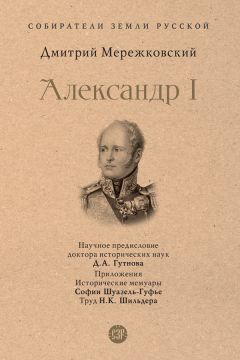
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Второй батальон Черниговского пехотного полка, которым командовал Муравьев, считался образцовым во всем 3-м корпусе. Генерал Рот два раза представлял Муравьева в полковые командиры, но государь не утверждал, потому что имя его находилось в списке заговорщиков.
«Предавшись попечению о своем батальоне, я жил с солдатами, как со своими детьми», – рассказывал впоследствии сам Муравьев о своем васильковском житье. Телесные наказания: палки, розги, шпицрутены – были уничтожены, а дисциплина не нарушалась, и страх заменялся любовью. «Командир – наш отец: он нас просвещает», – говорили солдаты.
В Черниговском полку служило много бывших семеновцев, разжалованных и сосланных по армейским полкам после бунта 1819 года. Случайный бунт, вызванный жестокостью полкового командира, Меттерних представил государю как последствие всемирного заговора карбонаров – начало Русской революции.
Государь не прощал бунта семеновцам, не забывал и того, что они были главными участниками в цареубийстве 11 марта. Офицеров и солдат жестоко наказывали за малейший проступок.
– Лучше умереть, нежели вести такую жизнь, – роптали солдаты.
На них-то и надеялись больше всего заговорщики. До перевода в армию Муравьев служил в Семеновском полку.
– Что, ребята, помните ли свой старый полк, помните ли меня? – спрашивал он солдат.
– Точно так, ваше высокородие, – отвечали те, – рады стараться с вашим высокородием до последней капли крови, рады умереть!
Наблюдая за ними, Голицын убеждался воочию, что восстание не только возможно, но и неизбежно.
– Вот какой семеновцы имеют дух, что рядовой Апойченко поклялся привести весь Саратовский полк без офицеров и при первом смотре застрелить из ружья государя. Да и в прочих полках солдаты к солдатам пристанут, и достаточно одной роты, чтобы увлечь весь полк, – уверял Бестужев.
– Русский солдат есть животное в самой тяжкой доле, – объяснял он Голицыну, – мы положили действовать над ним, умножить его неудовольствие к службе и вышнему начальству, а главное, извлечь солдат из уныния и удалить от них безнадежность, что жребий их перемениться не может.
И на примере показывал, как это надо делать. Когда говорил им о сокращении службы с 25 лет на 15 или о том, что наказание палками «противно естеству человеческому», солдаты хорошо понимали его; хуже понимали, но слушали, когда он толковал им:
– Вот, ребята, скоро будет поход в Москву, где соберется вся армия, чтобы требовать от государя нового положения и облегчения для войск, ибо служба теперь чрезмерно тяжела: вас тиранят, бьют палками, занимают беспрестанными ученьями и пригонкой амуниции, а все это выдумывается вышним начальством, которое большею частью из немцев. Но о вас, так же как вообще о нижнем сословии людей, заботятся многие значительные особы и стараются о том, дабы облегчить вам жребий. Есть люди, кои сами готовы принести жизнь свою в жертву для освобождения себя, а более вас, от рабства. Если у вас духу станет, то участь ваша скоро переменится. Вам не должно унывать, но быть твердыми и, в случае нужды, решиться умереть за свои права…
Когда же он доказывал им, что «не всякая власть от Бога», они совсем ничего не понимали.
– Точно так, ваше благородие, – соглашались неожиданно, – один Бог на небе, один царь на земле. Против царя да Бога не пойдешь!
И тут уже все слова как об стену горох. А когда опять спрашивал их:
– Пойдете, ребята, за мной, куда ни захочу?
– Куда угодно, ваше благородье! – отвечали в один голос, воображая, будто командиры задумали поход за рубеж, в Австрию, чтобы там собраться всем бывшим семеновцам, просить у царя милости, и царь непременно их помилует, возвратит в гвардию.
Доказывая, что «природа создала всех одинаковыми», Бестужев нюхал табак с фейерверкером Зюниным, целовался с вахмистром Швачкою, а тот конфузился и утирался рукавом стыдливо, как бы христосуясь.
Рядового Цыбуленко учил грамоте и долго бился с ним, пока не начал он корявыми пальцами выводить в прописи большими кривыми буквами: «Брут. Кассий. Мирабо. Лафайет. Конституция».
Иногда Голицын присутствовал на этих уроках.
– Что такое свобода? – спрашивал Бестужев.
– Свобода есть дар Божий, – отвечал Цыбуленко.
– Все ли люди свободны?
– Точно так, ваше благородие!
– Нет, малое число людей поработило большее. Свободна ли Россия?
– Никак нет, ваше благородие!
– Отчего же!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Цыбуленко молчал, краснел, потел и выпучивал глаза.
– Болван! Экий ты, братец, болван! – выходил из себя Бестужев. – Ну что мне с тобою делать?
– Виноват, ваше благородье! – вытягивался Цыбуленко во фронт и моргал глазами так, как будто хотел сказать: «Отпустите душу на покаяние!»
– Ну, ступай. Видно, от тебя сегодня толку не добьешься. Приходи завтра.
И чтобы утешить его, давал ему гривну меди на баню.
– И ребятам скажи, чтоб всегда приходили ко мне, если имеют какую нужду.
– Что за комедия! – смеялся Горбачевский. – Знаете, Бестужев, после французского похода один гвардейский генерал, подъезжая к полку, бывало, здоровался: «Bonjour, люди!» Так вот и вы; только не поймут они вашего бонжура.
– Нет, поймут, все поймут! – не унывал Бестужев.
О том, чтобы поняли, старался полковой командир Гебель, выученик знаменитого «палочника», генерала Рота.
Густав Иванович Гебель был родом поляк и ненавидел русских, как будто мстил им за то, что сам изменил родине.
На Васильковской площади, где пролегала почтовая дорога из Бердичева в Киев, проезжие польские паны могли видеть, как соотечественник их бьет русских солдат. Бил сам командир; били урядники и фельдфебели, и ефрейторы; били так, что концы палок от побоев измочаливались.
Гебель ложился на землю, наблюдая, хорошо ли носки вытянуты; щупал у солдат под носом, «регулярно ли усы, за неимением натуральных, углем нарисованы», стягивал ремнями талии для выправки, а когда людям делалось дурно, бил их; бил их и за то, что «приметно дышат или кашляют». Приказывал им плевать друг другу в лицо. Старых ветеранов, чьи ноги исходили десятки тысяч верст и тело покрыто было ранами, учил наравне с мальчишками-рекрутами.
Мы – отечеству защита,
А спина всегда избита.
Кто солдата больше бьет,
И чины тот достает, —
пели они жалобно и сказывали сказку о том, как солдат душу черту продал, чтобы тот за него срок отслужил; начал было черт служить, но скоро так замучился, что от души отказался.
В последние дни Муравьев был сам не свой. Заметив это, Голицын спросил Бестужева, что с ним, и тот рассказал.
Фланговой первого батальона, старый солдат, испытанной храбрости, бывший во многих походах и сражениях, Михаил Антифеев, начал совершать побег за побегом; а когда ротный командир после вынесенного им, Антифеевым, за новый побег жестокого истязания, убеждал старика, вспоминая прежнюю службу его, не подвергать себя мучениям – тот ответил, что, пока не накажут его кнутом и не сошлют в Сибирь, он не прекратит побегов. Случалось, что солдаты убивали первого встречного, даже детей, чтобы избавиться от службы. Антифеев добился своего: за то, что отлучился от полка, напился пьян и отнял у мужика два рубля серебром, приговорен был к кнуту и каторге.
Муравьев хлопотал за него через генерал-майора князя Сергея Волконского, члена Тайного Общества, имевшего большие связи, и просил полкового командира отложить наказание. Но командир написал донос в корпусной штаб и получил распоряжение исполнить приговор немедленно, а Муравьеву сделать строжайший выговор.
Казнь должна была происходить на военном поле, у Богуславской заставы, перед выстроенным полком. Накануне Бестужев послал тайно, через одного унтер-офицера, 25 рублей палачу, чтобы «легче бил».
Поутру в день казни Голицын занимался в кабинете Муравьева, как часто делывал по приглашению хозяина; у Муравьева была хорошая библиотека. Сидя у окна, Голицын читал рукопись его на французском языке, философское исследование о пространстве и времени.
Голицын погружен был в глубины метафизики, когда подъехала к дому линейка с Муравьевым, Бестужевым и еще несколькими офицерами Черниговского полка. На Муравьеве лица не было. Ему помогли сойти с линейки и ввели в дом под руки. Голицын сначала думал, что он упал с лошади, расшибся или как-нибудь иначе ранен, и только впоследствии узнал все от Бестужева.
Под кнутом палача Антифеев, пока был в сознании, молчал, пересиливая боль, но потом, в забытьи, начал стонать и охать. Муравьев, все время казавшийся спокойным, вдруг побледнел и упал без чувств. Произошло смятение. Несмотря на команды и угрозы Гебеля, стоявшие вблизи офицеры и солдаты, забыв дисциплину, бросились на помощь к любимому начальнику. Послышался ропот. Казалось, еще минута – и вспыхнет бунт. Но Муравьев очнулся; его усадили в линейку и увезли. Кое-как порядок был восстановлен, и казнь продолжалась. Антифеев получил все, что ему следовало.
Муравьев был болен. У него сделался сердечный припадок; он вообще страдал сердцем. Бестужев хотел послать за лекарем, но больной не позволил.
– Ничего, пустяки, все прошло, – повторял он со стыдливой, как будто виноватой улыбкой.
К вечеру стало ему легче. Он позвал к себе Голицына и Бестужева. Лежал на диване. Должно быть, был маленький жар; лицо было бледно, глаза горели. Вспомнилось Голицыну то странное подобие, которое пришло ему в голову при первом свидании с ним: в лютый мороз, на снежном поле, зеленая ветка с весенними листьями.
– Что вы сегодня читали, Голицын? – спросил Муравьев и начал разговор отвлеченнейший о пространстве и времени по Кантовой «Критике чистого разума»; мог говорить о таких метафизических предметах целыми часами, забывая все на свете; но, когда Бестужев вышел из комнаты – посмотрел на Голицына пристально и сказал:
– Как глупо, Боже мой, как глупо! И срам-то какой! Хороши заговорщики: как барышни, в обморок падаем!

– Со всяким может случиться, – возразил Голицын, – кажется, и я бы не вынес.
– Да ведь мы же с вами бывали в сражениях, а там хуже.
– Нет, Муравьев, там лучше.
– Да, пожалуй. А знаете что, Голицын? Это ведь у меня сделалось не от вида страданий, не от вопля истязуемого, а от чего-то другого. Когда тот, под кнутом, начал стонать, я взглянул на Гебеля… Случалось вам видеть во сне черта?
– Случалось.
– То есть не то что видишь, – продолжал Муравьев, – а вдруг такая страшная, страшная тяжесть, и по этой тяжести знаешь, что это он. Ну так вот и со мной давеча: когда тот начал стонать, я взглянул на Гебеля и вдруг почувствовал… Мы вот все говорим об убийстве, а ничего не знаем о нем, как о пространстве и времени, то есть по-настоящему не знаем, что это такое. А ведь это тоже категория, как говорит Кант. «Не убий» – одна категория, а «убий» – другая. И можно перейти из одной в другую. Ну вот я и перешел. Понял вдруг, что можно убить. Все думал, что нельзя, а тут понял, что можно. И не то что когда-нибудь потом, а вот сейчас, брошусь и тут же на месте.
Он привстал на постели, и лицо его исказилось ужасно; что-то в нем напомнило Голицыну жида Баруха, бесноватого.
– И вот еще что, Голицын, – прошептал он задыхающимся шепотом, – я ведь непременно когда-нибудь убью его, убью как собаку!
– Сережа, голубчик, не надо, ради Бога, не надо! – бросился к нему Бестужев, вбегая в комнату.
Начался новый припадок, но скоро прошел. Ночью он уснул спокойно и к утру был почти здоров; только по просьбе Бестужева дня два не выходил из комнаты и соглашался иногда прилечь на постель.
Солдаты посещали его, особенно те, которых «просветил» Бестужев. Горбачевский, по обыкновению, смеялся над ними.
– Ну что, брат, в бане был? – спрашивал он Цыбуленку.
– Никак нет, ваше благородие!
– Куда же ты гривну девал, что получил намедни от господина подпоручика? Опять шинкарке снес?
Тот молчал, потел, краснел, выпучивал глаза и переминался с ноги на ногу.
– Он, ваше благородие, свечку поставил Владычице и о. Даниле на часточку подал за здравие их высокоблагородья, – ответил за него Григорий Крайников, бойкий молодой солдат с веселым и умным лицом.
– Правда, Цыбуленко? – спросил Муравьев.
– Так точно, ваше высокоблагородье!
– Ну, спасибо, голубчик. Поди же сюда.
Цыбуленко подошел, и Муравьев подал ему руку. Он еще больше застыдился, но вдруг лицо его просветлело, как будто он понял что-то; неуклюжей, загорелой, заскорузлой мужичьей рукой взял женственно-тонкую бледную руку и крепко пожал. Отвернулся, сморщился, утер глаза рукавом.
И все поняли. Не надо было говорить – по лицам видно было, что «рады стараться до последней капли крови, рады умереть».
«Это пожатье двух рук – навеки веков: не сейчас, так потом опять соединятся они, и тогда что надо сделать, сделают», – подумал Голицын.
Только теперь, во время болезни Муравьева, понял он Бестужева.
– «Кто не азартуе, тот не профитуе», – как сказала мне одна полька, с которой мы играли в цвик, – любил повторять Бестужев, – нам, заговорщикам, следует помнить это правило…
И сам он помнил его: много ли, мало ли, но все, что имел, ставил на карту.
Когда старуха-мать заболела и, уже при смерти, звала его к себе, он мучился, потому что любил ее с нежностью, но, удержанный делами Общества, так и не поехал к ней, и она умерла, не повидавшись с ним.
– Для приобретения свободы не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения – нужен один восторг: восторг пигмея делает гигантом; он разрушает все старое и создает новое! – воскликнул он однажды, и Голицын почувствовал, что Бестужев весь в этих словах.
Маленький, худенький, рыженький, огненный, напоминал он герб Франциска I – саламандру в пламени с надписью: «Горю и не сгораю».
Понимал Голицын и то, откуда этот огонь.
– Муравьев и Бестужев – близнецы неразлучные, одна душа в двух телах, – говорили товарищи.
Бестужев, «пустой малый», сойдясь с Муравьевым, вдруг поумнел, расцвел, преобразился – откуда что взялось, как у влюбленной девушки.
В эти дни приехал в Васильков брат Сергея Муравьева, Матвей Иванович. Матвей участвовал в Тайном Обществе и долго был ревностным членом, но потом потерял веру в него и так мучился этим, что хотел покончить с собою.
Братья были похожи обратным сходством, как левая и правая рука, которые никогда не могут сойтись на одной плоскости. Бестужеву, который боялся и ненавидел Матвея Ивановича, казалось, что он карикатура на брата, дьявольский двойник его, отражение в выпуклом зеркале, нелепо искаженное, раздавленное, расплющенное: что у того ввысь, то у этого вширь; один – весь легкий, тонкий, стройный, стремительный; другой – тяжелый, широкий, ширококостный, приземистый.
Голицын слышал от Катруси сказку о Вие, подземном чудовище с железным лицом и длинными, до земли опущенными веками. «Матвей Иванович – Вий, Сережин бес, бес тяжести – вот чего боится Бестужев», – казалось иногда Голицыну.
– Я не могу их видеть вместе; он из него, как паук из мухи, кровь высасывает, – говорил Бестужев.
Что Матвей во многом прав, он понимал; но чем правее, тем ненавистнее.
Когда Сергей поникал, изнемогал под навалившейся Виевой тяжестью брата, а тот, казалось, весь оживлялся, веселился, шевелился как паук, – Бестужев убил бы его тут же на месте.
Матвей Иванович пробыл в Василькове с неделю, и все это время Сергей был болен.
Наконец Бестужев не выдержал и однажды, при Голицыне, спросил Матвея Ивановича в упор:
– Долго вы еще здесь пробудете?
– Не знаю. Как поживется, – ответил тот и, приподнимая свои сонно-тяжелые, Виевы веки, посмотрел на Бестужева пристально-злобно. Может быть, и ему казалось, что Бестужев – Сережин бес, бес легкости.
– А что? – прибавил он с вызовом.
– А то, что ваше присутствие здесь мне кажется вредным.
– Кому? Не вам ли?
– Нет, не мне, а вашему брату.
– Да вы что, нянька его, что ли? – усмехнулся Матвей Иванович, пожал плечами и чуть-чуть побледнел. – По какому праву, сударь, становитесь вы между мной и братом?
– Не будемте ссориться, Матвей Иванович, – возразил Бестужев. – Позвольте только дать вам совет: уезжайте поскорее…
– Позвольте ваш совет не принять. Я уеду, когда мне будет угодно.
– Не уедете?
– Убирайтесь к черту! – закричал Муравьев и не то что затрясся, а как-то зашевелился весь своим тяжелым и подлым, на взгляд Бестужева, «паучьим» шевеленьем.
– Не горячитесь, Муравьев, – произнес Бестужев, тоже бледнея. – Уезжайте, когда вам угодно, а только ведь все равно один конец. Помните, в Писании: «Что делаешь, делай скорее»?
Матвей Иванович помнил, что это сказано об Иуде Предателе. Он вдруг вскочил и схватил Бестужева за руку. Голицыну казалось, что они сейчас подерутся, и он уже встал, чтобы их разнять. Но вошел Сергей. Лицо у него было такое больное, жалкое, что оба взглянули на него и опомнились. Закрыв лицо руками, Бестужев выбежал из комнаты.
На следующий день Матвей объявил, что завтра уезжает. В ночь перед отъездом у него был с братом последний разговор, нечаянно подслушанный Голицыным.
Голицын сидел, так же как намедни, один в кабинете Сергея. Матвей с братом ходили, разговаривая, взад и вперед, все по одной и той же дорожке сада, от крыльца к сажалке.
Ночь была тихая. Луна так ярко светила, что белые стены хат сияли почти ослепительно, больно для глаз; и все затихло, замерло, как будто ожидая чего-то; только звезды дрожали да верхушки тополей шелестели чуть слышным шелестом. И чем выше луна, тем ярче и ярче, тише и тише. И во всем – ожидание, напряжение, томление почти нестерпимое.
Сидя у окна, открытого в сад, Голицын то слышал, то не слышал разговор в саду, смотря по тому, приближались или удалялись голоса.
– Да, Сережа, дело наше сверх сил, и времени, и всякого вероятия, – говорил Матвей Иванович. – Если бы уверяли меня сорок тысяч Пестелей, что произойдет именно то, чего им хочется, я не поверил бы, потому что знаю, что эти вещи делаются в мире не как люди хотят, а как Бог велит…
Дальше Голицын не слышал, а потом опять:
– Ничего мы не сделаем, потому что и делать нечего… Да имеем ли мы право, наконец, ничтожная часть великого целого, налагать свой образ мыслей почти насильно на тех, кто, может быть, довольствуется настоящим и не ищет лучшего?
Присели у крыльца на завалинке, и теперь Голицыну не только слышно, но и видно было все. Сергей слушал молча, опустив голову на руки в изнеможении, а Матвей Иванович весь оживлялся, шевелился, «как паук, сосущий кровь из мухи».
– И что мы можем обещать? – продолжал он. – Метафизические рассуждения о политике двадцатилетних прапорщиков, которые ведут разговоры вольные не для чего иного, как выказки ума? И это будущие правители, решители судеб народных! Если бы я не знал, что одиночество способствует восторженности чувств, я счел бы вас всех сумасшедшими. Никакая цель не оправдывает средств: кто дерзает на верное зло для неверного блага, тот злодей. Ничего из этого выйти не может, кроме погибели. И даже в случае успеха мы предали бы Россию бедствиям, о коих нельзя себе составить и понятия…
Сначала где-то вдали, а потом все ближе и ближе послышалась грустная песня:
Моя матинька, моя голубонька,
Як мени жити, як доживати?
Голицын узнал Катрусин голос. Омелькина пасека была по соседству. Катруся часто заходила в сад к Сергею Ивановичу; он был с нею ласков; может быть, нравился ей, и она заигрывала с ним, невинно, нечаянно. Вот и теперь зашевелились темные кусты черемухи, замелькала в них белая плахта, и на перелазе через плетень появилась высокая, стройная как тополь девушка в венке из маков и барвинка. В лунном свете виден был узор шитья на плахте и каждый лепесток в венке. Плетень скрипнул. Сергей Иванович оглянулся, увидал Катрусю, кивнул ей головой, с улыбкой, и она тоже, улыбаясь ему, крикнула, загадала загадку русалочью:
– Полынь или петрушка?
– Петрушка! Петрушка! – ответил он радостно.
– Ты моя душка! – засмеялась она, соскочила с плетня и нырнула из света в тень, как в черную воду русалка.
– Сережа, ты меня не слушаешь? – произнес голос Матвея Ивановича.
– Нет, слушаю, мой друг! Все, что ты говоришь, правда, почти правда. Я иногда и сам так думаю…
Он хотел еще что-то сказать, но брат не дал ему, опять заговорил уныло, упорно, мучительно, повторяя все одно и то же: «Погибнем, погибнем! Ничего не будет! Ничего не сделаем!»
– Мы жестоко ошиблись, – заключил он, – сунулись в воду, не спросясь броду. Думали, что народ с нами; но не с нами народ – я знаю, Сережа, не спорь, я знаю, что это так! Вот, говорят, во время последнего проезда государева народ отовсюду сбегался к нему, становился на колени, бросался под колеса коляски его, так что приходилось останавливаться, чтоб не раздавить людей, – это республиканцев-то наших будущих! Да посмей мы только тронуть царя – народ нас всех растерзает как извергов, потому что любит его, верит в него, как в Помазанника Божьего, как в Самого Бога!
Он замолчал, потом одной рукой обнял брата за шею, наклонился к нему, заглянул в лицо его и заговорил уже другим, детски-ласковым, вкрадчивым голосом:
– Помнишь, Сережа, как в ту ночь на Бородинском поле лежали мы под одною шинелью, и молились, и плакали, и клялись умереть за отечество? Помнишь, потом, когда мы полюбили вместе Аннет, ты сказал мне однажды: «Я люблю ее, но тебя еще больше: ты друг души моей от колыбели». Разве я уже не друг тебе? Разве все, что было, – не было? Сережа, голубчик, ради Христа, ради покойной маменьки, послушай меня: не губи себя, не губи других. Хоть меня пожалей… не могу я больше… Гнусно, тошно, страшно – не человеческого, Божьего суда страшно. Уйдем от них, уйдем, пока еще не поздно…
Сергей долго молчал, опустив по-прежнему голову на руки, в изнеможении.
– Что тебе сказать? – заговорил, наконец, и голос его звучал сперва глухо, как из-под страшной тяжести, но потом все громче и громче, все тверже и тверже. – Пусть так, как ты говоришь. Но если бы надо было все начинать сызнова – я начал бы. Вот ты говоришь: народ любит царя, верит в него, как в Бога. . . . Но ведь это погибель. . . . . . . . . . Не то, что народ темен, беден, голоден, раб, а то, что он сделал человека Богом, – погибель России, погибель вечная!. . . . . . . . . . . . . .
– Чем же царь виноват? Ты сам говоришь: народ… – начал было Матвей Иванович, но теперь уже Сергей не дал ему говорить.
– Нет! Народ не знал, что делает, а он знал. «Царство Божие на земле, как на небе» – это он сказал, а делал что? Благословенный, Спаситель России, Освободитель Европы – что он сделал с Россией, что он сделал с Европой? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и не им ли потом она так жестоко удавлена?. . . . . . . . . . . . . . . Самое великое стало смешным, самое святое кощунственным. . . . . . . . . . . . . . Этого нельзя простить. Пусть прощает, кто может, – я не могу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Да, да, молчи, знаю сам: «не убий». А вот убил бы, убил бы тут же на месте. . . . . . . . . . . .
Голицын не видел лица его, но по голосу угадывал, что оно ужасно, так же, как намедни, когда он говорил с ним о Гебеле; и всего ужаснее то, что милое, доброе, детское, оно могло быть таким.
– Сережа, Сережа, что ты? Во Христа веруешь, а можешь так! – воскликнул Матвей Иванович.
Сергей, закрыв лицо руками, опустился на лавку в изнеможении, как будто опять раздавленный тою же, как давеча, страшною тяжестью.
Оба замолчали, потом заговорили шепотом. Матвей Иванович плакал, а Сергей обнимал его, утешал, успокаивал с такою нежностью, что трудно было поверить, что это тот самый человек, который за минуту говорил об убийстве.
Была полночь; луна – в зените; свет еще ярче, тишина еще тише, и ожидание, напряжение, томление еще нестерпимее.
И вдали опять, как давеча, послышалось:
Моя матинька, моя голубонька,
Як мени жити, як доживати?
Но печальная песнь оборвалась, и вдруг зазвенела – веселая, буйная, звонкая, как русалочий смех:
Та внадився журавель
До бабиных конопель…
И все на земле и на небе, как будто этого только ждало, вдруг тоже запело, зазвенело, ответило смехом на смех – весь яркий свет был звонкий смех.
– Ничего не будет! Ничего не сделаем! – плакал плачущий. «Будет! Будет! Сделаем!» – смеялось все над плачущим.
И с такою радостью, как еще никогда, повторил Голицын:
– Будет! Будет! Сделаем!









































