Читать книгу "Александр I"
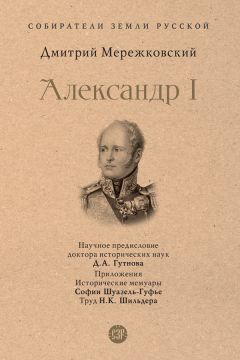
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
«Человек беспредельной силы духа» – вспомнились Голицыну слова Юшневского и слова самого Лунина: «Человек все может вынести, кроме силы». Так вот чего ему страшно; вот почему от страха смеется: чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети в темной комнате.
Возвращались по той же дороге. Спустились до половины холма, где возвышался кальварий, и дорога шла по дну оврага. Луна, уже не красная, а желтая, освещала степь.
Вдруг за плетнем послышались лай, крик, топот бегущих людей; сверкнул огонь, и грянул выстрел. С высоты холма по дороге неслось прямо на них что-то маленькое, черное, круглое, быстрое-быстрое, как ядро, из пушки летящее и постепенно растущее. Раздался еще один выстрел. Стреляли, должно быть, в то черное, но не попадали.
– Что это? – спросил Голицын, вглядываясь в лунный сумрак.
– А пастух-то правду сказал, – проговорил Лунин. – На вас оружия нет, Голицын?
– Нет.
– На мне тоже. Вот что значит не по форме ходить… А ну-ка, лазать умеете? Давайте руку.
Схватил его за руку и потащил на обрыв к плетню. Голицын полез было, но рыхлая глина осыпалась; он оборвался и свалился назад на дорогу; очки его упали и разбились.
Лунин стоял уже наверху, у плетня, и мог бы перескочить, но увидев Голицына одного на дороге, спрыгнул к нему, оттолкнул его ко кресту кальвария и стал перед ним; обмотал левую руку плащом, выставил ее вперед, а правою поднял длинный, острый кол – из плетня его выдернул. Все его движения были точны, быстры, мгновенны и спокойны; только что-то играло в нем пьяное, как намедни, после третьей бутылки шампанского, или как, должно быть, тогда, когда он принял вызов цесаревича: «Слишком много чести, чтобы отказаться, ваше высочество!»
Теперь уже без очков видел Голицын то, что неслось на них; стоявшую дыбом шерсть, поджатый хвост, высунутый язык и тупую паучью морду с клубящейся пеною.
Зажмурил глаза, чтобы не видеть, и прижался спиной к кресту; что произошло потом – не помнил; только слышал вой, визг, рев и, казалось, чувствовал на лице своем смрадное дыхание зверя.
Когда открыл глаза, люди толпились вокруг огромной издохшей собаки с торчащим в горле колом. Пастухи восхищались отвагою Лунина.
– А славно вы, молодцы, стреляете! – усмехнулся тот.
– Стреляем, пане добродию, не хуже других, да всем крещеным людям известно, что бешеного зверя надо бить пулею заговоренною; а кто настоящий заговор знает – и палкою убьет, как ваша милость.
Лунин попросил воды умыться. Пастухи повели их к перелазу через плетень и к степному загону – кошаре, где испуганные овцы толпились кучею при свете костра, и вода журчала, стекая в водопойную колоду по желобу.
Лунин снял с руки плащ, прокушенный насквозь клыками зверя; снял также мундир, засучил рукав и осмотрел тщательно руку. У Голицына волосы на голове зашевелились от ужаса, а лицо Лунина было спокойно по-прежнему. На руке укусов не было. Бросил плащ в огонь, умылся, оделся, дал пастухам на водку, взял Голицына под руку и вышел с ним на дорогу.
– Испугались, князь?
– Испугался.
– Ну еще бы. Кажется, и я не меньше вашего.
– Этого не видно.
– Мало ли что не видно! Не верьте, мой милый, когда вам говорят, что есть на свете люди бесстрашные: страшно всем, только одни умеют побеждать страх, а другие не умеют. Победа над страхом и есть наслаждение опасностью, и кажется, нет ему равного: тут человек становится подобным Богу; подобие ложное – но ничего не поделаешь: человек создан так, что всегда и во всем хочет быть Богом.
Голицын посмотрел на него внимательно: не хвастает ли? Нет, прост и спокоен; убивая и другого, более страшного Зверя, кажется, был бы так же прост и спокоен.
– На ловца и зверь бежит, – усмехнулся Лунин, как будто угадывая мысли его, – мы только что о Звере, а он и тут как тут. Ну как же не быть суеверным? И заметьте, мы победили Зверя под знаменем креста латинского. На Зверя – Крест, не это ли наш заговор?
Когда вернулись в корчму, Голицын хотел проститься, но Лунин попросил его зайти к нему. При тусклом свете сальной свечи огромная комната казалась еще более мрачною. На столе была постлана постель, и Голицын представил себе, как Лунин лежит на ней покойником. Чемоданы уложены: он уезжал на рассвете.
Усадив гостя, хозяин закурил трубку и начал, так же как намедни, ходить по комнате, взад и вперед, напевая хриплым голосом:
Plaisir d amour ne dure qu un moment.
– A знаете, Голицын, мне все не верится, что сговориться нельзя. Мы ведь все-таки в главном согласны?
– Согласны, но…
– Но две параллельные линии никогда не сойдутся, так что ли?
– Или сойдутся в вечности, – возразил Голицын.
– Э, мой милый, далеко до вечности; лучше синица в руках, чем журавль в небе! – засмеялся Лунин.
Помолчал, остановился перед ним и заглянул ему в глаза пристально:
– Послушайте, Голицын, это моя последняя попытка вернуться в Общество. Я знаю, что могу быть полезен: у меня – то, чего у вас нет, – точка опоры для рычага Архимедова, которым можно мир перевернуть. Ежели есть малейшая надежда сговориться – я ваш, и что сказал, то сделаю: на Зверя – Крест. Решайте же. Только сейчас, сейчас, а не в вечности! Да или нет?
Почти мольба была в голосе его; та слабость сильных людей, которая иногда сильнее силы их.
– Нет, Лунин. Если бы я и пошел с вами, никто не пойдет…
– Ну что ж, на нет и суда нет. Не можем спасаться вместе – будем погибать розно… Прощайте, Голицын! Я еду далеко.
– В Варшаву?
– Может быть, и дальше. Поищу на земле себе места, а не найду, то и под землей люди живут.
– Как под землею?
– Ну да, монахи Трапистского ордена, l’ordre de la Trappe, знаете?
– Вы к ним?
– К ним, если деваться будет некуда.
– Не успеете, Лунин!
– Почему?
– У нас раньше начнется. А ведь если начнется, вы к нам пристанете?
– Пристану. В России жить нельзя, но умирать можно… Значит, не прощайте, а до свидания… Погодите, вот еще последний вопрос, только уж очень, пожалуй, нескромный. Ну, все равно, не захотите – не ответите. Или лучше так: я первый отвечу, а вы потом. Для меня главное в жизни – любовь, любовь к Ней…
Обменялись быстрым взглядом, как сообщники, и Голицын понял, о ком он говорит.
– А для вас, Голицын, что?
– И для меня то же.
– И к вольности любовь – через Нее? – спросил Лунин.
– Да, через Нее.
Лунин молча стоял перед ним, как будто ждал чего-то.
И нелепая мысль промелькнула у Голицына: что, если опять, как давеча, он рассмеется вдруг своим странным, жутким смехом? Гусарский подполковник и рыцарь Прекрасной Дамы, заговорщик и адъютант цесаревича, друг вольности и друг иезуитов – да, тут поневоле будешь смеяться, чтобы не быть смешным.
– Как же вы не понимаете, Голицын, почему я ушел к ним? – заговорил опять Лунин все так же серьезно и торжественно. – Ave Maria, graciae plena – эта молитва к Ней только у них. Чужбина стала мне родиной, потому что где любовь, там и родина. Я оставил веру отцов моих, я полюбил чужую больше родной, невесту – больше матери, как сказано: оставит человек отца своего и матерь свою… Не понимаете? А если понимаете, если мы оба служим Одной, Любим Одну, то почему же мы розно?..
Он смотрел на него своим тяжелым, ласковым взором, и никогда еще Голицын не чувствовал так очарование этого взора…
– Почему же не хотите вместе? Не Она ли сейчас зовет вас, говорит вам через меня? А вы не хотите?..
– Не могу, – ответил Голицын, с бесконечным усилием побеждая очарование. – И не надо об этом, Лунин, не надо: ведь этого не скажешь, а скажешь – и все пропадет, – вспомнились ему слова Борисова.
Наступило опять молчание. И стало страшно. Так же, как тогда, в первое свидание с Муравьевым, чувствовал Голицын, что она, Софья, – с ним; но почему же тогда было легко и радостно, а теперь тяжко и страшно?
Оба молчали.
– Может быть, вы и правы, – проговорил, наконец, Лунин. – Ну, до свидания, до свидания в вечности, мой друг. Друг ведь, так?
– Так, Лунин.
Голицын подал ему руку. Тот крепко пожал ее и долго не отпускал, долго смотрел на него, как будто все еще надеясь.
Под этим взглядом и вышел от него Голицын.
Глава пятая«Извини, дорогой Юшневский, что не написал тебе из Бердичева. Знаешь, как я писать ленив, и оказии не было, а по почте ненадежно. Скажи Голицыну, что я рад видеть его, но о делах говорить не рад, потому что заранее знаю, что в разговорах толку мало.
Ты спрашиваешь, что я поделываю. Войсковые рапорты отписываю да занимаюсь шагистикой. Отупел от безлюдья, ибо кроме фрунтовиков да писцов никого и ничего не знаю. Устроил себе комнату, из которой почти не выхожу. Жизнь моя не забавна, она имеет сухость тяжкую. И здоровье не очень изрядно. Попроси доктора Вольфа хины прислать.
Спасибо Барятинскому за “Досуги Тульчинские”. Я наизусть затвердил посвящение:
Sans doute il te souvient des tranquilles soirêes,
Où, par l êpancheraient, nos âmes resserêes,
Trouvaient dans l’amitiê tant de charmes nouveaux[123]123
Тебе, конечно, вспоминаются мирные вечера, Когда, изливаясь друг другу, сжимались наши сердца И открывали в дружбе еще не изведанную прелесть (франц.).
[Закрыть].
A насчет моих “великих мыслей”, кажется, лесть дружеская. Великие мысли рождают и дела великие. А наши где?
Будь счастлив, поцелуй от меня ручки нашей милой разлучнице, Марии Казимировне, и не забудь твоего Пестеля.
Линцы, 5 сентября 1824 года.
P. S. Рассуди хорошенько, стоит ли приезжать Голицыну. Дела не делать, а о деле говорить – воду в ступе толочь. Впрочем, как знаешь».
После этого письма Голицын колебался, ехать ли. Но Юшневский настоял, и он в тот же день отправился.
Местечко Линцы, стоянка Вятского полка, которым командовал Пестель, находилось верстах в шестидесяти от Тульчина, в Липовецком уезде, Киевской губернии, почти на границе Подольской. Почтовая дорога шла на Брацлав, по долине Буга – на нижнюю Крапивну и на Жорнище, а отсюда – глухая проселочная – по дремучему, на десятки верст тянущемуся, дубовому и сосновому лесу, недавнему приюту гайдамаков и разбойников. Лес доходил до самых Линцов, а дальше была голая степь с ковылем да курганами.
Линцы – не то маленький городок, не то большое селение; на берегу многоводной, светлой и свежей Соби – хутора в уютной зелени, низенькие хатки под высокими очеретовыми крышами, ветхая церковка, синагога, костел, гостиный двор с жидовскими лавочками, штаб Вятского полка, полосатая гауптвахта, шлагбаум, а за ним голая степь: казалось, тут и свету конец. С полудня степь, с полуночи лес как будто нарочно заступили все дороги в это захолустье, людьми и Богом забытое.
Был ненастный вечер. Должно быть, прошла где-то далеко гроза, и как будто сразу кончилось лето, посвежело в воздухе, запахло осенью. Дождя не было, но порывистый, влажный ветер гнал по небу темные, быстрые тучи, такие низкие, что, казалось, клочья их за верхушки леса цепляются.
Наступали сумерки, когда ямщик подвез Голицына к одноэтажному старому каменному дому – дворцу князей Сангушко, владельцев местечка. Дом стоял необитаемый, окна заколочены, двор порос лопухом и крапивой. За домом – сад с большими деревьями. Их вершины угрюмо шумели, и черная воронья стая носилась над ними в ненастном небе со зловещим карканьем.
Пестель жил в одном из флигелей дома, уступленном ему княжеским управителем.
– Пожалуйте, пожалуйте, ваше сиятельство, – встретил Голицына как старого знакомого денщик Пестеля, Савенко, хохол с добродушно-плутоватым лицом, и пошел докладывать.
Кабинет – большая, мрачная комната, с двумя высокими окнами в сад; во всю стену, от потолка до полу – полки с книгами; письменный стол, заваленный бумагами; огромный камин-очаг с кирпичным навесом, какие бывают в старопольских усадьбах. Князья Сангушко, деды и прадеды, с почернелых полотен следили зловеще и пристально, как будто зрачки свои тихонько поворачивали за тем, кто смотрел на них. Пахло мышами и сыростью. В долгие вечера осенние, когда ветер воет в трубе, дождь стучит в окна и старые деревья сада шумят, – какая здесь, должно быть, тоска, какое одиночество. «Жизнь моя не забавна, она имеет сухость тяжкую», – вспомнилось Голицыну.
– Как доехали, князь? Не угодно ли умыться, почиститься? Вот ваша комната.
Хозяин провел гостя в маленькую, за кабинетом, комнатку, спальню свою.
– Вы ведь у меня ночуете?
– Не знаю, право, Павел Иванович. Тороплюсь, хотел бы к ночи выехать.
– Ну что вы, помилуйте! Не отпущу ни за что. Хотите ужинать?
– Благодарю, я на последней станции ужинал.
– Ну, так чай. Самовар, Савенко!
Старался быть любезным, но Голицын чувствовал, что приехал некстати.
Когда он вернулся в кабинет, почти стемнело. Пестель сидел, забившись в угол дивана, кутаясь в старую шинель вместо шлафрока, скрестив руки, опустив голову и закрыв глаза, с таким неподвижным лицом, как будто спал. «А ведь на Наполеона похож: Наполеон под Ватерлоо, как говорит Бестужев», – подумалось Голицыну. Но если и было сходство, то не в чертах, а в этой каменной тяжести, сонности, недвижности лица.
Денщик принес лампу. Пестель взглянул на Голицына, как будто очнувшись. Только теперь, при свете, увидел тот, как он изменился, похудел и осунулся.
– Вам нездоровится, Пестель?
– Да, все что-то знобит. Лихорадка, должно быть.
– А я вам хины привез, доктор Вольф прислал.
– Ну вот спасибо. Давайте-ка, приму.
Налил воды в стакан, насыпал порошок и, прежде чем выпить, улыбнулся детски-беспомощно.
– Сразу?
– Да, сразу. – Выпил и поморщился.
– Экая гадость! Ну а теперь другую гадость, тоже сразу. Что новенького, князь?
Голицын рассказал ему о доносе Шервуда, о вероятном открытии заговора, о подозрениях на капитана Майбороду и генерала Витта.
Пестель слушал молча, уставившись на него исподлобья пристальным взглядом, с тою же окаменелою недвижностью в лице. И казалось Голицыну, как некогда Рылееву, что собеседник не видит его, смотрит на лицо его как на пустое место.
– Ну что ж, все в порядке вещей, – проговорил Пестель, когда Голицын кончил. – Ждали, ждали и дождались. Вступая в заговор, думать, что не будет доносчиков, – ребячество. «Во всяком заговоре на двенадцать человек двенадцатый изменник», – говорил мне старик Пален, убийца императора Павла, а он в этих делах мастер.
– Что же вы намерены делать, Павел Иванович?
Пестель пожал плечами.
– Что делать? Кому быть повешенным, тот не утонет. Вот уже полгода я всякую минуту жду, что меня придут хватать, – и ничего, привык. Можно ко всему привыкнуть. А вам не скучно, Голицын?
– Что скучно?
– Да вот обо всем этом думать – о доносах, арестах, шпионах – «шпигонах», как говорит мой Савенко.
– Скучно, но как же быть? От этого зависит все наше дело…
– А вы в наше дело верите?
– Что вы хотите сказать, Пестель?
– Ничего, пошутил, извините… Ну, будемте говорить серьезно. Насчет Майбороды вы, господа, ошибаетесь. Неужели вы думаете, что я его принял бы в Общество, если бы не был уверен…
– А вы его приняли?
– Почти принял.
– Ради Бога, Павел Иванович, будьте осторожны…
– Не беспокойтесь, я людей знаю.
– Людей знаете и не видите, что это негодяй отъявленный?
– Да, негодяй – что ж из того? Негодяи-то нам, может быть, нужнее честных людей. Ведь это только на Страшном суде – овцы одесную, а козлища ошую; в сей же юдоли земной все в куче – не разберешь; тот же человек сегодня негодяй, а завтра честный, или наоборот. Негодяи-то уж тем хороши, что знаешь, чего от них ждать, а от честных, подите-ка, узнайте. «Кто из честных людей не достоин пощечины?» – у Шекспира это, что ли? Я плохой христианин, но помню, что более радости на небесах об одном кающемся грешнике, нежели о девяноста девяти праведниках. Вот и генерал Витт тоже грешник и тоже кается; мы ему не верим… ну а если ошибаемся? 40.000 войска под командою, шутка сказать!
– Что вы говорите, Павел Иванович?
– А что? Неблагородно? Ну еще бы! Только о благородстве и думаем. От благородства погибаем. Какая уж тут политика! В политике нет благородного и подлого, а есть умное и глупое. И мы выбрали глупое: царя убить, революцию сделать в белых перчатках. Убить надо, но никто не хочет сам: перчатки мешают – и все друг за друга хоронятся, ждут. А пока государь может быть спокоен – даст Бог, нас всех переживет. Так-то, Голицын: слово и дело не одно и то же; от суждений до совершений весьма далече. Люди говорят легко, а действуют по мере опасности, если не для жизни, то для чести, для совести. Мы – люди храбрые, жизнью готовы жертвовать; да жизнью-то легко, а вот честью, совестью как? Кто хочет спасти душу свою, тот погубит ее[124]124
«Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Евангелие от Матфея, XVI, 25).
[Закрыть], – не о таких ли, как мы, это сказано?..
Он потупился, а когда опять поднял глаза, они засверкали злобным огнем.
– Вы вот все предателей ищете, а главный-то предатель знаете кто? Я по ночам не сплю, думаю, думаю и вот до чего додумался: нам другого нет спасенья, как принести государю повинную. Он благородный, почти благородный человек, мы тоже почти благородные – отчего бы и не сговориться? Открыть ему все и убедить, что лучший способ уничтожить революцию – дать России то, чего мы добиваемся. Вот поеду в Петербург и донесу… Ну, что скажете, Голицын? Подлость, а?
– Не подлость, а сумасшествие, – возразил Голицын.
– А у вас никогда этого сумасшествия не было? – спросил Пестель.
– Если и было, то прошло.
– Совсем прошло?
– Совсем.
– Жаль. А я думал – вместе. Вместе бы легче. На миру и смерть красна…
– Думали, что я считаю это подлостью и буду вместе с вами?
– Да, вот и поймали. Заврался, запутался, – усмехнулся Пестель и посмотрел на него с нескрываемым вызовом.
– Так о чем же вы-то с ним говорить будете?
– С кем?
– С государем. Ведь у вас свиданье?
– Кто вам сказал?
– Слухом земля полнится. А вам не хотелось, чтобы я знал?
«Подозревает меня, испытывает, что ли?» – подумал Голицын с негодованием.
– Может быть, я и вправду с ума схожу, – продолжал Пестель, и усмешка его делалась все более язвительной, – но у сумасшедших есть ведь тоже логика. Ну так вот, по моей сумасшедшей логике, одно из двух: или уничтожить заговор, или уничтожить царя. Не хотите одного, значит, хотите другого? О другом-то мы с вами, кажется, были согласны, помните, у Рылеева.
– Помню.
– И теперь согласны?
Голицын молчал; сквозь негодование он чувствовал, что Пестель прав.
– Так как же, Голицын? Ваше свидание с государем в такую минуту, когда дело почти проиграно, вы сами понимаете?.. Или не хотите ответить?
– Не хочу. Это дело моей совести, Павел Иванович! Позвольте же мне одному быть в нем судьею, – начал Голицын, бледнея, и не кончил.
Пестель смотрел на него молча, в упор. «Кто из честных людей не достоин пощечины?» – вспомнилось Голицыну, и вся кровь прилила к лицу его, как от пощечины. Пестель опять был прав, и в этой правоте – то неразрешимое, темное, страшное, о чем Голицын старался не думать все эти месяцы: «Убить надо, но пусть не я, а другой».
У крыльца послышался колокольчик тройки. Голицын предчувствовал, что не придется ему ночевать у Пестеля, и заказал лошадей на станции.
– Лошади поданы, ваше сиятельство, – доложил Савенко.
Голицын встал и покраснел: чувствовал, что отъезд его похож на бегство.
– До свиданья, Пестель!
– Куда вы?
– Еду.
Пестель тоже встал.
– Прошу вас, Голицын, останьтесь, – проговорил он вдруг изменившимся голосом, с тихой, странной улыбкой.
– Нет, Пестель, наш разговор бесполезен и тягостен. Вы были правы, что мне приезжать не следовало…
– Прошу вас, Голицын, останьтесь, – повторил Пестель все тем же голосом, с тою же улыбкою.
Голицын вгляделся в нее и вдруг понял: что-то было в ней такое жалкое, что у него сердце упало.
– Если я обидел вас, простите, Голицын, ради Бога, не сердитесь на меня. Разве вы не видите, что я в таком положении, что на меня сердиться нельзя?..
Что-то задрожало, задвигалось в недвижном лице, как маска, готовая упасть.
– Лежачего не бьют, – прибавил он с усилием, опустился на диван и закрыл лицо руками.
Голицын с минуту подумал, вышел в переднюю, позвал денщика, велел сказать, чтоб лошадей откладывали, вернулся к Пестелю, сел рядом и положил ему руку на плечо.
– Я отвечу на ваш вопрос, Павел Иванович: я знаю, что надо делать, но не могу, и что это подлость – тоже знаю. Как видите, мое положение не лучше вашего…
Пестель посмотрел на него, как будто только теперь увидел лицо его.
– Прошу вас, Пестель, – продолжал Голицын, – ответьте и вы на мой вопрос. Зачем вы сказали мне давеча о вашем предательстве? Вы знали, что я не поверю. Зачем же? Или подозревали меня, испытывали?
– Нет, не вас, а себя испытывал…
– Ну и что же?
– Вы правы: я этого не сделаю. А как я дошел до этого, хотите знать?
– Лучше не надо, Пестель! Потом когда-нибудь, а сейчас вам трудно.
– Думаете, стыдно? Нет, ничего. После того, что вы обо мне знаете, мне уж стыдиться нечего…
Помолчал, подумал и начал:
– Помните, Гамлет говорит: «совесть всех вас делает трусами». Я имею золотую шпагу за храбрость, но я трус, не перед смертью, а перед мыслью, перед совестью трус. Чтобы что-нибудь сделать, не надо слишком много думать. «Бледнеет румянец воли, когда мы начинаем размышлять», – это тоже Гамлет сказал, я теперь все «Гамлета» читаю. А я не могу не размышлять; люблю мысль без корысти, без пользы, без цели, мысль для мысли, чистую мысль. Я только в мысли и живу, а в жизни мертв. Я не злодей и не герой, а обыкновенный человек, добрый, честный немец. Вот книжки читать люблю. Почитываю, пописываю; 12 лет писал «Русскую Правду» и мог бы писать еще 12 лет. Как Архимед, делаю математические выкладки в осажденном городе; пропадай все, только бы сошлись мои выкладки. Говорю не думая: надо царя убить. И как будто чувствую, что это так; как будто ненавижу его; а подумаю: за что ненавидеть? За что убивать? Обыкновенный человек, такой же, как все мы; средний человек в крайности. И ненависти нет, и воли нет. И так всегда со всеми чувствами. Никаких чувств, один ум; ум полон, а сердце – как пустой орех…
– Вы на себя клевещете, Пестель: одно великое чувство есть у вас.
– Какое? Любовь к отечеству? Я и сам думал, что люблю. Но нет, не люблю. Да и что такое любовь? Полюбить – выйти из себя, войти в другого? Сделать так, чтобы я был не я? Фокус, что ли? Или вера? Чудо? По логике, нельзя верить, нельзя любить: логика – дважды два четыре, а любовь – чудо, дважды два пять. В Евангелии: «любите, любите…» Ну а что же делать, если нет любви? Это как совет утопающему вытащить себя за волосы. Злая шутка. Хоть убей, не люблю. И чем больше стараюсь, тем меньше люблю… Нет, в самом деле, Голицын, что же делать, что делать, если нет любви? Молиться, что ли? Вы в Бога веруете?
– Верую.
– В какого? Что такое Бог? Говорят, Бог есть любовь. А у нас тут, в Линцах, намедни свинья двухлетней девочке голову отъела. Девочка невинна, и свинья – тоже, а все-таки Бог есть любовь? Мой друг Барятинский – плохой поэт, но он хорошо сказал, лучше Вольтера:
En voyant tant de mal couvrir le mond entier,
Si Dieu même existait il faudrait le nier[125]125
Если бы Бог и, существовал, то мы, видя, сколько в мире зла, должны бы отречься от Бога (франц.).
[Закрыть].
Помните, я вам в Петербурге говорил, что умом знаю о Боге, а сердцем Его не хочу? И без Бога довольно мучений. Я видел под Лейпцигом предсмертные мучения раненых: мороз и сейчас продирает по коже, как вспомню. И ведь каждый-то из них знал, что волос с головы его не упадет без воли Отца Небесного… А по взятии Лейпцига нашел я в одной аптеке яд, купил его и с тех пор всегда ношу при себе.
Отпер ящик в столе, вынул пузырек и показал Голицыну.
– Вот свобода, кажется, большая, чем во всех республиках, – от всего, от всего, а главное – от себя свобода… Я говорил давеча: одно из двух – уничтожить заговор или уничтожить царя; но, может быть, есть и третье: уничтожить себя. Цицерон полагал в самоубийстве величие духа. И в «Меропе» у Вольтера, помните:
Quand on a tout perdu, quand il n’ya plus d espoir,
La vie est une honte et la mort un devoir[126]126
Когда все погибло и больше нет надежды. Жизнь есть позор, а смерть есть долг (франц.).
[Закрыть].
Да, умереть с достоинством – последний долг… А вы и в бессмертье души, Голицын, верите?
– Верю.
– Я понимаю, что можно верить, но как желать бессмертия, не понимаю, – продолжал Пестель. – Так устаешь от жизни, что, кажется, мало вечности, чтобы отдохнуть. Это как ночлег, о котором думаешь, когда трясешься на почтовой телеге в знойный день: на простыни свежие лечь, протянуться, вздохнуть и уснуть…
Полузакрыл глаза, облокотился на стол, опустил голову и сжал ее обеими руками.
– Что я хотел? Погодите-ка, что-то важное, да вот забыл, все забываю. Должно быть, от жара мысли мешаются… Я двадцать лет молчал и вдруг заговорил. Я с вами говорю, Голицын, потому что вы слушать умеете. Слушать трудно, труднее, чем говорить, а вы умеете. Когда вы так в очки смотрите, то похожи на доктора или на доброго лютеранского пастора. Я ведь лютеранин. У меня был один учитель в Дрездене, господин фон Зейдель, добрый старый немец, гернгутер, большой мистик. Тоже в очках, немного на вас похож. Читал Апокалипсис и говорил, что понимает все до точности. И Лютеров псалом пел: Eine feste Burg is’t unser Gott[127]127
Град крепкий – Господь наш (нем.).
[Закрыть]. Так хорошо пел, что нельзя было слушать без слез… А знаете, Голицын, когда жар и сидишь долго один, уставившись глазами в темный угол, то все кажется, что там кто-то. Видишь, что нет никого, а кажется… Вот и теперь. Думаете, брежу? Нет… только не надо в угол смотреть… А вон там у меня, на столе, портрет: это Софи, сестра моя. Красавица, не правда ли?.. Я вам говорил, что никого не люблю. А ее люблю. Но ведь это не та любовь. Христос говорит: «кто матерь Моя, кто братья Мои?» А кстати, Голицын, или некстати, ну да все равно, вы ведь в Тульчине с Луниным виделись?..
– Виделся.
– Рассказывал он вам, как умирающий отец его явился к нему в самую минуту смерти? Какой-то магнетизм, что ли? А может быть, и шарлатанство. Лунин верит насильно, сломал себя, чтобы верить, а все-таки не очень верит… Больные в жару видят то, чего нет. А по Канту, и здоровые: весь мир – то, чего нет, привидение… А хотел бы я увидеть хоть маленькое привиденьице. Если очень, очень желать, то, может быть, и увидишь… Э, черт, все не о том… А не знаете ли, Голицын, что раньше написано: «Политика» или «Метафизика» Аристотеля? Кажется, надо бы раньше «Метафизику». Eine feste Burg ist unser Gott[128]128
Град крепкий – Господь наш (нем.).
[Закрыть]. У св. Августина политика – Град Божий. А у меня – Град без Бога. По «Русской Правде», попы – те же чиновники. А ведь этого, пожалуй, мало?.. Я хоть и немец и лютеранин, а люблю православную службу, и ладан, и пение. Когда по Киевской лавре хожу, все монахам завидую. О, beata solitude, о, sola bêatitude![129]129
О, блаженное уединение, о единственное блаженство! (лат.).
[Закрыть] После революции в лавру уйду и сделаюсь схимником. Кроме шуток, этим кончу… Только все не о том, все не о том…
Остановился, потер лоб рукою, улыбнулся, поморщился детски-беспомощно, так же как давеча, когда глотал хину.
– Вам бы лечь, Пестель, вы больны, – сказал Голицын.
– Ничего, маленький жар. От этого мысли яснее, хотя и мешаются. Хотите чаю?.. Ах да, наконец-то вспомнил! Вы «Катехизис» Муравьева знаете?
– Знаю.
– Странно. Муравьев думает, что мы против царя со Христом, а царь думает, что он против нас со Христом. С кем же Христос? Или ни с кем? «Царство Мое не от мира сего». А как же Град Божий? Тут что-то неладно. Уж не лучше ли просто по-моему: попы – чиновники, политика – Град человеческий – и дело с концом? Муравьев, кажется, хочет свой «Катехизис» в народ пускать, все о народе хлопочет, о малых сих. А народ ничего не поймет. Да и что такое народ? Я полагаю, что он всегда будет тем, что хотят личности. Вы скажете: плохая демокрация? Да, об этом говорить вслух не надо… А что вы думаете, Голицын, Муравьев может убить?
– Думаю, может.
– Удивительно! Любит всех, любит врагов своих, кажется, мухи не обидит, а вот может убить. Убьет, любя. Наполеон говорил: «Такому человеку, как я, плевать на жизнь миллиона людей». Это понятно и просто, слишком просто, почти глупо. Говорят, что я в Наполеоны лезу. Но я бы так не сказал, а если б и сказал, не гордился бы этим. Но это понятно. А убивать, любя? Погубить душу свою, чтобы спасти ее, – так, что ли?.. Вы по-немецки читаете?
– Читаю. Но, Пестель, зачем вы?..
– Нет, нет, слушайте.
Он открыл лежавшую на столе большую, в кожаном переплете с медными застежками, ветхую Лютерову Библию.
– Я теперь все Библию читаю – Шекспира и Библию. Говорят, кто Библию прочтет, с ума сойдет. Может быть, я оттого и схожу с ума. Слушайте: «Можешь ли удою вытащить Левиафана? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсти его? Крепкие щиты его – великолепие; на шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Нет на земле подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости». – Левиафан был в Наполеоне, когда он говорил: «Мне плевать на жизнь миллиона людей». И в свинье, которая отъела девочке голову. И это верх путей Божьих? Да, можно с ума сойти! Английский философ Гоббс назвал государство свое Левиафаном, а св. Августин – Градом Божиим. А мой учитель, господин фон Зейдель, полагал, что Левиафан есть Зверь Апокалипсиса. Не разберешь, где Бог, где Зверь. Все спутано, все смешано… Это и значит – убивать с Богом, убивать, любя… Так, что ли?
– Нет, Пестель, не так. Зачем вы смеетесь? Ну зачем, зачем вы мучаете себя?
– Я не смеюсь, Голицын, я только мучаюсь, или кто-то мучает меня, убивает, любя… Должно быть, я не понимаю тут чего-то главного… Муравьев однажды сказал обо мне: «Есть вещи, которые можно понять лишь сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума». Я ничего не понимаю сердцем, я сердцем глуп. А вот у Муравьева сердце умное. Я мог бы его полюбить. Скажите ему это, когда увидите его. А ведь он не любит меня?..
– Не любит, потому что не знает, – возразил Голицын.
– А вы знаете?
– Знаю. Теперь знаю.
Голицын улыбнулся. Пестель – тоже, и от этой улыбки лицо его вдруг помолодело, похорошело, как будто мертвая маска упала с живого лица, и он сделался похож на портрет шестнадцатилетней девочки, который стоял на столе.
– Вы сами себя не знаете, Пестель, – продолжал Голицын, – вы с Муравьевым очень не похожи и очень похожи.
– И я мог бы убить, любя?
– Нет, не могли бы. Вы не другого, а себя убиваете. Но это все равно. Вы тоже губите, уже почти погубили душу свою, чтобы спасти ее… Слушайте.
Голицын взял Библию, открыл Евангелие от Иоанна и прочел:
– «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но возрадуется сердце ваше»…
Пестель молчал и улыбался, но лицо его побледнело так, что Голицын боялся, что ему сделается дурно.
– Ну а теперь давайте спать, Павел Иванович! Мне завтра ехать рано.
Голицын позвал денщика и велел подавать лошадей на рассвете.
– Куда вы едете? – спросил Пестель.
– В Лещинский лагерь под Житомиром. Там сбор Васильковской управы и Общества Соединенных Славян.









































