Читать книгу "Александр I"
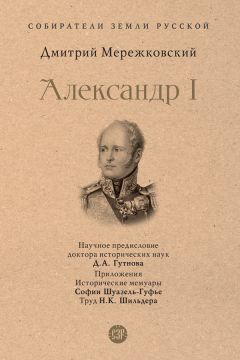
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Дежурный камердинер Мельников доложил государю об архимандрите Фотии. Государь велел принять.
Потайной зубовской лестницей, такой темной, что среди дня ходили по ней с огнем, введен был Фотий во дворец.
В былые годы раздавалось по ночам на этой лестнице мяуканье, которым фрейлины звали юного кота к дряхлой кошурке, Платона Зубова – к Бабушке; а потом к внуку пробирались тайком на духовные беседы статская советница Татаринова – хлыстовка, Крюденерша-пророчица, придворный лакей Кобелев – посол скопческого бога Селиванова и граф Жозеф де Местр – посол римского папы, и английские квакеры, и русский юрод, барабанщик Никитушка, и еще много других.
Идучи по лестнице, Фотий крестился и крестил все углы, переходы, и двери, и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих».
Когда вошел в кабинет государя, тот встал навстречу ему и хотел подойти под благословение. Но Фотий как будто не видел его; искал глазами по углам, перебегая взором от мраморной Паллады над каминным зеркалом к триумфальным колесницам и крылатым победам на потолке. Там, под ними, в углу, нашел, наконец, образок. Истово, медленно перекрестился и тогда только взглянул на государя.
Тот понял: сначала Богу поклонись, Царю Небесному, а потом – земному. Понравилось.
– Благословите, отец Фотий!
– Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Благослови тебя, Господи!
Тем же истовым, широким крестом перекрестил его так, как простых мужиков крестит сельский священник. Опять понравилось.
Государь поцеловал руку монаха, и тот не отдернул ее, как будто даже нарочно сунул, почти с грубостью. Этого учить не придется, как прочих, чтоб не кланялся в ноги царю – скорее сам потребует, чтобы ему поклонился царь.
Страхом расширенными глазами смотрел Фотий на государя; но то был страх нечеловеческий; продолжал, как давеча, на лестнице, крестить себя, крестить во все стороны воздух; еще большие тьмы вражьих сил живут здесь, близ царя, а может быть, и в нем самом.
– Прошу вас, присядьте, ваше преподобие…
Государь запнулся: не был уверен, что архимандрита зовут преподобием; нетверд был в церковных чинах, как и в русском языке вообще, когда речь шла о предметах духовных: привык говорить о них по-французски и по-английски.
Фотий сел, но не там, где государь указывал, рядом с собой, а поодаль, у окна, неловко, на самый край стула.
– Я очень рад вас видеть, – продолжал государь, затрудняясь и не зная, с чего начать. – Я много слышал о вас от князя Голицына… и от графа Аракчеева, – поспешил прибавить, вспомнив, что Фотий Голицыну враг. – Я давно желал договорить с вами о делах церкви, которые, к душевному прискорбию моему, не так идут, как следует. Об одном прошу вас: говорите всю правду… Если бы вы знали, отец, как редко слышу я правду и как в этом нуждаюсь, – заключил с искренним чувством.
– Государь всемилостивейший, ваше императорское величество! – начал было Фотий торжественно, видимо, заранее приготовленную речь, но вдруг остановился, как будто забыл все, что хотел сказать; вытер платком пот с лица, растерянно махнул рукою, приподняв полу рясы, открывая высокий мужичий сапог, и вынул из-за голенища пачку листков, мелко исписанных.
– Тут все, все, – забормотал, торопясь и оглядываясь: – если хочешь знать все, государь, слушай… Тут все, по Писанию, до точности…
И прочел заглавие:
«План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо».
Государь плохо слышал – был туг на ухо – и думал о другом: вспоминал рассказы Голицына о Фотии.
Сын бедного сельского причетника, родился на соломе, в хлеву, как оный Младенец в яслях вифлеемских. Всю жизнь был в бедах, ранах, болезнях, биениях, потоплениях многократно; нищ, наг, хладен и гладен. Когда учился в петербургской семинарии, бегал по праздникам из Лавры на Васильевский, к тетке, за концом пирога или пятачком на сбитень. Служа в первом кадетском корпусе законоучителем, вступил в борьбу с масонами, иллюминатами, мистиками и прочими слугами антихристовыми. Исполнившись Ильиною ревностью[52]52
Ветхозаветный пророк Илья безбоязненно обличал идолопоклонство и нечестие при царе Ахаве и его жене Иезавели.
[Закрыть], небоязненно голос свой, как трубу, возвышал; как юрод ходил всюду; вопиял, обличал, хотел взять штурмом крепость вражью. На корпусном дворе, в присутствии кадет, собрав кучу книг еретических, сжег в огне с громогласной анафемой. Подкупил слуг в домах, где происходили сборища мистиков; слуги проламывали стены под потолком, просверливали дыры, и он наблюдал за тем, что творилось внизу, а потом доносил митрополиту или обер-полицеймейстеру. Наконец враги обещали будто бы миллион за убийство Фотия. Он бежал от них при помощи кадет, выскочив ночью в одной рубахе через окно в сад и через стену сада на улицу. Боролся с бесами, которые являлись ему в страшных подобьях телесных, били его и таскали за волосы до бесчувствия или, в образе ангелов светлых, искушали хитрою лестью: «Преподобный отче Фотий, сотворил бы ты некое чудо – перешел бы у дворца по Неве, яко по суху». Был девственник, плоти истязатель, великий постник; носил железные вериги, спал в гробу, целыми неделями питался одним липовым цветом с медом, как Божья пчела, даже чая не имел у себя в келье, а пил укропник. Так ослабевал от поста, что едва стоял на ногах и шатался, как тень; дрожал в вечном ознобе и летом ходил в шубе. В Страстную же седьмицу[53]53
В Страстную неделю (седьмица – церковнослав. – неделя), т. е. в неделю Страстей (Страданий) Христа.
[Закрыть] желудок его в ореховую скорлупу сжимался, и потом, чтобы привыкнуть к пище, постепенно увеличивая приемы, развешивал ее как лекарство, на аптекарских весах.
Вспоминая все это, государь с любопытством вглядывался в лицо Фотия.
Худенький, сухонький, востренький, будто весь колючий с колючими, как рыбьи косточки, быстро сверкающими серыми глазками, хищными, как у хорька, с пушистыми, рыжими, как хорьковый мех, волосами и рыжей бородкой; сквозь прозрачно-восковую бледность кожи проступает синева пятнами, как на лице покойника. Не посидит на месте, все шевелится, боязливо оглядываясь, тоже как дикий хорек в клетке. Но в этой дикости – что-то жалкое, детское, что внушало невольное желание погладить и приручить его – только бы не укусил.
Фотий продолжал читать, бормоча себе под нос, невнятно, быстрым задыхающимся шепотом, – отдельные слова долетали до государя, похожие на бред.
«Число звериное 666[54]54
Зверь в восточной символике означал разрушительные стихии, злую силу. Действуя по воле сатаны, Зверь несет в себе его черты. Число 666 – имя антихриста, в греческом, как и в церковнославянском, алфавите каждая буква имеет цифровой эквивалент, соответствующий ее месту в алфавите.
[Закрыть]. Се – тайна последних времен, тайна великая. На 1836 год готовится царство Зверя… Пароль на все наложен: раскопать алтари и разрушить престолы… Под видом тысячелетнего царствования, феократического правления – новая религия во грядущего Антихриста… всемирная революция»…
– Прошу вас, отец Фотий, – остановил его государь, – я плохо слышу на левое ухо, пересядьте сюда, поближе.
Фотий вздрогнул и дико воззрился, но тотчас пересел, продолжал читать. Государь слушал и не верил ушам своим: Священный Союз – революционный заговор.
– Как же так, отец Фотий? О тысячелетнем царствии святых на земле не молится ли сама церковь?
Это слышал он от Голицына; тот именно так объяснял Священный Союз, о котором, при заключении его, объявлено было торжественно, во всех церквах Российской империи.
– Чего молиться? Все исполнилось, – проворчал Фотий сердито.
– Когда же? Где?
– Со дней святого Константина Равноапостольного – в церкви православной, кафолической[55]55
Вселенской, всемирной.
[Закрыть]; иного же царства не будет. Так отцы предали, так и мы веруем. А что сверх сего, то от лукавого…
Государь не возражал более, но покачал головой сомнительно: войны, смуты, революции, разделение церквей, братоубийственная ненависть народов – это ли царство Божие на земле, как на небе?
– Тут все у меня, все по Писанию, до точности. Вот слушай…
Опять засуетился, отыскивая нужные листки, лазил за голенища, за отвороты рукавов и за пазуху; весь был обложен доносами, как воин доспехами.
Государь испугался, что чтение никогда не кончится.
– Знаете что, отец Фотий: оставьте мне ваши записки, я прочту ужо внимательно, а теперь поговорим. Скажите мне все, что на сердце у вас…
Фотий начал было снова суетиться, креститься, но вдруг положил листки на стол, привстал, наклонился, вытянул шею, приблизил губы к самому уху царя и зашептал уже внятным шепотом:
– Как пожар, в России вскоре возгорится революция; уже дрова подкладены и огонь подкладывают… Министерство духовных дел, Библейское Общество, иллюминаты, масоны и прочих мистиков сволочь зловредная – один всеобщий заговор. Готовится вдруг всегубительство. Торжественно о том опубликовано, дабы мечи взять и всех заколоть нечаянно… А всему причина главная, всем злодеям злодей – знаешь кто?
– Кто?
– Голицын.
– Что вы, отец? Я князя Александра Николаевича знаю вот уже тридцать лет: вместе росли, люблю как родного. Да если он, то и я…
– И ты, и ты, государь благочестивейший, помазанник Божий, сам себе, по неведению, изрываешь ров погибели. Если не покаешься, будешь и ты в сетях дьявольских!..
Вскочил и, весь дрожа как лист, глядя на него горящими глазами, закричал неистово:
– С нами Бог! Господь сил с нами! Что сделает мне человек? Ты, царь, можешь все: наступишь на меня, яко путник на мравия, – и нет меня… Казни же, убей, возьми душу мою! Ничего не боюсь! На всех врагов Господних – анафема!..
В поднятой руке его что-то блеснуло как нож: то был крест.
Государь тоже встал и невольно отступил. «Сумасшедший!» – промелькнуло в голове его.
– Да воскреснет Бог и да расточатся врази его! Яко тает воск перед лицом огня, да исчезнут! – потрясал Фотий крестом, как ножом. – Если и ты, царь, не послушаешь, одно осталось: взять в одну руку Евангелие, в другую – крест и на площадь пойти, возгласить в народ: «Православные, ратуйте!» И вся Россия узнает… Многие вступятся… Революция, так революция! С нами Бог! Господь сил с нами! Пошли, Боже, громы твои, блесни молнией и разжени врагов! О Господи, спаси же! О Господи, поспеши же!..
С воплем, ломая руки, упал к ногам государя; трясся весь, как в припадке.
– Встаньте же, встаньте, прошу вас, не надо… – старался его поднять государь.
Но Фотий не вставал, ухватившись за него руками судорожно, как утопающий.
– Спаси, защити, помилуй, царь мой, Богом данный, возлюбленный! Я тебе верный слуга, яко Богу… Хочешь, все скажу, все?.. Как план революции вдруг уничтожить тихо и счастливо?
И опять зашептал ему на ухо:
– Было мне от Господа видение: шли мы втроем по воде, яко по суху, – я, ты и он…
– Кто он? – с каким-то суеверным страхом спросил государь.
– Граф Аракчеев, – ответил Фотий. – Граф Аракчеев – столп отечества, муж преизящнейший. Яко Георгий Победоносец явится; верен, правдив, церковь Божию истинно любит; ему можно все поверить – все сделает… И я с ним. Я, ты и он. Вместе втроем, по воде, яко по суху… Государь батюшка, ваше величество, в двенадцатом году победил ты Наполеона телесного; самого же Антихриста, Наполеона духовного, победить можешь ныне в три минуты одною чертою пера! Только указ подпиши: Общество Библейское закрыть, Голицына удалить, министерство духовных дел упразднить – и в три минуты, в три минуты одною чертою пера уничтожишь всю революцию!..
Встал, но не удержался на ногах и в изнеможении, почти в беспамятстве, упал на стул; рыжие волосы прилипли к потному лбу; смотрел в одну точку бессмысленно, как будто ничего не видел и не сознавал, где он, что с ним. Синева проступила еще больше сквозь трупную бледность лица; кончик носа заострился, как у мертвого.
«Сумасшедший? – думал Александр. – Почему сумасшедший? Потому ли, что красно говорить не умеет – не царедворец в рясе, а простой мужик, неученый, немудрый, как те галилейские рыбари, коих избрал Господь[56]56
Апостолы Петр, Андрей, Иоанн и Иаков были галилейскими рыбаками.
[Закрыть], дабы пристыдить мудрых века сего? И не все ли почти правда, что он говорит? Не в Голицыне же дело. А что сам я служил духу своеволия безбожного, духу революции сатанинскому и теперь еще, быть может, служу, по неведению, – разве не так? И откуда он знает, как будто прочел в сердце моем? Полно, уж не он ли муж Господень в духе и силе, для моего спасения посланный?..»
Фотий очнулся, зашевелился и с трудом, через силу, встал на ноги: должно быть, понял, наконец, что нельзя сидеть, когда царь стоит; понял также, что беседа кончена. Торопливо достал откуда-то забытый листок, приложил к остальной пачке на столе государевом. И опятяь что-то было детское, жалкое в этом движении, отчего государь еще сильнее почувствовал, что обидел его.
– Отец Фотий, – проговорил он, взяв его за руку, – обещаю вам обо всем, что вы мне сказали, подумать и, верьте, все, что могу, сделаю… А если что не так сказал – простите, Бога ради, и помолитесь за меня, прошу вас, очень прошу…
Как это часто с ним бывало, умилился и растрогался от собственных слов.

Медленным движением, морщась от боли в ноге – но чем больнее, тем приятнее, – опустился на колени перед Фотием; красоту смиренного величия своего тоже почувствовал, как будто увидел себя в зеркале, – и еще больше растрогался; что-то подступило к горлу, защекотало привычно-сладостно.
Вот кому исповедаться во всем, сказать все, как Самому Христу Господню, – самое страшное, тайное – об этой вечной муке своей – о пролитой крови отца: уж если он простит, разрешит на земле, то будет разрешено и на небе.
И о красоте не думая, почти не сознавая, что делает, государь поклонился в ноги Фотию.
Упоительней, чем запах мускуса от черных кружев баронессы Крюденер, был запах дегтя от мужичьих сапог. И так легко стало, как будто кровавая тяжесть венца, которая всю жизнь давила его, вдруг спала на одно мгновение.
Радость засверкала в глазах Фотия, и он положил руки на голову царя, как на свою добычу.
– Благослови тебя, Господи!
Потом наклонился и еще раз шепнул ему на ухо:
– Помни же, помни, помни: вместе втроем – я, ты и он!
Уходя в одну дверь, Фотий увидел в другой, чуть-чуть приотворенной, глаз Аракчеева: он подслушивал и подглядывал.
Когда Фотий ушел, дверь приотворилась шире и Аракчеев, не входя, просунул голову.
– Алексей Андреич, ты? – позвал государь тем осторожным голосом, которым говорил с ним одним: так любящий говорит с тяжелобольным любимым другом. – Войди.
Аракчеев вошел.
Глава седьмаяДавняя вражда двух царских любимцев, Аракчеева и Голицына, в последнее время так усилилась, что самому государю от них житья не стало. Надо было сделать выбор и кем-нибудь из двух пожертвовать. Но в обоих нуждался он одинаково: в Аракчееве – для дел земных, в Голицыне – для дел небесных.
Голицын обратил государя в христианство: вместе молились, вместе читали Писание, вместе издавали сочинения мистиков, устраивали Библейское Общество и Священный Союз, мечтали о Царствии Божием на земле, как на небе. А без Аракчеева, как без рук и без ног, – пошевелиться нельзя.
И хуже всего было то, что Аракчеев, как подозревал государь, вступил в заговор против Голицына с митрополитом Серафимом и Фотием. Голицына все духовенство ненавидело, но скрывало ненависть, покорялось и терпело молча. Когда же явился Фотий, то осмелело и взбунтовалось.
– Голицын патриархом стал, все священство разрушил, все себе в руки забрал! – вопил Фотий, и повторяли за ним другие. – Из Святейшего Синода министерскую канцелярию сделал и един, просто сказать, нечистый заход…
Между Синодом и министерством началась такая свара, что хоть святых вон выноси. Но государь надеялся, по своему обыкновению, примирить непримиримое, сделать так, чтоб и овцы были целы и волки сыты.
Об этом и хотел говорить с Аракчеевым. Но слишком скрытны были оба, чтобы начать сразу; говорили о другом, ходили вокруг да около, притворялись, точно в жмурки играли; высматривали и ощупывали друг друга, как бойцы перед битвою.
Государь хвалил Фотия; Аракчеев поддакивал.
– Святой человек, ваше величество, батюшка, воистину святой. Таких только два и есть у нас: отец Фотий да отец Серафим, подвижник Саровский…[57]57
Преподобный Серафим Саровский (1759–1833), один из наиболее чтимых русских святых.
[Закрыть]
Как все глухие, государь был застенчив и мнителен: не любил, когда говорили слишком громко, – это напоминало ему глухоту; а когда тихо – боялся не расслышать. Один Аракчеев умел говорить, не возвышая голоса, но так внятно, что государь слышал каждое слово.
– Как же нам, Алексей Андреич, с Голицыным быть? – начал он с притворною беспечностью, убедившись, наконец, что Аракчеев об этом первый ни за что не начнет; но, взглянув исподлобья, украдкою, – по лицу его, сразу окаменевшему, понял, что дело плохо.
– Уж не знаю, право, как быть? – продолжал государь боязливо и вкрадчиво. – Все дела стали, просто беда… Съездил бы ты к митрополиту, поговорил бы с ним – может, и помирятся? Устроил бы как-нибудь… сделай это для меня, голубчик…
– Рад стараться, ваше величество! Как повелеть изволите, так и сделаю, – ответил Аракчеев по-солдатски, сухо, почти грубо, и лицо его еще больше окаменело.
– Только не подумай чего, ради Бога, Алексей Андреич! Я ведь только так… Если ты… если тебе… – начал государь и умолк под каменным безмолвием своего собеседника – вдруг испугался, растерялся окончательно; уже не рад был, что заговорил.
Долго молчали оба, не глядя друг на друга.
– Ваше величество, – произнес, наконец, Аракчеев тем глухим, уныло-торжественным, как будто замогильным голосом, которого боялся государь пуще всего, – почитаю себя в обязанности, по долгу верноподданного, говорить всю правду вашему величеству: вы столько были ко мне милостивы, что сами приучили меня к тому. И ныне, боясь гнева Божьего…
– Да нет же, нет, Алексей Андреич, я не о том, – тщетно пытался государь остановить его.
– …И ныне, боясь гнева Божьего, – продолжал Аракчеев неумолимо, – скажу вам всю правду, как перед Богом истинным. Я ничьих дел не знаю, а только видя на опыте, что злых людей больше, чем добрых, и всегда худого больше на свете, чем хорошего, поставил себе непременным правилом никакого не иметь ни с кем знакомства и единственно своею заниматься должностью. Но грешно мне было б не открыть того, что знаю, вашему величеству. Князь Александр Николаевич Голицын…
Голос его оборвался, визгливый, пронзительный, плачущий. Государь слушал, уже не пытаясь остановить, покорно наклонив голову, с таким же виноватым лицом, как давеча тот старый генерал, которому Аракчеев делал выговор.
– Князь Голицын – царю и отечеству враг, злодей государственный. Появление книг богоотступных пронзает горестью сердца благомыслящих подданных. Уже и в подлом народе от чтения рассылаемых повсюду Библий о вольности толки рождаются. Далеко ли до бунта? Заражение умов есть генеральное… неблагонамеренность, разврат и революция…
Со страхом ждал государь, что он заговорит о Тайном Обществе. Но и теперь, как всегда, Аракчеев говорил так, что нельзя было понять, знает он или не знает, держал угрозу как меч, над головой царя.
– Впрочем, буди воля вашего величества, а я изъяснил мысли мои, по слабому моему разумению; молчать и повиноваться не стать мне учиться в пятьдесят один год от роду, с самых юных лет жизни моей приобыкнув к сему. Как прикажете, так и сделаем, – заключил он, вставая и вытягиваясь как во фронт: руки по швам.
– Алексей Андреич, Алексей Андреич! – воскликнул государь горестно. – Ты знаешь, как я тебе… – хотел сказать: «предан», – как я тебя люблю… Сколько лет вместе! И вот неужели же, неужели теперь?..
Что теперь будет – предвидел: хотя по давнему опыту мог знать, что ничего не будет, но при каждой ссоре боялся, что Аракчеев уйдет от него, и он пропал.
– Я, ваше величество, батюшка, знаю, что как милостей ко мне ваших нет примера, так и преданности моей нет пределов. Ни разума столько, ни слов не имею, чтобы изъяснить вам всю благодарность мою. Но, чувствуя слабость здоровья, должен просить увольнения. Старость пришибла, кости болят; час от часу слабею, таю как воск. Пора на покой, надобно и честь знать. Прошусь совсем прочь от дел, кои мне наскучили и здоровье мое тяготят, по прямому моему карахтеру… Пусть уж другие, а я не могу, не могу… Нет льсти на языке моем… Правдивая душа в Бозе почивающего благодетеля моего, государя императора Павла I, призирает с горних и одобряет чувства, меня одушевляющие…
Поднял глаза к небу и начал всхлипывать, сперва тихо, потом все громче и громче. Государь смотрел на него с возрастающим ужасом: слез его не мог вынести.
– Алексей Андреич! Алексей Андреич! – повторял с мольбою. – Что ж это такое? За что? Господи, Господи!..
И всплескивал руками, и протягивал к нему руки, и хватался за голову.
– Увольте, увольте, батюшка! – вдруг зарыдал Аракчеев, закашлялся, задохся, затрясся весь как в припадке, повалился на стул и сквозь кашель и плач завизжал каким-то не своим, тонким, страшным, бабьим голосом. – На покой, на покой! В Цуруканскую крепость! Плац-майором! По шапке дурака старого! Аракчеев – изверг! Аракчеев – змий! Аракчеев – гадина!..
Государь вскочил, весь бледный, дрожащий, и, пока тот отхаркивал мокроту в платок, смотрел, не будет ли крови: давно уже пугал его Аракчеев своим кровохарканьем. Вдруг, отчаянно махнув рукой, государь тоже повалился в кресло, уперся локтями в стол, стиснул руками голову и закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать.
Аракчеев высморкался оглушительно, мало-помалу затих, посмотрел на него украдкой, долго, спокойно и проницательно, как бы решая, готов ли он; решил: готов. Тихонько встал и, весь изогнувшись, крадучись на цыпочках, подошел – черная тень на серой стене промелькнула, как тень исполинской ночанки. Опустился на колени, на коленях подполз.
– Прости, батюшка! Огорчил я тебя, прости старика глупого, ради Христа…
Тихонько взял руку его и поцеловал. Государь вздрогнул, обернулся, с боязливой улыбкой, как будто не веря своему счастью, посмотрел на него и вдруг весь просиял, заплакал, бросился к нему на шею. Лицо у него было в эту минуту такое же, как у Софьи, больной девочки, когда она к нему ласкалась давеча.
– Алексей Андреич, дружочек миленький… Ты меня прости за все!.. И не надо больше, не надо об этом. Ну разве я… Боже мой, Боже мой, разве я могу без тебя? Да если б ты от меня…
– Не уйду, батюшка, не уйду, небось! Куда мне? Только ты да Бог – больше никого не имею на свете…
– А Голицына, – лепетал государь, торопясь и захлебываясь от радости, – Голицына, будь покоен… я и сам хотел… Голицына завтра же не будет!
– Нет, государь, оставь Голицына, не тронь. Ужо к митрополиту съезжу, даст Бог, уладим все.
– Ну, хорошо, хорошо. Все, как ты… как вместе решим… только бы вместе – и все хорошо будет! – проговорил он, глядя на него с блаженной, сквозь слезы, почти влюбленной улыбкой. – Да побереги ты себя, голубчик, ради Бога, о своем здоровье подумай. Ведь кашляешь-то как опять! Простудился, должно быть… А молоко кобылье пьешь?
– Пью, батюшка, пью. Только не молоко, а милость твоя мне лучше всех бальзамов целительных… Ничего больше не надо – умереть бы у ног твоих, как псу издохнуть…
Положил голову на колени государя, прижавшись к руке его мокрою от слез щекою, и смотрел снизу вверх, в самом деле как старый верный пес.
– Одни мы с тобою, одни на свете, батюшка! Сироты бедные. Никто-то нас не любит, никто не жалеет… Вот в отставку выйдем вместе ужо, уедем в Грузино, – лепетал как в бреду, – по полям, по лесам будем гулять, цветки собирать, песенки петь, два брата названые… Только нас двое всего, ты да я, да вот он еще, он промеж нас двух – третий…
Указал на медальон императора Павла I, висевший у него на груди. Всегда в этот день – 11 марта, единственный день в году – вместо портрета царствующего надевал портрет покойного императора. Поднес его к губам благоговейно, перекрестился и поцеловал как образ.
– Прильпни язык мой к гортани моей, аще не помяну тя во вся дни живота моего! – прошептал молитвенным шепотом. – Как ручки-то наши соединил, помнишь?..
Александр кивнул головой молча. В день восшествия своего на престол император Павел I в Зимнем дворце, рядом с комнатой, где умирала императрица Екатерина, соединяя руки Александра и Аракчеева, сказал: «Будьте вечными друзьями».
– А рубашечку помнишь?..
Государь кивнул опять с нежной улыбкой. В тот же памятный день, когда прискакавший из Гатчины на фельдъегерской тележке, под проливным дождем, и промокший весь до нитки Аракчеев должен был переменить белье – Александр дал ему свою рубашку; и он завещал похоронить себя в ней.
– Во сне-то нынче опять видел его, – шептал все тем же благоговейным шепотом.
– Опять?
– Опять, батюшка! Каждый год в эту самую ночь. Марта 11-го каждый год. В прошлом-то году – будто смутненький такой, темненький и личико все отворачивает, шляпочку низко надвинул – лица не видать, вот как в гробу лежал. А нынче будто с открытым личиком, только весь желтенький, жалкенький такой, и на височке на левом малое черное пятнышко…
– Не надо! Не надо! – простонал Александр почти в беспамятстве, закрывая лицо руками.
– Не буду, батюшка, небось, не буду. Прости меня, глупого…
– Нет, говори, говори все. Как же нынче?
– А нынче будто все шейкою вертит. Что это, говорит, какой галстух тугой? Не умеют впору и галстуха сделать! И сердится будто. А потом о тебе говорит: смотри, говорит, Алексей Андреич, чтоб и с ним того же не было. Береги его, будь ему в отца место!
Александр слушал, содрогаясь, холодея весь, как будто доносилась к нему в этом шепоте нездешняя весть.
– «В отца место»… – повторил, рыдая, и прильнул губами к портрету Павла I на груди Аракчеева: ему казалось, что он целует живого отца. Было дальнее, дальнее детство в прикосновении жестких, бритых щек и в запахе старого зеленого мундирного сукна – знакомый казарменный гатчинский запах, запах отца. Последнее убежище, где ему уютно, покойно и ничего не страшно ни в прошлом, ни в будущем – только здесь, на груди Аракчеева, на груди отца, как будто оба – одно, и он уже не различает их.
Плакали оба, и слезы их смешивались. Аракчеев гладил волосы его, ласкал как маленького мальчика. И государю казалось, что ласкает его, прощает отец.
Опомнился, когда Аракчеев кашлянул; затревожился.
– Горяченького бы тебе, дружок? Малины хочешь, аль пуншику?
– Чайку бы! – простонал Аракчеев болезненно.
Государь любил чай, и с Аракчеевым особенно. Захлопотал, засуетился, позвонил камердинера. Знал, что государыня ждет; привыкла во время болезни его пить с ним чай, дорожила этим единственным временем, когда были они вместе. Но послал ей сказать, что не придет, – не задумался пожертвовать ею «другу любезному».
Сам заварил чаю, особого, зеленого, аракчеевского, из свежего цыбика; перемыл чашки, полотенцем вытер тщательно; налил не жидко, не крепко, а в пору как раз. Колол для прикуски мелкие кусочки сахару: знал все его привычки и прихоти. Ухаживал, потчевал.
– Крендельков анисовых? Любимые твои. Сливочек?
– Сырых не пью, батюшка.
– Вареные. Ефимыч знает: сырых не подаст. Видишь, пеночка. Ты с пеночкой любишь?
– Люблю с пеночкой, – вздохнул Аракчеев жалобно и, жалобно дуя губами, сложенными в трубочку, смиренно пил с блюдечка. Государь смотрел на него с умилением, как мать на больного ребенка.
Беседовали о мелочах военной службы – предмет излюбленный, неиссякаемый и всегда успокоительный.
Рассматривали нового образца щеточку для солдатских усов и дощечку для чищения пуговиц. Тут же сделали пробу: вычищенные на мундире Аракчеева пуговицы заблестели как жар. И щеточка оказалась восхитительной.
Потом заговорили о новом указе: «Дабы по всей армии делали шаги в аршин, тихим шагом, по 75 в минуту, а скорым, той же меры, по 120 шагов; и отнюдь бы с оной меры и кадансу[58]58
Ритм (франц. cadence).
[Закрыть] не отступать».
О военном параде на Марсовом поле. В лейб-гвардии саперном батальоне тишины надлежащей в шеренгах не было, много колен согнутых, игры в носках мало и во фронте кашляют.
– Ну а зато измайловцы утешили, батюшка, – заметил Аракчеев. – Ах хороши, молодцы измайловцы! Уподобить должно стенам движущимся: не маршируют, а плывут. Заглядение! Кажись, вели на руки вверх ногами стать, и то пройдут!
– Недурны, – скромничал государь, краснея от удовольствия при этой похвале своему полку любимому. – А все-таки жаль, что, когда стоят на месте, приметно дыхание – видно, что люди дышат…
Вспомнили одного ординарца времен павловских, который выучен был носить стакан воды на кивере, не расплескивая; теперь уже не выучишь: не те люди, не те времена.
Наконец погрузились в бесконечное рассуждение о том, как на обшлаге нового мундира егерского вместо зубчатой вырезки клапана сделать прямую и вместо трех пуговиц – пять.
Лицо у государя было как в детстве, когда играл он в солдатики. И в этой беседе – то же родное, милое, гатчинское, как будто опять между ними двумя – третий он, отец. И хорошо, тихо-тихо, безрадостно, безгорестно, как в вечности. Кажется, что ничего не было, нет и не будет, кроме плутонг, шеренг, эшелонов, батальонов, правильных, тождественных, единообразных человеческих куч, уходящих, подобно щебенным кучам, по обеим сторонам дороги, в бесконечную даль.
На часах пробило десять. Государь опять затревожился: Алексею Андреичу спать пора; поздно ляжет – не заснет. Прекратил беседу на полуслове, велел ему уходить, напомнил о кобыльем молоке, чтоб на ночь выпил. Обнялись на прощанье, перекрестили друг друга.
Когда Аракчеев ушел, государь начал тоже собираться ко сну. Обряд неизменный. Прочел по одной главе из Ветхого Завета, Евангелия, Апостола[59]59
Апостол – часть Нового Завета, включающая Деяния св. Апостолов, Послания св. Апостолов и Апокалипсис (Откровение).
[Закрыть]. Много лет читал вместе с Голицыным одни и те же главы, по расписанию на целый год; иногда, в походах, в путешествии, чтобы не сбиться со счету глав, присылал к нему курьеров за справками из-за тысячей верст.
Перешел в спальню рядом с кабинетом; стал на молитву; стоял недолго, потому что нога болела; а прежде от этих стояний, вечерних и утренних, мозоли на коленях делались.
Умылся, подошел к окну, отворил форточку минут на десять: к «воздушным ваннам» приучила его с детства Бабушка, по совету философа Гримма.
Лег. Постель односпальная, узкая, жесткая, походная, с Аустерлица все та же: замшевый тюфяк, набитый сеном, тонкая сафьянная подушка и такой же валик под голову.
Обыкновенно засыпал тотчас, как ляжет: повернется на левый бок (спал всегда на левом боку), перекрестится, подложит левую руку под щеку, закроет глаза и уже спит таким глубоким сном, что, бывало, дежурный камердинер с камер-лакеями тут же рядом, в спальне, прибирая платье, ходят, стучат, кричат как на улице, потому что знают, что государя «хоть из пушек пали, не разбудишь».
Но после болезни начались бессонницы. Так и теперь – уже засыпал, вдруг послышались голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся – вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. Вздрогнул и проснулся с тяжело бьющимся сердцем. Чтобы успокоиться, стал думать о правильных, подобных движущимся стенам, шеренгах, о пяти пуговицах вместо семи на обшлаге мундира и начал забываться опять. Но Аракчеев зашептал ему на ухо: «Желтенький-желтенький, жалкенький такой… И на височке будто на левом малое черное пятнышко»… Опять вздрогнул, проснулся, широко раскрыл глаза в ужасе – сна как не бывало; почувствовал, что не заснет во всю ночь.









































