Текст книги "Семь колодцев"
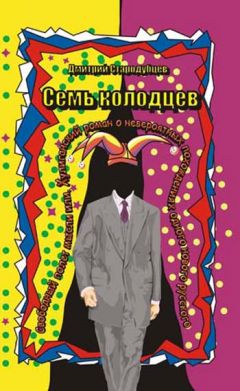
Автор книги: Дмитрий Стародубцев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
72
Я уже давно написал всю эту белиберду, весь этот бред, записки сумасшедшего, этот величайший роман современности (ха-ха-ха! – истерически смеюсь), и рукопись как-то неприкаянно, вся такая забытая, обездоленная (мое солнышко родное!), валялась в большой стопке пожелтевших бумаг, в комнате, где шел самый ужасный ремонт, который я только видел в своей жизни.
Я бы сравнил этот чертов ремонт лишь с каким-нибудь самым разрушительным стихийным бедствием, скорее всего со смерчем в пятьдесят сросшихся воронок или со стобалльным штормом. А по действующим персонажам, картинке, звуку и производимому эффекту – разве что с эпохальным голливудским полотном «Властелин колец», да и то только с третьей частью.
Для меня это был такой катаклизм, будто мне в задницу накачали пятисотлитровую клизму, а потом заткнули известное отверстие титановой пробкой, выдерживающей сумасшедшее давление, и заставили ходить целых полгода. Надеялся я лишь на то, на что всегда надеются в подобных случаях наивные романтики, типа меня, попавшие в жестокую переделку: на то, что добро рано или поздно, по идее, победит зло. То есть сеанс неизменно закончится: Колобок при помощи всемогущего Нео по-любому замочит Бармалея с ядерным зарядом в кейсе, а Красную Шапочку всяко выкупит из борделя какой-нибудь король Лир с ликом Ричарда Гира, в зале вспыхнет торжествующий свет, все возрадуются, отрыгивая газы кока-колы, и с хрустом воздушной кукурузы под ногами неспешно потянутся к выходу, украдкой попукивая после долгого воздержания.
Но пока ремонт продолжался, я подумывал о суициде – смерть Джордано Бруно уже не казалась мне такой уж решительно страшной – или о том, какой ужасной казни подвергнул бы я прораба, попадись мне этот Горлум в средние века где-нибудь на большой дороге между Килиманджаро и Патагонией. Бросить его голодным аллигаторам или посадить на кол? Нет, слишком просто, после всех неприятностей, которые доставила мне эта ушасто-глазастая тварь!
…А мой разнесчастный роман тем временем продолжал безвестно томиться в пыльной стопке бумаг, и никому до него не было ровным счетом никакого дела – ни тем людям, которые знали о его существовании, ни мне самому. Сверху на него что-то с грохотом обрушивалось, сбоку наваливались страшных размеров черные мешки с моими бывшими вещами – бывшими, потому что я уже не чаял их когда-либо увидеть, – а рядом сгружались грязные коробки с керамической плиткой. Через стопку с бумагами перешагивали рабочие с незалежным акцентом, ее пинали походя югославские «майстэры», как эти пройдохи любили себя величать, мимо проносились кровожадные комиссии из районных управ (кто-то все время на меня стучал, будто я-де произвожу незаконную перепланировку).
Почему же, спросите вы, ты не позаботился о том, чтобы надежно сохранить результат своих многомесячных трудов? Ты что, дурак, что ли? Разве нормальные люди так поступают?
Сами вы… Я вам не чушок какой-нибудь, я… я великий МАЭСТРО. ХА-ХА-ХА!..
Вот я вздымаю свою волшебную палочку, музыканты – сто глаз моего симфонического оркестра, мои преданные солдаты, взволнованно следят за ее чарующим полетом, зрители благоговейно перестают дышать, замирают, предвкушая полный клиторально-влагалищно-простатно-семенной оргазм. И вот я начинаю: одним легким движением руки, пальцев, кончиком дирижерской палочки я посылаю свою маленькую, но отважную армию в бой, и в то же мгновение космическое торжество звуков обрушивается на потрясенный зал. Сколько утонченности, страстности, чувственности! Как ошеломляющи эффекты, как выразительны эпизоды! А все эти едва уловимые полумысли, вздохи, умолчания, мимолетные острые диссонансы…
А если честно, ну просто я где-то вот немного рассеянный человек, маленько не в себе. Да и написал я «Семь колодцев» больше для себя.
Я просто не мог носить их в себе. Это больно!
Я должен был каким-то образом извиниться перед Вовочкой и сочинить ему поминальную молитву.
Я должен был рассказать о Вере…
Я должен был рассказать миру правду о Никробрил-продукте.
Я написал, и мне уже стало хорошо.
А этот, как его, типа, народ? – спросите вы.
Забей! Народ обойдется – не впервой! Да и лень мне еще раз с издателями связываться. Это же полный писец – ходить по этим мышиным норам и выдавливать из себя раба по капле. Ведь напечататься – втрое больше трудов, чем написать!
Кстати, забыл сказать: электронный вариант рукописи был утерян при невыясненных интернет-вирусных обстоятельствах. Короче, если честно, я лазал ночью по недетским сайтам и подхватил в какой-то самой отмороженной порнографической клоаке ужасную заразу…
Однажды рабочие выносили мусор и по ошибке прихватили и эту стопку бумаг. Так «Семи колодцев» не стало, и понял я это только месяца три спустя.
Ну, что теперь делать? Надо помянуть!
Жаль!
Мои мысли… Пусть они наивны, как слепые котята. Они утеряны навсегда. И воспроизвести их невозможно.
Добрые старые образы, пусть зачастую невнятные, нелепые.
А еще воспоминания, покрытые ностальгической плесенью… все эти грустные грустные вздохи словосочетаний…
Та моя старая жизнь… ее будто не стало. Не стало наотрез. Будто многотонная гильотина сработала.
Шмяк!
И все!
Только в космосе теперь вечно будут блуждать маленькие невидимые сигналы – мои размышления, мои чувства с легким горьковатым привкусом. Безобидные обрывки моего несовершенного творчества и безбрежно тоскующего разума. Я, Вовочка, Вера, Алеша, Татьяна… вы…
Я построил целую цивилизацию своего внутреннего мира и без всякого Циолковского запустил ее в космос…
В общем, пил я три дня. Самым прозаичным образом. На четвертый день было чудесное, как личико красивой девственницы, утро. (Пошло выразился? Да пошли вы!) Спутанными клубками роились вокруг меня сочные воздушные струи. С далеких лесов и полей они принесли волшебную свежесть, насыщенную ветреными ароматами, и оттенили приторные миазмы моего дыхания. (Во рту говно! – говорил в таких случаях Вовочка.) Было по кайфу после нескольких потных дней хмельного угара в четырех стенах с видом из окна на четыре других стены, выпить внахлест – то есть стакан за стаканом, этого сладчайшего воздушного коктейля, захлебнуться его простой и одновременно совершенной истиной.
Я ждал Петруху на лавочке у собственного подъезда.
Час, другой.
Голова дымилась, будто ее жарили на шампурах, не обрызгивая при этом ни вином, ни хотя бы водой.
Все мои члены были внешне прилеплены друг к другу, создавая, если смотреть со стороны, обманчивое впечатление объемной живой фигуры, цельной личности, но на самом деле я был разобран на тысячи частей, я был разбросан на миллиарды атомов, разлетевшихся по всей бесконечности, где при этом каждый атом мнил себя самостийной вселенной и ни при каких обстоятельствах не собирался возвращаться в альма-матер.
Еще издалека увидев Петруху, я неумело поднялся – ноги едва слушались, и, тщательно ступая, будто только учился ходить, двинулся ему навстречу. Из травы прыснули воробьи.
При чем здесь Петруха? – воскликнете вы. В чем сюжетная фишка? Сколько же можно нас морочить?!
Да ни в чем! Я вам не какая-нибудь мастерица дедуктивного жанра – в день по роману, кого хочу, того и замочу. Так много и вдохновенно врать могут только женщины, Бог мне свидетель! Я вам, как настоящий мужчина, чистый факт рассказываю, ё, чистый, как коньяк тридцатилетней выдержки, который пил вчера, а не по ушам тру, как эти телки писучие. Я литературных институтов, блин, не кончал, вместо этого я предпочитал кончать ночью на лавочке в центральном ялтинском парке. Если вы понимаете, о чем я… Да и не пустили бы меня в литературный с моей родословной…
Ну короче. Мы поздоровались. Он был такой же тяжелый, как и я. В его глазах философская скорбь.
– Как Аля? – безнадежно спросил я.
– Уф, еле вырвался. Дома такой трындец!
По той силе беспросветного отчаяния, которое он сосредоточил на кончике последнего слова, я понял, что шутки кончились.
Вчера мы пили вместе. И позавчера тоже…
Мимо с ревом рванули мальчишки на запыленной «девятке». Им вслед пролетел на дыбах мотоцикл.
– Чего говорит? – поинтересовался я из вежливости, имея в виду последствия нашей вчерашней пьянки с точки зрения Али – Петрухиной жены.
Петруха бросил на асфальт докуренный до фильтра чинарик и тут же жадно затянулся следующей сигаретой.
– Приколись, сказала, что ты Доктор Зло.
– Прямо так и сказала?! – почему-то развеселился я. – Я это уже слышал когда-то!
– Да, прямо так. А мне сказала, что я сопля подзаборная. И что если б она знала, за кого замуж выходит… Да ладно, проехали!
Петруха махнул рукой и окончательно приуныл. Мы стояли, как дураки, посреди моего двора. Пахло свежескошенной травой.
– Пойдем отсюда! – сказал я. – Не люблю здесь светиться. Давай рванем на пруды?
Мы зашли в палатку, и, пока я скрупулезно исследовал винно-водочные полки, Петруха весьма задиристо флиртовал с девушкой-продавщицей невнятной национальности. По его поведению я понял, что по дороге ко мне он несомненно зацепил бутылочку-другую пивка…
Мы увидели пруд, а на берегу небольшое пустующее кафе с хлипкими столиками под трепещущими навесами. Вход был перекрыт пластмассовыми стульями. Соответственно, ни одного посетителя не было.
Чтобы занять в этом пустующем неработающем кафе место, пришлось заказать в придачу к нашим заначкам еще и пива, а сверху пообещать щедрую пайку чаевых. Крашеная брюнетка двадцатилетней скучноватой внешности, наверное, давно имела дело с такими вот недобитыми партизанами, как мы, ковыляющими поутру с перекошенными лицами из ближайшего леса, поэтому нисколько не удивилась и даже несколько раз улыбнулась, правда совсем простенько и с личностной перегородочкой. (Я ясно выразился?)
Мы сели у самой воды.
Насколько хватал глаз была неспешная вода и пышные кудри парков. Нас все время освежал персиковый ветерок с неунывающей задоринкой, игриво гуляющий по раздолью. От черной воды тянуло какой-то знакомой тухлятинкой.
Я плюнул в воду и долго наблюдал, как белая пенка мечется между противоречивыми микротечениями.
Тишина. Покой. Идиллия.
без номера
Моя душа…
Что это за чертовщина?
Каким биохимическим и космическим законам она подчиняется?
Что она может и какова ее судьба?
А может, ее и вовсе нет?
Может, есть всего лишь мозг?
То есть память на локальных дисках.
Папки всякие там, файлы, огромные архивы…
А душа – специальные программы, существующие лишь для того, чтобы заставить меня в точности выполнять все необходимые моему организму функции…
Ну там, любим, потому что надо размножаться.
Боимся, переживаем за себя и близких, испытываем боль утраты – принципы самосохранения вида.
Ну и в том же духе.
О Боге как-нибудь потом…
А лучше о нем вообще говорить не буду…
От греха подальше!
Далее.
Компьютер в какой степени может уже значительно больше, чем человек.
Следовательно, в скором времени, через пару сотен лет, когда по возможностям памяти он мало чем будет отличаться от нас, он тоже может заявить, что у него есть душа.
Ведь он тоже будет писать стихи, музыку… может быть, даже страдать…
Возьмите, к примеру, уже существующую программу… блин, забыл название…
Ну, проехали…
Короче, представьте себе программу: компьютер переживает трепетную нежность, когда к нему подходит красивая женщина…
Легко.
Так вот.
О чем это я?
Вот:
Но ведь какая у него (компьютера) может быть, на хрен, душа?
Ведь мы его сами сотворили из железа, пластмассы и серебра.
Мы его можем просто шлёпс молотком, и все…
И вся тебе душа.
Так что, может быть, мы ничем от компьютера и не отличаемся!
Расщепление духа…
Я весь разбросан и заторможен.
Мои мысли швыряет из стороны в сторону.
То об одну стенку шмякнет, то об другую.
То об пол со всей силы трахнет, то об потолок.
Выключите меня на фиг!
Я завис в этой жизни!
Перезагрузиться?
Ну если, конечно, получится…
Люди! Родные!
Грешен! Каюсь! Грешен!
Грешен перед всеми!
И перед каждым человеком, даже самым убогим!
И перед последней травинкой луговой!
Я никого и никогда не проклинал!
Но меня прокляли!
И на мне лежит это проклятие!
Как от него освободиться?
Пуля в висок?
Ну дайте мне тогда пистолет!
Думаете, не смогу?!
Ха-ха-ха!
Глубоко-глубоко ошибаетесь!
Или может, мое проклятие и заключается в том, чтобы жить, жить, несмотря ни на что, продолжать мыслить и видеть, видеть все это бесконечное дерьмо, которое день за днем крутится перед глазами?
Я так боюсь!
Я весь опутан страхами!
Они нависли надо мной, мерзко скалясь.
Тревожно повсюду.
И во всей квартире, и в каждой комнате отдельно.
И особенно ночью в кровати.
И наяву, и в глубине души.
Сердце дрожит.
Я боюсь всех и вся, и самого себя, и самой последней пустяковины.
Я – трясущаяся от постоянного неосознанного страха медуза…
Дайте мне голубую таблетку!
Чтобы я больше не боялся, чтобы забылся в изумрудных лучах величайшего счастья и успокоения!
Дайте мне ее и я за нее продам вам душу!
И вот подхожу к самому главному, если ты улавливаешь…
Я – ничтожная бездушная амеба, которая проведет в этом мире всего одно мгновение.
Ничего хорошего не сделает.
Никому, на хрен, не будет нужна.
Ничего потомкам не оставит, кроме биологического перегноя.
И в будущем не останется даже в виде условных воспоминаний.
То есть пропадет НАВСЕГДА, в НИЧТО и в НИКУДА…
А ты?
Слезы… Слезы?
Чего они стоят?
Что они?
Некий выброс энергии?
Программа промывания глаз?
Вселенская боль?
Просто чушь?
Выпить, что ли?
И забыться!
Нет, нет, ни в коем случае!
Сначала позвать Вовочку…
А уж потом выпить и забыться!
Я, правда, уже слегка пьян…
Да и Вовочку позвать уже невозможно.
Он слишком далеко…
73
Тишина. Покой. Идиллия.
Здесь была какая-то необъяснимая нереальная атмосфера оторванности от всего сущего. Все бренное оказалось где-то очень-очень далеко, и мой ремонт, и Петрухина Аля. Отовсюду и из-под самой земли струилась бурными потоками блаженная восстанавливающая энергия. Она была тихая, мудрая, в меру бодрая и очень родная.
– Так хорошо! Будто и нет в этой жизни никаких проблем! Ничего нет, кроме этой безмятежной наблюдательности! – сказал я с легким привкусом философской задумчивости.
– Будто на юге! – ответил разомлевший Петруха. – Так классно!
Наблюдательность – мне это слово очень понравилось. Действительно, не хотелось ничего, даже выпить, мы просто сидели, развалившись, впитывали в себя всю эту энергию, все эти потоки и наблюдали.
Тихо струились воды, так же неспешно в мозг поступали картинки-впечатления. Разговор то засыпал, то возникал парой пустых реплик.
Нас разбудил флегматичный таджик, который с грохотом проволок мимо тележку-холодильник с мороженым. Вскоре в цирке-шапито, что в ста метрах, будет представленье с акробатами, пони и ручным слоненком, и дети, проходя мимо, раскупят предположительно не меньше сотни всяких всякостей в красочных упаковках.
Петруха встрепенулся, откупорил коньяк и разлил по чуть-чуть в пластмассовые стаканчики.
Это была скверная жидкость, хоть и отдано за нее было немало.
Выпили раз и два, залакировали пивком.
Аморфный космический мир потихоньку обрел кости и мышцы, обтянулся кожей, ожил земными пределами, расцвел звуками, загромыхал разными житейскими частностями.
По воде к нашему столику пришвартовалась целая флотилия пластмассовых стаканчиков, окурков и всяких соплей.
– Хорошо сидим! – сказал я чуть погодя, почувствовав, что уже почти возродился – а ведь еще час назад стоял одной ногой в аду. – Ну как тебе эта жизнь?
– Да как сказать? – пожал плечами бестолковый Петруха. – В общем-то ничего, но… но все хуёво! С работой кранты – уволят, наверное, из-за прогулов, да и женился я, скорее всего, зря!
Подошла брюнетка, сменила пепельницу. Я машинально лизнул взглядом кожу ее шеи, тонкую, почти прозрачную, с синими веночками.
Через час Петруха рассказывал мне о сверхъестественных способностях, которые иногда пробуждаются в нем, конечно, после хорошего запоя:
– В общем продолжаю я лежать на кровати, смотрю на эту занавеску, смотрю со смыслом, с усилием, и вдруг минут через пятнадцать она начинает двигаться. Веришь?
– Верю. А чего тут не верить? Человек еще ни хера не знает о себе. Так только, догадывается. Со мной тоже много чего происходило…
– Ну вот, – не захотел отдавать инициативу Петруха. – Я оставляю занавеску в покое и переключаюсь на дверь. Проходит, бля, буквально полчаса. И вдруг она медленно растворяется! Веришь?
– А чего тут не верить? – развел я руками. – Сколько еще в этой жизни мы не знаем?
«А если даже у него был обыкновенный глюк, – вяло думал я, уже не слушая, – хоть он и утверждает, что абсолютно трезво понимал происходящее, – глюк ведь тоже своеобразная материальная субстанция, пусть даже это Вовочкин белогорячный суперглюк. Просто мы не знаем его вещественной сущности. Но когда-нибудь мы сможем, обязательно сможем его, так сказать, пощупать, рассмотреть в микроскоп… То есть, конечно, иллюзии нематериальны, но только с точки зрения наших скудных познаний… Сдается мне – вся Вселенная состоит из материи, и вакуум тоже, надо только научиться видеть… Где вообще грань между материальным и потусторонним? Как часто эти грани сближаются, соприкасаются, перемешиваются?.. Для той стороны – сумеречной, как сейчас любят говорить, нормальным является их мир, а потусторонним наш… И вообще, сколько этих сторон? И в какой зависимости друг от друга они находятся?.. А все перипетии времени? Прошедшее, настоящее, будущее… В той ли последовательности все происходит, как я перечислил? А потом, может быть, времен вовсе не три, а пять или, к примеру, девять?..»
Я сладко зевнул.
Петруха тем временем уже давно переменил тему: теперь его больше занимали груди продавщицы магазина, где мы с утра покупали коньяк, – с его слов, они были минимум четвертого размера. Он упрашивал меня вернуться туда, чтобы еще раз обсудить с девушкой «все аспекты будущих взаимоотношений».
По воде плыла детская игрушка с облупившейся краской – маленькая деревянная танцовщица. На мгновение я поймал ее раздосадованный взгляд – это были большие голубые глаза со вздернутыми ресницами.
Я посмотрел выше и заметил на берегу, метрах в пятидесяти отчаянно рыжую девчонку в коротком топике и набедренной юбке, которая наклонилась над водой и при помощи корявой палки пыталась что-то достать из воды. Ей было, может быть, лет двенадцать, и она выглядела необычайно тонкой, но издалека я видел, что тельце у нее крепкое, тем более очень длинные ноги – она тянулась изо всех сил, – ей было это очень важно, и тот невидимый мне предмет, который привлек ее внимание, наверное, уже приближался к ней.
Рядом сидел старый рыбак с удочкой, но девочка ему не мешала – он даже не смотрел в ее сторону.
Где-то я уже видел эту рыжую худышку?
Наконец она не выдержала, сердито топнула ногой, зашла по колено в воду и легко приблизила к себе какой-то сверток, что ли. Она отбросила палку, взяла этот разбухший от воды сверток в руки и тщательно очистила его, а потом слила с него воду – нетерпеливо, но все до капельки. Закончив, она вышла на берег, брезгливо скинула двумя пальцами с голого живота прилипшую водорослину и ходким мальчишеским шагом направилась к нашему кафе.
И я ее узнал. Однажды мы уже встречались…
Странно! И выглядела она точно так же – худая до невозможности, тот же топик с голым животиком и поясницей, та же юбчонка.
И этот фейерверк жгуче-рыжих волос…
И эти глаза – звездочки…
Только без ручного воздушного шарика…
Но ведь с тех пор прошло… год, два, три, пять? Она должна была стать стройной девушкой, но до сих пор осталась угловатой забавной девчонкой!
Удивительно…
Она легко протиснулась между стульями, перегораживающими вход, даже не протиснулась, а как бы прошла сквозь них и целенаправленно двинулась к нашему столику, оставляя на керамической плитке нахальные водяные отпечатки босых ног. Ни официантка, болтающая по сотовому, ни унылый таджик, меняющий положение солнечных зонтов, не обратили на нее ровным счетом никакого внимания, будто не видели ее.
Рыжая девчонка бухнула на стол передо мной намокшую пачку бумаги, испещренную повыцветшими от воды каллиграфическими столбцами печатного шрифта. Я узнал этот шрифт: Times New Roman, – я всю жизнь пользовался только этим шрифтом. Я прочитал жирный, подтекший, как бы всплакнувший заголовок: «Семь колодцев».
От встряски опрокинулся пластмассовый стаканчик, и из него вытекла тонкая струйка недопитого коньяка и образовала на столе лужицу с очертаниями какого-то моря.
– Больше не теряйте! – весело сказала девчонка.
Она сунула палец в лужицу на столе – послышалось шипение, пошел пар, и коньяк мгновенно испарился.
Девчонка рассмеялась; веселясь, привычным движением качнула головой, и от ее золотых волос остро пахнуло мятой с лимоном. Я вспомнил этот запах.
Я машинально взвесил рукопись в руке. «Семь колодцев»? По всей видимости, здесь было все до последней строчки.
– Ты кто? – дружелюбно спросил я.
Я уже догадывался, что она не из этого вот конкретного сегодняшнего мира, а из какого-то очень близкого. Но я не знал, кто она и почему мне помогает.
Она скорчила веснушчатую гримаску и покрутила голыми острыми плечиками. Однако все эти подготовительные ужимки к ответу на мой вопрос не привели.
– Идите по домам, сейчас будет гроза! – посоветовала она и добавила с подростковой категоричностью: – И прекращайте, наконец, пить! Достали уже!
– Но все же…
Однако она уже шмыгнула прочь, и вскоре ее огненно-рыжая копна волос последний раз мелькнула в очереди у цирка-шапито.
Петруха спал. Я его растолкал:
– Пошли отсюда, сейчас гроза будет!
– С чего ты взял? – Он недоверчиво покосился на словно заснувшее ослепительно голубое небо без единого намека на ухудшение погоды.
– Знаю.
– А это что? – Он показал рукой на набухшую от воды рукопись.
– Да так, в пруду выловил. Дома почитаю. Ну что, пошли?
– Ну пошли, если хочешь. Только в магазин заскочим?
Мы расплатились с брюнеткой, забрали недопитый коньяк и с расправленными плечами, поскольку были уже не зомби, а ильямуромцами, направились к выходу.
Где-то позади сильно громыхнуло. Резко повеяло прохладой. По небу катились выкрашенные в мрачные тона тучи.
– Чо стоишь, как баран?! Закрывай зонты! – набросилась официантка на таджика. – Сейчас гроза будет!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































