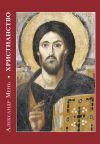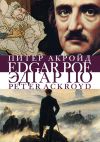Текст книги "Жизнь и время Чосера"
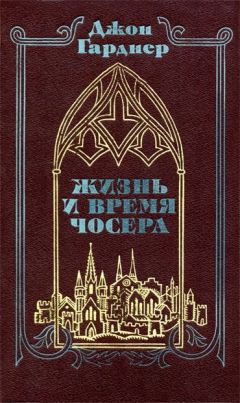
Автор книги: Джон Гарднер
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 31 страниц)
И он ожидал таких наград. Когда же, к счастью для нас, награды задерживались, он писал шутливые стихи-просьбы. Несколько последних вещей Чосера принадлежат к этому жанру, и в частности его полное озорства любовное послание к своей пустой мошне:
К тебе взываю я, моя мошна,
Внемли мольбе, мой свет, не будь пустою.
Мне, легкомысленная, будь верна.
Когда бы не был я любим тобою,
Давно бы спал под сенью гробовою.
Наполнись благодатью через край,
Иначе мне – ложись и помирай.
Того, что ты объявишься полна,
Как манны я небесной жду, не скрою.
На солнце ярко вспыхнет желтизна
И зазвенит – дотронься лишь рукою.
С тобой, тяжеловесной и тугою,
Отрадна жизнь, блаженна – прямо рай,
А без тебя – ложись и помирай.
Мошна моя, всесильна и мощна,
Спасительница, ты ценой любою
Из града вызволить меня должна,
Где я томлюсь, задавленный судьбою,
И, точно нищий брат, скорблю да ною.
Монетами наполнись через край,
Иначе мне – ложись и помирай.
Посвящение
Король – завоеватель Альбиона,
Свободно избранный наследник трона,
К тебе я обращаю этот стих.
Ты властен нас избавить от урона —
Припомни, сир, о жалобах моих.
Это стихотворение типично для остроумного стиля Чосера позднего периода творчества, стиля каламбурного и дерзкого. Идея первой строфы забавна, но не поразительна: легкость пустой мошны сравнивается с непостоянством женщины. Однако к третьей строфе весь декорум отброшен: подобно тому как благородная дама вроде Дантовой Беатриче может стать спасительницей своего возлюбленного, вывести его из «града» – обычное средневековое обозначение для понятия «старый Иерусалим», т. е. материальный мир, – в новый Иерусалим, т. е. рай, так и его возлюбленная мошна, утверждает Чосер, может спасти его. Поскольку стихотворение адресовано королю Генриху («король – завоеватель Альбиона, / Свободно избранный наследник трона…»), мы можем заключить, что «старина седоголовый» продолжал шутить и дурачиться до самого конца. Употребленное им слово «град», по-видимому, означает – в буквальном смысле – не «город» в нашем современном понимании (хотя это было одно из возможных значений в XIV столетии), а «город» в значении «огороженное пространство», т. е. здание или группа строений, обнесенные стеной. В таком случае речь здесь идет о доме Чосера рядом с часовней богоматери внутри ограды Вестминстерского аббатства, где он, возможно, искал убежища от кредиторов. При всей своей щедрости король Генрих, похоже, так никогда и не выдал Чосеру достаточно средств, чтобы избавить его от необходимости отсиживаться в убежище.
Чосер переехал в дом меньшего размера у здания Вестминстерского аббатства, расположенный в саду при давно уже не существующей часовне богоматери, 24 декабря 1399 года и прожил там какую-то часть 1400 года. Переселение Чосера на территорию Вестминстерского аббатства – наряду с портретом, на котором состарившийся поэт с кротким видом держит четки, – иной раз истолковывается как свидетельство того, что к концу жизни он впал в религиозный фанатизм, утратив всяческое представление о том, что нужно человеку и что требуется богу. Те, кто считает так, ссылаются на «Отречение»[272]272
Принадлежность «Отречения» Чосеру оспаривается многими исследователями. Некоторые считают, что оно было приписано Чосеру каким-нибудь позднейшим переписчиком, решившим позаботиться таким образом о спасении заблудшей души автора греховных сочинений.
[Закрыть] в конце книги «Кентерберийских рассказов» и на историю, рассказанную Томасом Гаскойнем, ректором Оксфордского университета, в середине XV столетия. Рассуждая о людях, к которым слишком поздно пришло раскаяние, Гаскойнь упоминает среди прочих Иуду Искариота и поэта Джеффри Чосера.
Спору нет, многие люди века веры, почувствовав приближение смерти, испытывали перед нею страх и терзались угрызениями совести, но не похоже, чтобы Чосер был одним из них. Он был религиозен всю свою жизнь, а не только в беспомощном старческом возрасте: начиная с первой большой поэмы, его произведения исполнены глубокого и утешительного христианского духа – Чосер твердо верует в любовь и милосердие божье и сомневается (вместе с Данте), что стяжатели-монахи и папы могут иметь какое-нибудь отношение к тому, попадет или нет грешник на небо. Позиция Чосера оставалась ясной и неизменной от начала до конца его творческого пути. Он превозносил и отстаивал одну добродетель – благожелательность, – которая подразумевает склонность доброго душой верить людям на слово, способность найти какое-то благородство даже в самом никудышном, жалком человечке. При всем том, что он изобличал многие пороки, только один порок – лицемерие – вызывал у него постоянные яростные нападки. Конкретные творческие интересы Чосера со временем менялись – от проницательного исследования любви, духовной и физической, в ранних поэмах до увлечения пародией и рассчитанным эффектом безобразия в позднейших вещах, – но тема, главная мысль его творчества не менялась никогда: бог есть любовь, и лучшее в человеке – это тоже любовь, которая может получить выражение и в постели, и в пении у алтаря; зло – это отсутствие любви: страх, гордыня, похоть, фанатизм или высокоумная доктрина, побудившая человека думать только о себе, предавая забвению краеугольный камень христианской веры.
Невозможно поверить, чтобы Чосер, всю свою жизнь доказывавший, что господь добр и милостив, и придерживавшийся родственного взглядам Гонта и Уиклифа убеждения, что дух закона божия важнее его буквы, перед концом резко изменил свои воззрения на противоположные; невозможно поверить, чтобы после того, как он столько лет культивировал в своем собственном характере умение прощать, понимать и хвалить (способность, которая у людей, наделенных ею, в конце концов распространяется и на них самих, побуждая их со скромной благосклонностью и снисходительностью относиться к собственной персоне), Чосер в последние четверть часа своей жизни вдруг разуверился в милосердии божием, вскрикнул в малодушном ужасе и написал «Отречение».
Некоторые исследователи творчества Чосера полагают, что «Отречение» – художественный прием, своеобразная концовка «Кентерберийских рассказов», и, возможно, они правы. Эта точка зрения представляется тем более обоснованной в свете экспериментов с не заслуживающим доверия искусством, шутовским или пародийным, которым занимался Чосер в поздний период своего творчества, и в свете его интереса к учению номиналистов о том, что всякое видение мира, даже видение великого художника, является субъективным мнением, которое невозможно передать другим. Подобно тому как эконом из «Кентерберийских рассказов» бесконечно говорит во имя доказательства того, что говорить бессмысленно, Чосер посвящает жизнь искусству, а перед смертью наполовину в шутку, наполовину всерьез отрекается от своей жизни.
Но ведь в «Отречении» Чосера идет речь о всех его произведениях, а не только о тех, что вошли в «Кентерберийские рассказы», поэтому все-таки нельзя исключать того, что оно связано скорее с каким-то реальным чувством в жизни Чосера, чем с композицией «Кентерберийских рассказов». А если так, то что же тогда побудило этого безмятежно спокойного и убежденного христианина написать «Отречение»? Нам остается только гадать. Я позволю себе предложить свою собственную догадку – свою собственную беллетристическую версию.
Чосер, очевидно, был религиозен, хотя и без малейшей примеси исступленного фанатизма. В его эпоху большинство людей отличались повышенной религиозностью, а к размышлениям о райском блаженстве подталкивал Чосера и тот факт, что его жизнь, как и жизнь почти всех его современников, сложилась не слишком-то счастливо. Война, чума, несчастные случаи, старость и беспощадная судебная машина отнимали у него родных и друзей: в иной мир ушли его жена, коллеги-дипломаты, придворные поэты, а совсем недавно – Джон Гонт и король Ричард. Арендованный им дом при Вестминстерском аббатстве, ладный, с высокими трубами и многочисленными окнами, нравился Чосеру, но не только тем, что из его окон открывался вид на церковь. Его радовало, что другими окнами дом выходил в сад, где иногда прогуливались молодые и немолодые влюбленные пары (для чего и предназначаются сады), где порой злодей-кот подкрадывался к беззаботным птичкам, а терпеливые жабы часами сидели неподвижно в молитвенной позе, будто прося деву Марию послать муху. «Да, хорошо», – приговаривал Чосер, глядя в окно с видом замечтавшегося ребенка, каким он в глубине души по-прежнему оставался, как и все мы; и тут вдруг в голову ему приходила рифма, которую он мучительно искал, – являлась внезапно и словно ниоткуда, как всегда являются нужные рифмы, преобразив мысль, подобно тому как прикосновение меча преображает воина, посвящаемого в рыцари, и вот уже, точно по волшебству, потоком полились слова, так что его переписчик Адам, которого он однажды увековечил в добродушно-бранчливом стихотворении, в смятении уставился на исписанные хозяином листы, покачал головой и вздохнул.
Предстояло еще столько сделать, а времени, как он начал подозревать, оставалось совсем мало. В последние годы у него появилась кое-какая юридическая практика, пополнявшая его доходы скромными, однако и не такими скудными адвокатскими гонорарами, но теперь он оставил это занятие, чтобы посвятить весь свой досуг окончательному улаживанию финансовых дел, созерцанию того, как меняется цвет листьев с переменой времен года, и, главное, приведению в порядок своих рукописей, объединению всего этого хаоса в одну законченную книгу, его отшлифованное «Полное собрание сочинений». Теперь он жил в доме один, если не считать слуг и бесконечного потока посетителей. Приходили Томас и Луис, служившие теперь в свите короля Генриха; заглядывал иногда какой-нибудь восторженный молодой поэт вроде Окклива; забредал порой давнишний сослуживец – королевский чиновник времен Эдуарда или Ричарда, этакий отставной придворный со слезящимися глазами и подагрической походкой, отправленный, как и он, на покой, все еще весьма почитаемый, но наполовину забытый. С таким гостем Чосер подчас засиживался до темноты: они играли в шахматы и пересказывали друг другу старые истории, покуда от усталости мысли их не начинали затуманиваться, а языки заплетаться.
Он беседовал со священниками, время от времени общался с друзьями-профессорами, был в курсе придворных сплетен, продолжал писать и перерабатывать старые вещи. Первые, черновые, варианты писались теперь, жаловался он Скогану, с натугой, без прежней легкости. Он то и дело терял нить, поэтические образы утрачивали былую живость и непосредственность; то, что выходило теперь из-под его пера, было сплошной техникой, сплошной иронией и насмешкой над собой; если в молодости его вдохновляли красота, истина и нотка комичного, то теперь его фатальным образом привлекала идея стихов как эстетического бедствия – поэмы, словно бы написанной самым скверным поэтом на свете, или же рассказа, излагаемого путающимся и не заслуживающим доверия повествователем. (Порой он втайне считал, что эти вещи принадлежат к числу лучшего из написанного им.) Он продолжал писать упорно, неистово, наперегонки с песочными часами, создавая иной раз новые произведения, но по большей части перерабатывая старые.
Он уже привел в порядок (более или менее) пролог к «Легенде о добрых женщинах», благоразумно изъяв из него упоминания о покойной королеве Анне. Но сделать оставалось неизмеримо больше – прежде всего придать общий смысл своему огромному труду, «Кентерберийским рассказам». Он круто изменил замысел этой вещи, когда многие рассказы уже были написаны (как признался он однажды вечером в частной беседе с Джоном Гонтом). Так сказать, поменял лошадей, переезжая через реку. Ему предстояло упорядочить все произведение, избавиться от непоследовательностей и противоречий, вызванных многочисленными изменениями, которые он сделал позднее, и по возможности заполнить пробелы недостающими рассказами. Это была непомерно трудная задача для человека его возраста, а может, кое в чем и глупая, как думалось ему порой в минуту усталости. «Обуян странной гордыней», – покаялся он, скорее в шутку, в исповедальне. Духовник, естественно, ухватился за это, а Чосер, скорбно улыбаясь, предоставил молодому дурню метать громы и молнии на его голову. В конце концов, для того духовник и приставлен (думал он тем временем), чтобы отчитывать исповедующегося, помогая ему избавляться от грехов. Кто он, Джеффри Чосер, такой, чтобы лишать добряка-священника отведенного ему места под солнцем, собственной партии в «великом гимне жизни» – кажется, так он написал когда-то. «В какой же это было поэме?» – припоминал он. Чосер поджал губы, постучал двумя пальцами себя по лбу, но так и не вспомнил. Подумал: «Увы, старею я, старею». Строчка для стихотворения. Он глубоко вздохнул, закрыл глаза; духовник все говорил. Многое в стихах Чосера он считает предосудительным… ну что ж, естественно, естественно. Он почти мальчик, этот священник, неопытный, полный идеализма юнец. Чосер вспомнил короля Ричарда и снова вздохнул. Конечно же, священник прав – с известной точки зрения. Любой поступок, пусть даже самый благонамеренный, способен причинить кому-то вред; любая поэма о радостях этого мира, даже самая возвышенная, способна вызвать огорчение, если попадется на глаза не тому человеку, которому она предназначалась, читателю с узким, неразвитым умом… Священник перешел теперь к отпущению грехов. Чосер перекрестился, поднялся с колен. Опять осторожно кольнула эта странная боль, как будто слабо пискнула мышь в глубине сердца. «Не время болеть!» – с легкой тревогой подумал он.
Но через месяц-другой поэт понял, что с работой все кончено, он скоро умрет. В день смерти Чосера духовник и прочие священники еще настойчивей, чем обычно, требовали покаяния; конечно, это было правильно, хотя утомительно и глупо – как вся наша жизнь, горестно подумал старый поэт, оплакивая свою большую книгу, так и оставшуюся незаконченной. Рукописи в беспорядке разбросаны на столе, некоторые лучшие куски вообще отсутствуют: их взяли у него почитать, да так и не возвратили. Однако он старательно поборол подступивший приступ отчаяния и помолился, попросив бога укрепить его силы. Каждый вздох жег его пламенем, и время от времени он с ощущением предобморочной дурноты впадал в забытье. Ему было не до богословских споров – да и какая, собственно, разница? «В чем бы ни состояла истина, я скоро ее узнаю», – подумал он. Темнота, в которую он погрузился, наполнилась зловещим гулом – то ли ревом ветра, то ли рокотом волн, то ли звуками древнего кельтского песнопения. Почему-то ему вспомнилось раскидистое, залитое солнцем дерево. К его удивлению, дерево говорило человеческим голосом. Потом снова возник свет, до боли яркий, и донесся шум с улицы: звяканье железных подков, колокольный звон. С большим трудом – ему, кажется, опять пускали кровь, и он стал слаб, как ребенок, – Чосер приподнял голову, затем сделал какой-то знак рукой. Пятна вместо лиц, голоса. Никто не понял. «Дайте мою книгу», – выговорил он. Священники, насколько он мог видеть, не сдвинулись с места. Один из них протянул ему – вот глупец – молитвенник. Томас, а может, это был Адам-писец, принес огромное, толстое собрание его рукописей и положил его, тяжелое, как глыба, к нему на колени. «Последнюю страницу», – прошептал он. Наконец они поняли и забрали все, кроме последней страницы. Сверху на ней уже было что-то написано, но строчки расплывались перед глазами. «Перо и чернила», – вымолвил он. Какая-то фигура с расплывшимися очертаниями подала ему то и другое.
Затем с большим трудом он принялся выводить кривые, неровные буквы, чувствуя себя почему-то чуть-чуть хитрецом. Ладно, он даст им то, чего они добиваются, думал Чосер, понимая, что в каком-то отношении они, конечно, правы: теперь, когда он умирает, уходя темной, туманной дорогой вслед за Филиппой и Гонтом, беднягой Брембром, постоянно отдувавшимся толстяком с глазами навыкате, и Глостером, этим трагическим глупцом, не так уж трудно понять, что он мог бы больше сделать для того, чтобы облегчить людям их смертный час. Ведь никому из живущих и тех, кто когда-либо будет жить на свете, не дано избежать того мучительного, немного пугающего, а главное, унизительного, что случилось даже с ним, Джеффри Чосером: тело его истощилось, глаза наполовину ослепли, голос превратился в какое-то змеиное шипение, и старуха-смерть заставила его стыдиться себя, как застарелого запаха кошачьего дерьма в доме (да, да, он должен был писать стихи, которые помогали бы людям пройти через это, – жизнеописания святых, трогательные, красивые песни о благости Христа, о том, как глупо всю жизнь думать только о земном). Буква за буквой нацарапал он свое послание ко всем, к кому это могло иметь отношение:
«А теперь я прошу всякого, кто услышит это маленькое сочинение или прочтет оное и обнаружит там нечто отрадное для души, возблагодарить за то господа нашего Иисуса Христа, который есть источник всего разумного и благого. Буде кто обнаружит там нечто огорчительное для души, то его я прошу отнести это за счет слабого моего умения, а не за счет умысла, так как хотел бы выразить лучше, если бы умел. Ибо в нашей книге сказано: «Все, что ни пишется, пишется во имя учения нашего». И таково же мое намерение. Посему обращаюсь я к вам со смиренной просьбой: помолитесь за меня всемилосерднейшему господу, и да смилостивится надо мной Христос, и да простит он меня за мои прегрешения – за то, что переводил и писал сочинения о всяческой мирской суете, такие, как книга Троила, также книга Славы; книга пятнадцати Знатных жен, книга герцогини, книга Птичьего парламента в день св. Валентина, Кентерберийские рассказы – те из них, что коренятся в грехе, – книга Льва и многие прочие книги, коих не могу припомнить, многие песни и многие непристойные лэ, от каковых я ныне отказываюсь в этом моем отречении. Но не от перевода Боэциева Утешения и других книг, как-то: житий святых, наставлений и нравоучительных назиданий, написанных мной в прославление господа нашего Иисуса Христа и божьей матери, благословенной девы Марии, и всех святых на небе и с мольбою ниспослать мне благодать ныне и присно, до скончания дней моих, так чтобы мог я оплакивать мои прегрешения, печься о спасении души моей и с истинным рвением каяться, исповедоваться и искупать грехи вплоть до конца моего земного пути по всеблагому милосердию того, кто есть царь над всеми царями и священник над всеми священниками и кто отдал за нас бесценную кровь сердца своего, дабы в день Страшного суда я мог попасть в число тех, кто спасется».
Кончив писать, он отдал перо Луису. Черты лица мальчика виделись ему теперь отчетливо, все стало видно отчетливо, «душа его была в глазах» – еще одна строка из какой-то старой поэмы, с грустью отметил он, и тут ему иронично и щемяще-грустно подумалось: «Прощай, мой труд, моя любовь!» Затем он в панике понял, но только на одно мгновение, что он умер и падает, падает, устремляясь к Христу.[273]273
Согласно старому устному преданию, Джеффри Чосер умер 25 октября 1400 года; предание это основывалось на ныне неразличимой надписи на надгробии Чосера, которое, по сообщению Джона Стоу, было установлено Николасом Бригхэмом в Вестминстерском аббатстве в 1556 году. См.; Life-Records, р. 547–549. Примечания автора
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.