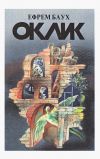Текст книги "Солнце самоубийц"

Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Послушай, послушай, старик сел на своего конька, видишь, все с ним в корне не согласны, но слушают, как завороженные, это же перед нами, понимаешь ли, живой патриарх, как древнее ветвистое дерево по дороге в Синай, под которым, согласно легенде, отдыхал сам праотец наш Авраам, а говорит он о том, что любой другой, американец, к примеру, должен был бы прожить все поколения от основания Америки, чтобы увидеть то, что он, старик Нун, увидел за одну свою жизнь – две абсолютно разные страны на одной и той же земле – оголенную с редкими кочующими арабами, за которыми – безмолвное ничто, бесконечное пустое пространство, руины, сушь, желтые травы, пустоши – до гор и моря, он видел ее вот этими его глазами, как мы сегодня видим иную, густо уставленную бетонными безликими зданиями, с бесконечными лентами шоссе и бесчисленными автомобилями, которые десятками, сотнями тысяч жуков, денным и нощным гудением рушат пасторальную тишину истинного человеческого существования. Что ему остается, Нуну? Следить с любовью и печалью за родным краем, думая о поколении своих отцов, которое родилось дважды, один раз – на Украине, в Бессарабии, России, второй – в Израиле: в них было напряжение, богатство духа, тоска по двум этим мирам; сыновья же родились в Израиле, да, да, не спорьте, одна у них тяга: к богатству. Сребролюбцы, одно слово. Что? Таков закон цивилизации двадцатого века? Во всех, так сказать, цивилизованных странах это корыстолюбие, бетонная безликость? Но нам-то, евреям, хранителям тысячелетий, это не пристало.
Странно звучат слова старика о бесконечных когда-то пустынных пространствах Святой земли, когда на карте мира Израиль выглядит почти точкой, но совершенно случайно Майз подвел Кона к карте Израиля во всю стену, висящей в комнате, очевидно, представляющей кабинет Якоба Якоба, и в ней, развернутой в крупном масштабе, уйма городов, городков, поселений, мошавов, и слова Майза о том, что земля эта, подобно Библии, разворачивается всепоглощающим свитком из малого наперстка, заставляют вздрогнуть.
Кон смотрит на часы. Прошло-то всего каких-то полтора часа, а, кажется, вечность, и пластаются в салоне голоса в смеси с сигаретным дымом к сафьяновым фолиантам с тиснением безмолвной латыни, готовой проснуться в любой миг трубным гласом в этом пространстве семитской речи, гласом, поведшим римские легионы на штурм Иерусалимского Храма, но речь-то эта звучит голосовым вариантом священных текстов, переживших всех, имя которым – легион, и Кон листает книгу старика Нуна, выискивая знакомые буквы, всего-то знает их несколько, и потому именно они кажутся ему столпами, на которых покоится весь мир, как на китах, в том числе и эти прямоугольные поля страниц, засеянные грядками букв, источающими, очевидно, невероятную мощь произрастания. Пусть себе старик Нун говорит, что он всего лишь печальный хранитель того изведенного под корень мира, подобно цитрусовому саду, вырубленному мастерами корчевки, плодоносность этой земли несет в себе непочатую мощь будущего, и пусть, пусть Кону ясно, что он-то уже высохший, желтый, осыпающийся репейник, лишенный последних соков этой почвы, даже и не замечающий уже, или не желающий замечать, что они-то, это соки, его все еще подпитывают и держат на последнем осеннем увядании, очень бы ему хотелось почувствовать себя одним из отсеченных корней того выкорчеванного дерева.
Кону всегда не давали покоя последние строки романа, завершение широкого повествовательного поля, Кон просит Майза хотя бы примерно перевести эти строки из книги старика. Майз пытается читать эту сцену после боя…
Души некоторых уже взлетают с трубным рогом, осеребренным закатным солнцем, – начало их дальней дороги, туда, за пределы закатов и восходов, души, чьи дома близки, и мама может ощутить их дуновение, и души, чьи дома далеки, там, за горизонтом, где уже, быть может, тьма.
Появляются мухи, такие маленькие, как иглы. Это их праздник, как будто только их появление необходимо – ведь надо кому-то попробовать горячей крови.
Лежим навзничь, вдыхая чистый воздух, впитывая капли солнца, и сердце устало, и ощущение какого-то невнятного счастья.
Лежим, и раны кровоточат, а выше – солнце, и дымка вдали, а еще выше – бескрайность, по ту сторону всех возможностей, и там, наконец, открывается цельная синь, такая глубокая, голубая, легкая, зовет до обессиленного чувства печали на всю жизнь…
14Едут на двух машинах – Якоба Якоба и Марио, а вокруг ранняя субботняя ночь, шумный, многолюдный, переливающийся огнями, праздный Рим, живущий и вовсе иными, не менее вечными заботами, чем те, которые несколько минут назад реяли в римском салоне.
Потолкались в толпе.
Маргалит между Майзом и Коном, негромко говорит, смеется.
– Спрашивает, не встречал ли ты в своем Питере блоковскую Прекрасную Даму?
Неуловимый тициановский отсвет в округлости щеки совсем рядом и столь ощутим.
Кон вздрагивает от мысли, и вправду впервые ему пришедшей: разве та девица с льдистыми глазами, в ауре неприступности пересекавшая Соборный парк к Исаакию, не была ею, Прекрасной Дамой? Господи, сколько-то лет было Блоку в пору Дамы, чуть более двадцати? Совсем еще мальчик. Так сколько же тогда могло быть ей?
Вышли к фонтану Треви.
Летучие мыши на бреющем полете над облаками брызг шарахаются из угла в угол, вынося из темных подворотен оттиснутых готикой и барокко пространств прятавшиеся там весь день римские сумерки, и с верхних улиц видны огромные старинные окна, залитые желтизной электрического освещения, а за ними – в глубине – просторные комнаты, залы, с редкой человеческой фигурой, и эта внутренняя избыточная просторность старинных палаццо особенно ощутима рядом с узкими улочками снаружи, битком набитыми людьми.
Бросили монетки в фонтан: знак, что еще вернемся сюда, к фонтану Треви, в Рим.
Память Петродворца, словно не было перерыва и прерывности жизни, анфилада струй с Самсоном, разрывающим пасть льву, уходит за этот фонтан Треви, летейский шум вод виснет облаком, делая трепещущими каменные изваяния гигантов и коней, струи словно бы высвобождают их из стреноженности и окаменения.
Обоймы всевозможной обуви, женская ножка, примеривающая туфлю, вытянувшаяся, изящная, странно констрастирует с врывающимся в стекла витрины непомерно огромным фонтаном Треви.
Фонтан Треви как фата-моргана.
Фата невесты небесным видением мелькнула по краю площади, как бы поверх обувных витрин.
В Иерусалиме, говорит Майз, они обычно снимаются у мельницы Монтефиоре с видом на башню Давида и Старый город, представь себе: шелест деревьев, как здесь – шелест вод, и безмолвие камней, грубо обрубленных и тесанных; на них – стайка невест; белое порхание; мимолетная праздничность на вечных замшелых камнях; женихи в черном сливаются тяжестью с камнями, а девушки легки, как стая мотыльков, подчеркивающая булыжность природы.
– Старик живет в Иерусалиме? – спрашивает Кон, ощущая себя в состоянии безоглядной взвешенности, подобно капле на вершине множества скрещивающихся струй фонтана, все время на грани падения, исчезновения, и в то же время бесшабашной полноты существования. Струи это, или масса внезапно нахлынувших неосознанных и неусвоенных впечатлений – от людей, идей, вещей, книг и, главное, безъязыкости?
– Представь себе, нет. Более шестидесяти лет – в том же доме, среди тех же деревьев, тех же запахов. Он и сам видит в себе Робинзона на уже почти необитаемом острове, осколке, скорлупе того мира его юности, за который столько голов сложило его поколение.
– Майз!
– Ну?!
– Ты про меня ему что-то говорил? И вообще… про русских евреев, которые, ну… здесь, в Риме?
– Видишь ли, старик тяжел на подъем, и коли уж выбрался в Европу, то неспроста. Он с Маргалит собирается в Париж, на какую-то международную писательскую сходку…
– A-а? Так вам, выходит, по пути.
– Главное-то, понимаешь, тема сходки, что-то вроде того, как писатели отражают национальное самосознание, и вообще, что это за зверь. Выходит, старику говорить про наши с тобой проблемы. Старик догадывается, что сейчас о нем…
Майз поворачивается к старику и словно бы в миг ныряет в глубь древнееврейской речи, накрывающей их с головой, обособляющей от суетной мимолетной, но плотной толпы, обтекающей фонтан и уносимой в боковые переулки.
И там, в измеряемой тысячелетним лотом речевой глубине, удивительны – по-детски хитроватая улыбка старика, неисчезающий тициановский отсвет щеки Маргалит, солдафонская решительность во взгляде Якоба Якоба, кажущаяся комической в момент, когда он хранит молчание.
Итальянская речь, раскатываемая легким "р", множеством выдыхаемых гласных, уймой театрализованных жестов, хохота, ужимок, объятий, легковесно и забвенно течет поверх древнееврейской. И только Кон ощущает печальное родство с безмолвными, безъязыкими каменными гигантами фонтана Треви.
– Старик требует, чтобы я перестал пудрить тебе мозги, – наконец-то вынырнул из глубин Майз, набирая в воздух легкие, – он думает, что я тебя зазываю в Израиль и готов за это меня четвертовать. Он считает, что многие из вас, как младенцы, переживают второе рождение, пребывая в том счастливом состоянии, когда – без имени, без принадлежности, а "еврейство", которое столько лет давило, вдруг оказалось и вовсе чем-то абстрактным, то ли существует, то ли нет. Младенец может счастливо отказаться от навязываемого ему, без мук совести, без нажима извне, при этом даже не зная, теряет ли он что-нибудь…
Внезапно из переулка нахлынули прямо сошедшие с полотен Босха хищнозубые, яйцеголовые, сплюснутые, жирно-складчатые, худосочные, словно город этот высосал из них последнюю каплю живого и выплюнул изжеванными. Все они бездумно-веселы, толкают друг друга, хихикают, рты их все время двигаются, но Кон слышит лишь хрипотцу Нуна, видит лишь его синие выцветшие живые глаза по сторонам кривого носа.
– Что это за паноптикум?
– А, это? Скоро начнутся съемки. У фонтана Треви дело обычное. Еще посчастливится увидеть Феллини. Это его любимое место.
– Феллини? – голос Маргалит.
– Мы едем на его фильм, я думаю, лучший. Какой? "Джульетта и духи".
– Майз, имей совесть. Старик уверен, что ты его переводишь.
– Да, да, так вот, он и говорит, на кой черт вам брать на себя бремя какого-то непонятного безликого еврейства. Нечто мистическое, а скорее – атавистическое. Да еще перед ним оправдывайся. Америка же, говорит, страна эмигрантов: нырнул в массу и освободился от ни к чему не обязывающей связи. А я говорю ему: как сделать, чтобы иначе?
– Ну?
– А он: подумай, нужно ли? Мы что, говорит, умные такие – лучше их знаем, что им нужно? Что лучше для них? Еще бабка надвое сказала, говорит, является ли их выбор частью давно действующего кочевья, переселения евреев на Запад, или просто решением из-за неосведомленности, и мы, значит, старик и я, олухи царя небесного, можем исправить дело. Ну, понесло старика, это, говорит, перед нами процесс океанический, перехлестывающий любые национальные плотины, он уж, мол, и нас всех захватил, несет, а мы барахтаемся, пытаемся философствовать, а нам бы на плаву удержаться, нам бы оказаться на высоте События.
– Так он что, считает, что еврейство, как это сказать, изжило себя, что ли? – с каким-то даже испугом, пытаясь скрыть нечто рвущееся из души, похожее на нечаянную радость по пути к гибели, спрашивает Кон.
– Ты слушай, слушай, нет в мире народа, который задавал бы себе такие вопросы, говорит старик, потому нам не у кого учиться.
Старик Нун внезапно делает какой-то театральный жест, что-то произносит, всплескивает руками, быстро уходит за Марио, растворяясь среди яйцеголовых и хищнозубых.
– Что, что он сказал?
– А напоследок и как всегда, чтобы ввести собеседника или противоречащего в столбняк, старик сказал, что еврейский народ и еврейство – независимо от того, горды мы этим или сожалеем об этом, – тема, не знающая себе подобной.
– Куда он исчез?
– Марио отвезет его в отель. Видишь, что я говорил, вот и съемочная группа.
15В середине декабря, на исходе семьдесят девятого, в огромном полупустом зале кинотеатра «Сократес» на пьяцца Питагоре (о, невоспринимаемый Пифагор вместе с солнцем детства за классным окном), в Риме, рядом с Маргалит (волосы пахнут медом и травами), Майзом и клюющим носом Якобом Якобом (отсутствие движения и субординации напрочь выключает его из осмысленного пространства), Кон смотрит фильм Феллини «Джульетта и духа».
Фильм о себе.
Перевод бы даже помешал, ибо зрелищная мощь сцен, развивающаяся вольной импровизацией, до замирания, потрясения, задержки дыхания смыкается с тем, что мучило всю жизнь, отбрасывалось и оттиралось, ибо подспудно и неотвратимо ощущалось самым главным.
Оказывается, сны и реальность текут единым зрительным рядом, сплошным потоком, без перерыва и наплывов; слабо прослеживаемая сквозь водоворот суеты, дрязг, болтовни, ассоциативная цепь внезапно замыкается, и этим замыканием ярко вспыхивает весь круг идей и эмоций.
Оказывается, можно, подобно канатоходцу, балансировать между мистико-символической глубиной жизни и самым грубым ее бурлеском, но никогда не проваливаться в натурализм, плоскость, одномерность.
Оказывается, в Италии, полной солнца, пленительной небесной синевы, ослепительно и плавно разворачивающегося плейера, породившего великую плеяду художников, следует, подобно Феллини, отыскивать для полотен пасмурное с низкими облаками небо, долгую слякоть, сырость, дожди, и с великой скупостью впускать солнце, по-эллински солнечное море, прекрасно-печальные закаты в высоких рощах пиний (совсем неподалеку от кинотеатра – сады Боргезе) только в те мгновения, которые несут надежду, возникают нитью Ариадны в будущее.
Память детства, игры, затаенность детского взгляда: ребенок в цирке рядом с дедом, бородатым, в черном наглухо застегнутом костюме и шляпе, прямо из синагоги (талес подмышкой) поведшим внука в цирк. Выясняется, что оба деда – и Кона и Джульетты – крайние вольнодумцы.
Спасает ли это Кона, как спасло Джульетту?
Память детства – единственное, что они могут противопоставить неотвратимо надвигающемуся забвению.
Там – в детстве – они существуют, грезят, обретают пусть недолгую, но истинную внутреннюю свободу.
И вовсе это не символы, аллегории, лейтмотивы.
Это всамделишные, физически ощутимые, как горячка или озноб – страхи, страсти, столкновения, вожделения, зависть, ревность – и все это выползает из всех щелей жизни, сплетается в клубок того мира, через который предстоит пробиться или погибнуть, мира, в котором забвенная отрешенность высоких безмолвных пиний мгновенно сменяется суетой вечеринки с ее доводящей до суеты болтовней, когда говорят все сразу и каждый слышит лишь самого себя, когда напряженный спиритический сеанс всей тяжестью прошлого обрушивается на твои плечи, а затем уже на гадальный столик.
Как такое выдержать?
И Джульетта теряет сознание или впадает в сонный паралич, столь знакомый Кону по первым дням в Риме.
Там – в глубинах потерянного сознания – мир гнилостно-зеленый, полный плесени и тины, и некий полу-проявленный стареющий атлет из цирка в роли Судьбы тянет канат из моря, надрывается, просит Джульетту: помоги…
Но стоит нам взяться за канат, как Судьба мгновенно отстраняется: "Это уже не моя проблема".
Приходишь в себя – как спасаешься.
Вокруг – лица, увиденные взором человека, только что пришедшего в сознание: Маргалит и Майз – каждый в своем куколе, образованном сумерками зала и колеблющимся отсветом экранной жизни, – зачарованные, висящие на такой тонкой, слабой, такой самодостаточной нити зрения, и мирно спящий Якоб Якоб, хотя, казалось бы, многолетние ночные вылазки должны были в нем выработать профессиональное бодрствование в темноте.
Сны ли, кошмары рождают эти полу-проявленные облики, символы подавленных вожделений – полуголые, в замысловатых одеяниях, с размытыми порочно-юными ликами, пестрые, с преобладанием горячечно-красного цвета?
Вспышка безумия, мутный взор депрессии, пророчества, скорее похожие на кликушество, сменяемые болтовней, суетой огромного города, толкучкой потных, подверженных массовому психозу толп, – все это разряжается мотивами детства, природы, полной покоя и отрешенности.
Но гениальность художника в том, что эти облики-символы мимолетны, возникают на миг и, кажется, проплывают мимо сознания, которое пытается уловить сюжетную нить сцены, глубинный смысл полотна. Только потом, спустя время, когда поверхностный зрительный поток схлынет, потускнеет, выступают в памяти именно эти как бы проскользнувшие в подсознание символы, бередят душу, лишают покоя, становятся главной сутью выдуманного мира художника, воспринимаемого с галлюцинирующей реальностью. Ненароком, ненарочито, но щедро разбросанные в сценах и полотнах, они-то и образуют костяк мира художника, они-то несут всю тяжесть замысла, который слушает, а Кон и не понимает, удивляясь этой болтовне, как удивлялся спокойному отношению Маргалит к тому, что муж ее проспал весь фильм.
Все же Кону как-то неловко: ведь это его отвозит Якоб Якоб, почти захлебываясь ветром, и говорит, говорит, вздыхает, смеется, хлопает ладонями по рулю.
– О чем это он?
– Не догадываешься? Все о том же. Был у человека звездный час. Как и у старика. Ты даже не представляешь, насколько они друг на друга похожи. Каждый зациклился на своем. Там он жил, а ныне существует. Там была молодость, риск, игра на жизнь, уверенность в правоте дела, незаурядные однополчане, ты в этом убедился, глядя на фото. А кто он сейчас: чиновник, перекладывающий бумажки и пытающийся зычным голосом вояки перекрыть пренебрежительное отношение подопечных к себе?
– Она догадывается, о чем ты говоришь?
– Кстати, не так уж сидящий за рулем глуп, как это кажется. У него даже степень. Кажется, по социологии. Он был ее студентом. Вольнослушателем.
– Ясно: дело темное.
– Море, – оживился Майз, прижавшись лбом к стеклу, темное…
Набережная в Остии. Несмотря на поздний час из какого-то сверкающего багрово-фиолетовыми огнями дансинга доносится ритмизированный рев музыки, клубится нечто массово-плотное-потное, бордово-бредовое.
А вот и знакомое: эмигранты кучно и в одиночку имитируют для самих себя вальяжное прогуливание перед сном. Некоторые даже размахивают изысканной тростью с инкрустированным набалдашником, приобретенной у какой-нибудь питерской старушки, бывшей дворянки, за приличные деньги. В Италии такие трости идут хорошо. В такой поздний час одна надежда на итальянцев, приезжающих на своих машинах из Рима посидеть в темноте у моря.
Кон как бы со стороны, из машины, из иной жизни видит глазами итальянцев эту скудную и так неумело хорохорящуюся эмигрантскую жизнь.
Опять кто-то в верхних этажах запустил на полную мощь Высоцкого, установив над пространством улицы музыкальный террор.
Это уже не в первый раз. Снизу кричат свои же, на русском: грозятся вызвать полицию. Иногда такое мучение квартал, в котором обитает Кон, испытывает днем: кажется, этому хриплому завыванию конца не будет, кажется, это тайная садистская месть кого-то из соотечественников за все унижения эмигрантской жизни. Трудно определить, из какой это квартиры. Рев этот становится постоянным элементом существования. Не верится, что он вообще когда-либо прекратится. До того покоряешься звуковому насилию, что обнаруживаешь себя среди тишины, даже не ощутив перехода, упустив такой редкий в эмигрантской жизни миг райского блаженства.
Вот и знакомый сквер: старички в поношенных пиджаках вместо пикейных жилетов раз и навсегда обсели пятачок.
Не успели опомниться, как Якоб Якоб круто сворачивает влево, выгоняет машину почти к кромке моря, глушит мотор, хлопает дверцой, быстро пересекает набережную в сторону старичков; уже слышится его почти ликующе грубый голос:
"Ду редст ойф идиш?"
– Ну, теперь это надолго, – Майз переводит слова Маргалит.
В соседних машинах безмолвно сидят итальянцы. Огонек сигареты иногда освещает лицо женщины или мужчины. Можно представить, как заставило их поморщиться хлопанье дверцы, носорожье вторжение Якоба Якоба.
Люди во мгле слушают море.
Долгий забвенный плеск.
Море, столь знакомое Кону, ничейное и сверхличное, приносящее не то, чтобы облегчение в эти часы прочного обложного одиночества, без угла и прикола, а некую синхронность, ненавязчивое понимание, соприсутствие, декабрьский отрезвляющий холод, как прикосновение ладони неба к горячему лбу.
Светлая яхта на кажущихся высокими водах Тирренского моря чудится в этот поздний час буем, огоньком, отмечающим лишь место живой души в мертвом безбрежье вод.
Светлая яхта, манящее видение, причудливый корабль из феллинниевых фильмов-снов, как бы идущий к берегу, но замерший вдали, и там – тихая музыка, силуэты женщин в ауре недоступности, не только внешней, но и потому, что живут они в стихии иного языка, да какого, итальянского, с медной примесью латыни, чеканной звонкостью, отлетающей от их молодости, ослепительной, как и их перламутровые зубы, сверкающие в широкой и вовсе не рекламной улыбке.
О, светлая яхта, впервые увиденная Коном, но уже выступающая якорем спасения, близкая к берегу, но никогда, вероятно, к нему не пристающая, ибо всегда в движении, скольжении, впротивовес темной недвижной барке мертвых, прикованной к берегу Тибра, как ядро к ноге каторжника, как мир мертвых к миру живых.
Легко, как никогда раньше, Кону выговаривать душу во мгле, зная, что Майз в лепешку разобьется, чтобы как можно точнее перевести его слова женщине по имени Маргалит, странной, незнакомой, непонятной, лицо которой едва очерчивается в темноте отсветами той светлой яхты.
Но в этих отстветах совсем по-иному выступает описываемая Коном первая его ночь в Риме, в дряхлом пансионе; полуночный фонтан Треви с каменными великанами; запах пищи из пансиона на виа Кавур, более похожего на публичные меблирашки бордельными шпалерами, обшарпанной мебелью, и, главное, биде: кто бы что ни говорил, а все, конечно, же, только о Микельанджело, посреди бесед торчит биде, как бы и чем бы его ни прикрывали; равнодушно-улыбчивая проститутка у вокзала Термини, глаз которой издалека различает нищих эмигрантов.
А голубые угли звезд в провалах черной громады Колизея, и этот вечный Рим, не виноватый в том, что Кон страдает хроническим отравлением прежней жизнью, бежит от сквозняков одиночества из каких-то глухих равнодушных отдушин, бежит от Питера, преследующего его нежилым фондом, странным типом с моложавым лицом утопленника и свечой в руках, сизыми, вурдалачьими, набрякшими влагой и печалью лицами питерцев, бежит от полотна Гвидо Рени "Моисей со скрижалями" в галерее Боргезе, изматываемый инфантильным чувством любопытства и в то же время угрызениями совести от измены неизвестно чему.
Рвался ли к свободе? Еще бы. Но пугает, обессиливает несоответствие между рвущимся через край душевным напором и равнодушием окружающего мира в миг, когда взрыв его столько лет копошащейся в потемках жизни ударяется об него, как о стену, или втягивается тоннелем, полным тупой волны машин, газа, страха быть раздавленным, тоннелем, чей скрытый гул, идущий из-под пола, ощущался угрожающим ворчанием этого мира в первую римскую ночь.
Что ему чаще всего снится в Риме, спрашивает Маргалит.
Не странно ли, сырость и молодость, хибары в пригородах Питера на фоне оранжевого заката, лужи, свечи на кладбищах, вкус квашенной капусты после водки, душный молочный рассвет, одинокое просыпание в подвальной мастерской: месяц, пиратом заглядывающий в окно, холодная мертвизна финских мест, приходящая ознобом и тревогой.
Кто ему чаще всего снится в Риме?
Гоголь.
Не великий писатель земли русской, а востроносый и мертвый, похожий на корневище, только нос Буратино его чрезвычайно омолаживает.
Кон замолк. Голос Майза – эхом на иврите. Голос Маргалит. Во мгле блеснули ее глаза, обращенные к Кону.
– Она говорит о том, что ты должен быть крепок духом и телом, потому что там, куда ты собираешься, ничего такого не будет по силе, что ты сможешь противопоставить этим римским каникулам.
Светлая яхта, тревожная уютная лампа на взморье, в потемках души, единственная надежда на спасение.
– По мнению Маргалит, с этими симпатичными дедами Якоб Якоб может засидеться до утра. Она умоляет спасти ее.
Кон и Майз пересекают набережную.
С кем, оказывается, Якоб Якоб чуть ли не сидит в обнимку: с Михаилом Ивановичем (в оригинале Мойше Ицковичем) Двускиным.
Кон и Мойше Ицкович потрясенно взирают друг на друга. После отбытия в Штаты музыкальной семьи партийный старик совсем скис от одиночества, тем более Кон все время где-то шляется.
Первым приходит в себя Двускин, всплескивает руками, указывает на Якоба Якоба:
– Вот – человек. Воин, ветеран. А как идиш знает. Два воина встретились, понимаешь? Бойцы вспоминают минувшие дни…
Идиш вспомнил, как и то, что он Мойше Ицкович, этот в миру палачей Михаил Иваныч, однако забыл, по старческому ли маразму, по выработанному ли всей жизнью двуличию, что никаким воином не был, а был членом военного трибунала, посылающим других на смерть и в качестве трофеев собирающим большой урожай орденов и медалей. Об этом же взахлеб сам признался Кону в минуты отчаянного одиночества, жаждая леденящими кровь рассказами купить его внимание.
– Я ему ордена свои хочу показать, – захлебывается Двускин, – он обещал мне помочь. Как это, говорит, отца к сыну не пускают? Большая, скажу тебе, шишка…
– На ровном месте, – говорит Майз, уже осведомленный Коном о том, что за птица этот обсыпанный перхотью старичок.
Двускин испуганно замолкает. Чувство опасности у него выработано всей его жизнью.
– Кто это? – спрашивает он Кона.
Но тут лишь до Якоба Якоба доходит, что Двускин и Кон живут в одной квартире, такое совпадение совершенно его потрясает, он требует вести его туда, тем более, старик хочет показать ему ордена, полученные им за боевые дела во Вторую мировую. Уговаривания Майза, намеки на то, что Маргалит валится с ног, не помогают: завтра воскресенье, отдохнет, и вообще, подумаешь, работа, – листать книги. Лекции, дело другое, он и сам слушал ее лекции, да, да, на старости лет был студентом, старика надо уважить, он же так здорово говорит на идиш.
Выхода нет, и Двускина впихивают в машину.
В квартире бардак. Музыкальная семья тут неплохо помузицировала на прощанье, а убрать некому. Маргалит пытается навести хоть какой-то порядок, Двускин обхаживает Якоба Якоба, у него почти вековой опыт в обхаживании сильных мира сего, крупных деятелей и мелких тиранов; в свое время он гордо считал себя причастным к их усилиям повергнуть старый мир в прах "наших ног", теперь ему осталось подолгу искать проклятую кнопку в туалете, чтобы повергнуть воду из бачка в унитаз.
Грохот заставляет вздрогнуть Маргалит, вконец уставшую, прилегшую на постель Кона: стройные ноги, по-девичьи нежный очерк шеи, чисто изогнутая линия бедра отвергают даже мысль о ее многомудрой учености.
Двускин звенит орденами в своей комнате, вызывая восхищенное цоканье Якоба Якоба, которому Майз раздраженно и без всякого успеха пытается что-то втолковать об этих орденах: в стихии языка идиш для Якоба Якоба все остальное блекнет.
Двускин выволакивает какие-то тетради: оказывается, старичок еще пишет мемуары про дела, пахнущие кровью, с ходу переводит на идиш Якобу Якобу, а тот этак бесцеремонно к Майзу, нельзя ли это перевести на иврит, издать, чем вводит Майза в полнейшую прострацию.
Ощущая знакомый озноб, Кон извлекает давно покрывшиеся пылью чистые листы, рисует ее, и вправду уснувшую, словно бы рисует собственную свою жизнь в новом обличил, в иной, полной пробудившейся энергии жизни среде: как передать это легкое дыхание, эту захватывающую тебя целиком, до потери дыхания, вынимающую из тебя душу беспомощность спящей женщины, это бунинское, подобное бесстыдно-ласковому лунному взору, проникающему из-за оконной портьеры, сквозь одежды: она лежала на спине, нагие раздвоивши груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне.
Долгое неприкосновение к бумаге дает ту первозданную легкость скольжения линии, как бывает летучей, но твердой, знающей цену каждому шажку, походка больного, долго пролежавшего в постели и пробующего пленительную радость движений сызнова.
Разве не чудо должно было случиться, чтобы в этой комнате, хранящей все дневные и ночные кошмары Кона, оказалось это удивительное существо и так легко и естественно уснуло в этой кажущейся гробом постели.
Какие еще чудеса выкинет жизнь, какие еще замкнет круги?
Майз у дверей комнаты Кона, замер, почти не дышит.
Кон, шепотом, не отрывая пера от бумаги:
– Почему нельзя жить вот так… Минутой. Проходящей как прикосновение?
Майз, шепотом:
– Опасно для жизни.
Проснулась Маргалит, удивленно обвела всех полусонным взором, улыбнулась, что-то сказала.
– Спрашивает, не шокировало ли тебя: женщина уснула в комнате чужого мужчины, да еще у него же на глазах?
Берет листы, поданные Коном, с беспомощным удивлением, означающим то ли испуг, то ли радость.
– Говорит, сразу видно: рука мастера.
И Кон, трижды скрученный одиночеством, на пятом десятке своих лет вымоченный в уксусе унижения и нищего прозябания, вымученный припадками неоправданной эйфории и столь же неоправданной депрессии, внезапно краснеет до ушей, как ребенок, впервые в своей жизни услышавший похвальное слово.
Все. Маргалит срывается с постели, не выпуская листов, и – к Якобу Якобу. Он может остаться, благо есть где прилечь; она уезжает, ключ от машины, и немедленно.
Опять все трое – Якоб Якоб, Майз и Маргалит – ныряют в глубь древнееврейской речи, но у Кона уже есть опыт брать их на голос: Якоб Якоб явно оправдывается, мол, такого человека раскопал, такие мемуары, тут уж наконец Майз получает возможность выложить об этом старичке все как на духу; Якоб Якоб сникает, как будто из него выпустили дух.
Вот в таком виде человек очень даже знаком Двускину и без того, чтобы понимать язык.
У старика трясутся руки, Майз ему явно чудится большим чином израильской разведки, о которой Мойше Ицкович сверх-наслышан, иначе чего бы такой шишке, как Якоб Якоб, так перед ним сникать.
Все трое, продолжая препираться, прощаются с Коном, забыв о старике, потерянно стоящем в проеме выходной двери. За руль садится Маргалит.
Машина, взревев, исчезает в ночи.
– Это вы их привели по мою душу, – набрасывается на Кона трясущийся Двускин.
– Побойтесь Бога, в которого вы не верите, Мойше Ицкович, да кому вы нужны?
– А чего же шпика этого привели?
– Какого шпика? Якоба Якоба? A-а? Да это, батенька вы мой, как говорил наш вождь Ильич, художник, вместе учились в Мухинке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.