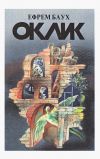Текст книги "Солнце самоубийц"

Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Непривычно, пугающе, как первые шаги в незнакомый новый мир, выглядят рисунки Кона в больших рамках, под стеклом, на фоне кремовой бумаги, по соседству с полотнами маслом и пудовой бронзой современных скульптур.
Галерейщик с вкрадчивой кокетливостью, явно удивительной для его брюшка, беседует с Маргалит, вкусно хрустит кредитками.
– пропьем, что ли, по старой памяти?
– Из принципа или по привычке? – смеется Майз.
– По привычке за неимением принципа.
– Ты хочешь сказать, что привычка заменяла принцип?
– Я хочу сказать, что привычка спасала от принципа, который прямолинеен, как ствол расстрельщика.
Галерейщик тараторит по-итальянски, жестикулирует, жмет руку Кону, рассматривает его ладонь.
– Он говорит, у тебя долгая линия жизни. Так что тебе не грозит умереть молодым, – переводит Майз, – я ведь тебе это тоже предсказывал, так, по наитию. Почему? Ну хотя бы потому, что галерейщик сочен, а ты худосочен. Что-то ты не в себе, дружище. Успех в голову ударил?
– Головой ударил.
– Но с ног не сшиб? Привыкай, Кон. Будь рад.
– Знаешь, как звали старика, прыгнувшего с кампаниллы Джотто? Конрад.
В галерею входит высокий седой мужчина в отлично сшитом костюме, сразу и безоговорочно став центром внимания всего окружающего пространства. Оказывается, это тоже владелец более крупной художественной галереи, фигура известная: специально пришел познакомиться с художником Коном, работы которого произвели на него впечатление.
– Как ты себе его представляешь? Акула или кит в этой области бизнеса? – развлекается Майз.
Человек сдержанно жмет руку Кону, задерживает ее в своей, что-то говорит негромко, явно озабоченно, но в меру, чтобы не оскорбить собеседника, не владеющего языком и как бы глухонемого; у человека аскетическое лицо, печально спокойные глаза и сухие руки, он скорее похож на одетого в гражданское католического кардинала, он и только он с первого мига внушает Кону серьезные надежды, без всякого напряжения и суетливости он устанавливает между собой и Коном связь пастыря и семинариста.
От волнения и желания его не выказать Кон просто никак не может запомнить имя этого человека:
– О чем он?
– Говорит, что ему хорошо знакомо состояние подвешенности эмигранта. Особенно художника. Да еще в Риме. И хотя он старомоден, ведь ему уже семьдесят, но поклонник психоанализа. Главное, говорит, в эмиграции не болезни, даже самые тяжкие, а понижение жизненного тонуса.
Человек подает Кону визитную карточку, откланивается, исчезает.
– К весне он будет в Штатах. Там у него тоже офис. Надеется, что к тому времени прибудут багажом твои работы. Его интересуют работы маслом. Это адрес его нью-йоркского офиса, на карточке.
Слава Богу, Маргалит села в машину, махнула ручкой, уехала, а то все слишком хлопочут вокруг него, слишком возятся, как с больным, и Кону это действует на нервы.
Может, заметили тень? Мелькает ведь то и дело. Без лика. Как дым.
С этой парочки станется.
Хорошо, что завтра уезжают, хорошо, что через неделю вернутся, если это только не ложь во спасение да успокоение. Будет время разобраться в новой ситуации наедине, в тишине, хотя бы, лютеранского кладбища: слишком неожиданно, массивно, давяще вторгся в его душу этот мир, таившийся за витринами галерей, и в то же время слишком иллюзорно, мимолетно; слишком легкими кажутся эти деньги в его руках: Кон в уме пересчитывает лиретты на доллары, на рубли – давненько не было у него такой суммы.
Кон пребывает во взвешенном состоянии, Кон ищет тяжести, Кон чует в Майзе, как еще тогда, в Вильнюсе, почуял, – родственную душу входящих в клан любителей бега от самого себя.
Вот почему, не сговариваясь, сходят они не в метро, а скорее в ощущаемые тяжестью подземелья, и как-то незаметно, но в то же время до облегчения насущно начинается это – кажущееся бесцельным – катание под землей: так успокаивают беспричинное, и потому опасное волнение, так сбрасывают отравляющий избыток любопытства, чересчур жадно рвущегося в завтра, так избывают беспокойство, подающее сигналы о том, что чувство самосохранения ослабело; и Кон пытается убедить Майза в том, что тут какой-то изъян, что лысый галерейщик ничего не понимает, что седой аскет скорее похож на исповедника, чем на бизнесмена (– Ты с ума сошел, Кон?!), что опасно строить будущее на такой зыбкой почве, как эти мимолетные рисунки, а легкий успех ему претит, хотя, конечно же, конечно, рисунок – это пять минут и двадцать пять лет учения (– О каком будущем, о какой почве? Откуда это бюргерство? Ты же летучая мышь?! – Я – мышь? Ты – Майз! – Ну, и я тоже. Это что-то меняет?); и летит, изгибаясь, поезд в недрах земли, и несет их неудержимым движением, несет, словно бы скованных в паре наручниками свободы и заброшенности, и внезапно на какой-то станции вваливается ватага девиц и парней, хрипло ржущих, улюлюкающих, мгновенно изменяющих ситуацию, как будто заражает и заряжает бесовство, забубенность подземелий, их сквозняки и ощущение неукорененности, и внезапно становится ясно, что в подземельях свои герои, прохожие, жители, некое общество новейших катакомб подземного Рима, насквозь просвистываемых вихрями поездов и все же дающих убежище под сенью этих вихрей заброшенным, обсыпанным перхотью забвения музыкантам, алкоголикам, наркоманам, карманникам на роликах и в инвалидных колясках, странным типам, находящимся в вечном движении, прячущимся от верхнего мира; несет замкнутым тоннелем, и света не видно в конце его, но внезапно он распахивается перроном с гомоном, суетой, сутолокой, и вот уже снова втягивает в узкий, за горло хватающий тоннель, несущий в скрытое, подземное, поджидающее за углом, под ребром, под тысячелетним Римом, оборачивающееся подсознательной реальностью, одновременно осязаемой наощупь и вымышленной, утробами свободы, логовами рабства, миром подземных спиралей, клеток, ребер, похожим на конструкции Дантова Ада, и чем больше Майз говорит об успехе, который, оказывается, может произрасти на, казалось бы, скудной почве эмигрантской неприкаянности, заброшенности и одиночества, тем больше подземелье подступает, срастается с нутром Кона, затрудняет дыхание неким близящимся предчувствием освобождения.
Что тут первично и что вторично?
Повторяющийся образ в сознании тех, кто вернулся оттуда, из состояния клинической смерти: свет в конце тоннеля, связывающий этот и тот мир?
Или рожденное этой сатанинской выдумкой двадцатого века – метро – чувство утягивания, пусть безотчетное, подсознательное, на тот свет до очередного света в конце тоннеля – перрона, возвращающего в привычный мир и суету?
Удушливое ощущение в этих тоннелях рождает судорожное желание скорее добраться до очередного перрона с его толкотней и суетой.
Но все вернувшиеся из потемок клинической смерти говорят лишь о радости, охватывающий их в том тоннеле, по пути на тот свет.
В последние дни Кон обнаружил неплохой способ укрыться от шумной суеты дня – то в храме, то в подземельях метро. Наверху, вероятно, уже смеркается и, спохватившись, Майз на одной из станций уходит вверх, в надземный мир, а Кон пересаживается в направлении Остии.
Поезд на Париж – завтра. В семь вечера.
Кон внезапно, как приходят в себя, видит себя в стекле вагона, странное бледное существо, выступающее из сумрака в желтом свете вагонных плафонов, который раз пересчитывающее деньги, похожее на щуплого русского еврея первых римских дней, сидевшего в таком же вагоне напротив Кона и без конца пересчитывающего и перекладывающего скудные доллары и лиретты, и хотя сумма в руках Кона довольно внушительна и, кажется, он осторожно, с большими сомнениями, готов поверить в будущий успех, лицо его светится все так же униженно грустно, все так же беженски просительно, как у того, сидевшего напротив, забытым жестом провинциального щеголя приглаживавшего свои редкие прилизанные волосы.
На вокзале в Остии Кон покупает бутылку коньяка и всякие колбасы.
В ранних сумерках высыпали в своих допотопных пальто, расселись на своих позициях ноздреватые старухи, сторожевые псы эмиграции. На пятачке торговое оживление, много свежих, незнакомых лиц, только, вероятно, с дороги; новое поколение эмигрантов: которое уже по счету даже за короткий срок пребывания здесь, в Остии, Кона, а в квартире безлюдье, пустота, никто так и не вселился в комнаты музыкальной семейки, один Мойше Ицкович Двускин, совсем усохший от ожидания, совсем запылившийся партийный старичок-паучок, истинная жертва режима, которому он служил верой и правдой, прикорнув в уголке, уже Бог весть какое поколение эмигрантов дожидается, пока президент Штатов, этакая акула империализма, пустит его к сыночку.
До чего опустился Кон: первый свой успех обмывает с Двускиным, бывшим членом военного трибунала, несомненно, патентованным мерзавцем, который под влиянием выпивки, забывшись, опять начинает излагать палаческое свое житие, опять от отчаянного своего одиночества жаждет леденящими кровь байками купить внимание Кона.
И ты, Кон, пес этакий, не лучше: самым бессовестным образом расхвастался своими успехами, пока не услышал со стороны свое сладкоречивое воркование.
– А вы жук, – умильно оплывает Мойше Ицкович: такое блаженство он, вероятно, испытывал в те мгновения, когда жертва его раскалывалась, – а вы жук. Вишь, как пристроились. Не зря, выходит, все время были в бегах, а? И сколько же вы, позвольте узнать, загребли?
– Ну, ни в какое сравнение с награбленным вами, коммунистами всех стран, – вот и Кон испытывает, пусть мелкое, но все же блаженство, – что же вы, Мойше Ицкович, кончился порох в пороховницах, а? Сели бы да накатали на меня телегу о том, что оскорбляю итальянских коммунистов, ну, к примеру, товарищу Тольятти.
– Так он же помер.
– Да что вы? И не знал. Так ведь, дедушка, гляди, и все ваше дело справедливое помрет.
Мойше Ицкович обижен, встает, уползает в свою конуру, предварительно прихватив пару ломтей колбасы.
Дожевать или доживать?
От выпитого приятно шумит в голове, и Кон так легко проваливается – опять же тоннелем – на дно сна.
А там они – дед, бабка, мать, отец. Занимаются делом.
Сажают, выращивают, собирают орехи, яблоки, пьют ледяное молоко из подвала, студеную воду из колодца, жуют ореховые ядра, запивая их вином, варят повидло и варенье, спят в полдень под сенью деревьев, но, странно, деревья-то не вишневые "пидля хатки", а цитрусовые, а на холме не яблони, а масличные деревья, в которых прячется арабское село. И сидят они за праздничным столом, накрытым пасхальной скатертью, но почему-то вышитой украинскими узорами, и все с любопытством глядят на Кона, вопросы какие-то пугающие задают.
– По тоннелю ты к нам добрался?
– Течением тебя принесло?
– И тут Кон внезапно понимает: он один среди них живой. Как же он попал сюда? Но ведь уже было такое. Данте же сюда сходил. Да не сюда, а в Ад. Это сохранившийся, как мотылек в янтаре, как пчела в воске, медоточивый обломок прошлого, мир мальчиков из книг Нуна (какого еще Нуна?), которые в перерыве между боями, а может быть, и за миг до смерти вспоминают хату, лужайку, железный колокол, в который бьют в случаях радости и горя, прикосновение маминых губ перед сном, вкус повидла с орехами и хлебом, запиваемыми ледяным молоком из подвала.
Кон пытается вырваться из этих сот, Кон взмывает высоко в небо. Парит.
И вовсе без парашюта.
Только силой молитвы, произносимой: Господи, да это же исчезнувший Иосиф. Тебя же так ищут, извелись все, и мама твоя, и Майз, где же он, черт возьми, когда нужен, тут же исчезает. Иосиф, не будь неподвижным: как на фото.
Но Иосиф только улыбается и шевелит губами:
"Да будет воля твоя, Господи, Бог отцов наших, вести к благополучному исходу все дела и помыслы наши. Простри над нами крыло Свое, храни от руки врага, устроившего нам засаду, от внезапных ветров, от непредвиденностей в воздухе, храни всей Святой праведностью и милосердием".
5Просыпается Кон с ощущением невероятной легкости.
Такая счастливая опустошенность посещала его редко – в предчувствии некоего нового начала, обширного, просторного, в котором все предметы, чувства, предпочтения должны расположиться наново.
И входом в это новое пространство мерцают его рисунки под стеклом на фоне кремовой бумаги по стенам, только подумать, одного из древних римских зданий, древность которого в сочетании с изобразительным модерном ощущается в жизни каждого – у кого сознательно, у кого подсознательно – той самой напряженной пружиной Времени, которая даже в старых настенных, оставленных владельцем квартиры, раскручивается от семи утра к семи вечера на вокзальных, висящих над рельсовым путем: по нему отойдет поезд в город, мешающий спать даже в далекой сибирской тайге, где Кон побывал всего лишь однажды, по молодости, с геологической экспедицией, и в глухие ночи, набравшись спирта, ребята пели под гитару: "Чего же ты не спишь, мешает спать Париж".
Надо купить побольше бумаги, плотной, молочной белизны или с кофейным оттенком, он видел такую в римских магазинах, и побольше красок, надо запереться глухо от партийного старичка или уходить вдаль, вдоль Тирренского моря, на рассвете, как сегодня, когда он, вздрогнув, обнаружил – светлая яхта исчезла; еще один знак выздоровления – душа человеческая спасена, и диковинный аэроплан феллиниевских фильмов улетает, унося деда в развевающемся талесе, яхта снимается с якоря.
Физически чувствуя, как замкнулся, отделяется этот остров или материк прошедшей жизни, Кон с давно позабытым наслаждением водит пером по бумаге: составляет некий итог ушедших лет, некий, к примеру, реестр женщин, вплывающих в быстрый поток убегающей его жизни с намерением прочно в ней закрепиться, но исчезающих скорее, чем они успевают ухватиться, утягиваемые течением, за его руку, за его взгляд, расслабленный безразличием, за его шею, ускользающую из их рук податливым стеблем в глубинах жизненных вод.
Именно поэтому ему гораздо легче составить реестр, к примеру, вещей, в которые он облачался, ибо они всегда были вопреки моде, или реестр находок в сочетании линий и красок, выражавших ощущение этой ускользающей вместе с женщинами, юностью, зрелостью, такой проточной жизни.
Составление таких реестров означало всегда полосу истинного внутреннего успокоения. Ведь даже перед отъездом, в пустоте проживания между исчерпавшим себя прошлым и неизвестным будущим, он реестров не писал, а валялся целыми днями в подвале-мастерской, в подвале, вернувшемся в первоначальное свое состояние, на стенах которого, после снятия картин, проступали апокалиптические подтеки плесени, таящие в себе всю угрожающую мощь катящихся за стенами невских вод, запах гниения вытеснил запах масляных красок; валялся, глядя в потолок, покачиваясь в каком-то обморочно-дымном облаке самоотсутствия, как утопленник, не принадлежащий уже ни прошлому, ни будущему, или дрожал от холода на питерских мостах, пытаясь хотя бы так ощутить собственное существование.
В облаке беспричинной радости Кон перекладывает заново все свои вещи, наводит порядок в комнате, собирает в папку работы, с которыми никогда не расставался, намереваясь показать их Майзу, а может и дать ему в Париж, вновь садится за стол писать, марать, разрисовывать реестры да поглядывать на часы.
На площади перед вокзалом в Остии уйма народа и автомашин копошится под солнцем. Холодный ветер гонит по асфальту мусор, листья, нейлоновые мешки. Вокзал закрыт. Поезда метро не идут. Забастовка. Неожиданная, без всякого объявления.
Но ничего, ни исчезнувшая светлая яхта, ни прекратившееся движение метро, ни битком набитый автобус не портят ровного настроения Кона, которое так покойно сливается с дальним родовым очертанием Рима, линией, плавно приподнимаемой в небо куполом собора Святого Петра.
Но улицы забиты народом. Город возбужден, встревожен. Какая-то шумная крикливая демонстрация перекрыла движение транспорта. Автобус застревает где-то у терм Каракаллы. Кон пересекает площадь Нумы Помпиллия, от которой рукой подать до сумрачной заброшенной римской квартиры Лили и Марка у порта Латина, но время торопит, Кон уходит по Виа Друзо, неожиданно очутившись перед Латеранским собором. Тогда с Гоцем они шли к собору от Колизея, даже не подозревая, насколько близки к зоне вокзала, так, что совсем рядом с порта Маджиоре, за круглым храмом Минервы, поблескивают лезвия рельсового пути, внезапно привнося в древние вросшие в вечность руины Рима несвойственную легковесность разбегающегося паутиной рельс пространства, и вокзал Термини, вырастающий из почерневших от времени тысячелетних обломков терм Диоклетиана, сверкающий множеством огней, кажется бабочкой-однодневкой, присевшей на миг на обломок тысячелетней стены.
Римский вокзал Термини – воронка непрерывной тяги между Пора и Ничто.
Еще до привокзальной площади, в чахлом скверике, примыкающем к музею Диоклетиана, где спят битники, бродят наркоманы, стучат кружками просящие милостыни, начинается как бы привыкание к зоне разрыва.
К зоне тяги в накручиваемые движением и в то же время изматывающие душу своим отсутствием дали.
Здесь даже лица людей меняются, обретая некую лунатическую опустошенность. Лица обметаны беззащитностью приближающегося сна на колесах, туманом и тьмой апокалиптических провалов и высот, которые поезду предстоит преодолевать, чтобы вырваться в равнинные пространства Европы, встающие внезапным, как столбняк, светом в конце альпийских тоннелей.
Лица испиты назревающим на нитях рельс пространством, которые им означено преодолеть, и потому кажутся отсутствующими, латунно дымящимися, как бы теряющими четкие очертания, будто они уже одержимы предназначенным движением.
Но все это открывается лишь взгляду остающегося, начисто лишенного возможности по эмигрантскому своему статусу, а вернее, по отсутствию какого-либо статуса, ехать, к примеру, в Париж.
Якоб Якоб не приехал на вокзал, ибо улетел по делам службы в Израиль.
В ранних бесшумных сумерках посадочная бетонная полоса вдоль поезда освещена слабым светом фонарей и вагонных окон, полна дремотным шарканьем множеств подошв, принадлежащих человеческим теням.
Кон остается: потому он в центре внимания трех отъезжающих вместе, которые завтра, в десять утра, сойдут на Лионском вокзале в Париже.
Три слабые тени на бетоне: ими в эти минуты прощания занят старик Нун.
– Он обращается к тебе, – говорит Кону Майз, – старик тебя спрашивает: как дела, кочевник? Старик считает, что в этом твоя сила. На старика действуют станционные электрочасы, он говорит, что всю жизнь измерял время по собственной тени на песке: утром она была длинной, юной, в полдень короткой, а в ночь исчезающей. Нынче же вот что осталось: ночная слабая тень, не на песке, а на бетоне, не от солнца, а от подслеповатого фонаря. Да и тень эта уже не стрелка времени, а безвременья. Вы вдвоем, говорит старик, он – Нун, и ты – Кон – эти стрелки, он – прошлого безвременья, ты – будущего. Вот это прощальная речь.
Нун иронически улыбается, смущенно трет нос, вдруг обнимает Кона, силы в этом старом галилейском крестьянине хоть отбавляй, машет рукой, уходит в вагон.
– Майз, – говорит Кон, – возьми вот, альбом, эти работы для меня особенно дороги, я их вывез из Питера.
– Так я же через неделю буду здесь. Мы же собираемся подписать договор с галерейщиком.
– Ты приносишь удачу, я знаю. Возьми их в Париж. Считай это прихотью калики перехожего. Им никогда не отказывают в просьбе. Тем более, что просьбы их всегда легко выполнимы. И еще. Надеюсь, при возращении Маргалит согласится мне позировать. Ведь это она принесла мне удачу.
Маргалит смеется, целует Кона в обе щеки: никогда еще так долго и так близко не было к нему ее лицо, и он видит вдруг, необычайно остро, в этом магнетическом поле разрыва, разлуки, тяги в пространство, в эти последние мгновения не ученую даму, не осторожную молодую жену старого солдафона, а существо, слепо женственное, буквально сбиваемое с ног рвущейся из него энергией жизни, до того, что губы ее взбухли жаждой движения, которое ведь тоже страсть, и за улыбкой, посылаемой ею Кону – так заливают вспыхнувшую щепку елеем, зная, что просто вода не поможет – пульсирует, рвется наружу нечто бесовское, искусно выдаваемое за каприз, притягивающее других, мучающее ее, разрывающее все привязанности, боль и милосердие неосознаваемой ею местью за тот первый гибельный разрыв.
Поезд бесшумно стирается, словно губкой, забвенной мглой ранней римской ночи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.