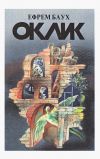Текст книги "Солнце самоубийц"

Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Дождь загнал преследуемого в автобус, куда Кон заскочил на ходу, делая поразительные успехи в слежке.
И вот они уже оба в толпе, идущей коридорами Ватиканского музея, а за отрытыми окнами льет дождь, мокнут неестественно зеленые в декабре клумбы во дворе Ватикана, в каменных кадках плещется вода, швейцарский гвардеец в средневековой каске с картины Босха и в клоунском одеянии перебежал Двор.
Преследуемый Коном совсем близко; рядом кто-то безумолку тараторит непонятно о чем, ибо при лицезрении Рафаэля голоса идущих рядом превращаются в докучное бормотание, более бестолковое, чем бормотание дождя, забарматывание природы.
Преследуемый почти рядом, но между ними – воды стольких эпох – юности, провинции, Питера; исчезнувшего, но вечного в омуте времени бабкиного палисадника; звезд, пахнущих полынью; сумерек в приречном городе, дальних чистых девичьих голосов, – все это стоит между ними столбом света и боли у входа в Сикстинскую капеллу.
Кон избегал ее, страшился, потому и музей Ватиканский обходил стороной, и надо же, чтобы возник этот – он уже почти не сомневается, кто это, но боится произнести имя вслух, ибо только предположение о том, кто это, мгновенно поднимает пласты воспоминаний: в общем-то и не так давно – Вильнюс, шестьдесят восьмой, декада русского искусства в Литве; делегацию везут к партийному начальству, но Кон и этот, имярек, в сию минуту замерший у "Лаокоона", оба люди непартийные, им надо пропуск специальный выписывать, дело затягивается, партийный босс ждет, мелкие сошки нервно мечутся по коридорам, стража перезванивается по этажам, а после окончания встречи, на которой босс, напутствуя, несет уже вовсе (безумную по своей примитивности) ахинею, оба идут к дверям, и вдруг, обернувшись, замирают от удивления: остальные члены делегации пятятся, босс же подходит к дверям и все выстраиваются к нему в очередь на рукопожатие: им-то ритуал этот знаком; улетаем в Вильнюс без напутственного рукопожатия, и вся декада проступает сквозь пьяный угар: батареи бутылок с виски и коньяком (вино в Литве фруктовое) пострашнее артиллерийских оглушают и сшибают с ног, начиная и завершая творческие встречи, по обочинам которых едва слышен поэтический лепет и политическое бормотание с постоянным, как в дурном сне или виршах патриота-графомана, зачином: "Братский привет…", прерываемые взрывами гомерического пьяного хохота в кулуарах над очередным анекдотом.
Единственной чудно-забвенной, такой лечащей тишиной встречает Сартай, бесконечно длящиеся зарасайские озера. Слушать эту тишину не мешает оглушительно встречающий нас оркестр пожарников города Дусятос, где рядом с худым, как жердь, человеком, отчаянно колотящим в огромный барабан, стоит председатель горсовета, соревнуясь пузом с барабаном, а рядом с ним неожиданно стройная, молодая с испуганным лицом, его жена. Не мешает бесконечный пир на дармовщинку, который они якобы закатывают для нас, но мы-то уже давно спим, а они напропалую гуляют до утра, носятся на моторках по озеру, ловят рыбу, жарят, выволакивают нас на рассвете, осоловелых, из постелей, опять сажают за столы, на которых ранний праздничный ужин, не прерываясь, перешел в завтрак. Начинаешь понимать, как пьянка может стать формой жизни, если только пробудившись, видишь бутылку и стакан, вкрадчиво напористый взгляд уже клюнувшего соседа: будешь сопротивляться, он, как детский врач, вливающий в ребенка лекарство, чтоб спасти ему жизнь, просто силой вольет в тебя это зелье. Дважды в течение десяти дней абсолютно трезвею: первый перед огромной эстрадой, где необозримый хор с литовским упорством поет нескончаемую песню, а из транзистора, прижатого к уху соседа, слышу: совершено покушение на Роберта Кеннеди; второй раз – на еврейском кладбище с его лютеранской чистотой, молчанием у склепа Вильненского гаона, рассказами этого, идущего сейчас к "Станцам" Рафаэля, о литовском Иерусалиме – городе этом Вильно. Потом еще Понары, опадающая листьями лесная тишина, ополоумевшая над оврагами и бетоном обелисков в память тысяч расстрелянных только потому, что они были евреями, и этот, в сию минуту уже приближающийся к Сикстинской капелле, стоит у обелиска и почти про себя бормочет слова "Кадпша", которым его учил в детстве дядя его, ребе, – ну разве не судьба, не мистика, не наваждение, что именно этот, напрочь исчезнувший после той декады в бездне мира, именно он, лишь однажды ставший в его жизни вожатым во всем, что касалось их еврейских корней, именно он (а он ли?!) должен оказаться здесь в эти минуты, неотвратимо вести его, Кона, в капеллу, как в Дантов Ад, где – в высотах – движение Божественного пальца рождает Адама.
Вот уже тот, преследуемый Коном, исчезает в толпе, втянут в каменную глотку прохода, и Кон – за ним, теснимый земными телами, вертящийся щепкой, легкой и забвенной, лишенной возможности пойти на дно: быть может, эта невесомость и духовная твердость увидеть собственную и всего мира гибель и устоять – и есть то, что держит на плаву жизни это племя, с того берега, ми эвер, эверов, евреев, – и эту этимологию тоже выдал тот, преследуемый Коном, кто уже там, в Капелле, кто возник столь же внезапно, как и исчез, только и поговаривали, что уехал в Израиль, но можно ли об этом знать что-либо, когда живое существо пересекает границы Скифии в Чопе или Бресте, растворяется в иных краях, как уходит на тот свет, откуда любые небылицы могут оказаться правдой.
4Капелла.
Купол.
Купель.
А-капелла – хор, облако гармонии, обретающее форму купола, капеллы, звуковая форма Божественного присутствия.
В распавшейся гармонии мира – скрытой, устойчивой, но напрочь забытой иерархией существует лишь эта капелла, где купол повернут запредельной мощью Бога, тем пастернаковским "страшным креном к неведомым Вселенным", где купол – купель рождения мира, а стена – купель гибели, Страшного Суда, – и все эти невероятной силы токи, завихрения и разъятия живут неумирающим духом малого Ангела – Микеле Анджело.
Кон ведь наизусть, как таблицу умножения, знает эти сюжеты – "Сотворение человека", "Искушение", "Изгнание из рая", "Страшный суд" – но здесь – в оригинале это проще, мощнее, грубее (нет дешевого глянца открыток и репродукций); здесь чувствуешь трепетом, обрывающимся сердцем прикосновение руки гения к стене, к сырому грунту фрески, мимолетность и каторжный труд, сиюминутность, тут же превращающуюся в вечность, от этого сохнет во рту, знобит, и потому – спасение, быть может, в том, что капелла – эта емкость, назначенная Божественному хору, – без конца полнится шорохом, шопотом, переступанием толпы, которая, попав в его изгибающееся столь мощными флюидами пространство, должна пребывать в неведении во имя собственного спасения, давать подзатыльники, шикать на малыша, щелкающего пистолетиком, который искреннее всех выражает свое полное отсутствие в этих стенах, с такой младенчески-варварской непосредственностью щелкая Вечность по носу.
Необычно, не от мира сего, задрав голову, в опасном напряжении шейных позвонков, скорее захлебнуться, чем увидеть, как рушится с высот небывалый вал жизненной мощи, захлестывающий, лишающий дыхания вулканическим истечением жизни из Божественного пальца, столь просто и невероятно выливающего в тигле эти светящиеся энергией жизни тела, это невероятное мужество держать на себе всю тяжесть мира, как этот купол, держать в абсолютном одиночестве, первыми в мире.
Эта энергия и выгибает купол, устанавливая впервые эту божественно выгибающуюся форму, которая отныне уже навсегда от Сотворения мира будет приподымать самую забытую в низах душу, выгибать ее на этих потоках жизненной энергии, как птицу, как ее крыло, как вообще крыло в восходящих потоках, начертанное другим гением Леонардо.
Только они, тоже сыны Средиземноморья, только другой его стороны, тянущейся сапогом Аппенин, но так и недотягивающейся до полосы Святой земли, зачинающей с юго-запада бескрайность азийского материка, только они, полуостровные, связанные пуповиной и с Европой, и с Азией, поднимаются в зрелищной своей хищности и мощи высот словесной логотворческой хищности и мощи Священного Писания, Библии, этих сюжетов, впрямую, пуповиной связанных с тобой, Кон, и с тем, которого ты стараешься не потерять из виду в толпе и который однажды, на той же безумной декаде искусства, говорил о том, как его потрясает, сколько сил и таланта тратит художник или скульптор на скрытую гармонию, вовсе и не замечаемую зрителем, на детали фриза, отделку фразы (да, да, речь шла о какой-то книге); они и не очень видны картины, барельефы, фрески в складках на многометровой высоте; к ним надо подниматься долго и трудно да так и не увидеть, но именно по этой скрытой, а, быть может, скрываемой мощи определяется их долговечность; но здесь, в Capella Sistina, высокое Божественное облако внезапно отходит завесой, и на миг это не может длиться больше открывается в фокусе невероятной силы сотворение и чудится, что ток Божественной эманации одновременно вливается и истекает из пророков и пифий, сидящих по кругу и как бы несущих и на своих плечах это изначалье.
Исайя, Иеремия, Даниил.
Их головы иудейских мыслителей и каменотесов: сочетание, породившее Микельанджело.
И тут же (коротка наша жизнь) этот вулканический поток низвергается водопадом по стене, водопадом тел, несомых той же энергией жизни, порождающей все грехи вселенские, в Ад, в Преисподнюю, той же страстной энергией, пытающейся рядится в ужас, прах, гибель, тлен, Страшным Судом, сумерками богов, провалом в бездну, кошмаром, увиденным одним глазом гибнущего, зажмурившего другой.
И чувство жалости, пробуждающееся ко всему живому, еще по эту сторону Апокалипсиса и к жертвам, и к грешникам, и к чертям, и к святым, ибо ведь и последние, быть может, включая сына Божьего, не уверены абсолютно в том – восстанет ли новый мир вместо гибнущего, или с его исчезновением сгинут и они, как туманные привидения ведь живут лишь укором в последних проблесках сознания гибнущих. Конечно же, обещано Отцом и Сыном, что мертвые восстанут, но и им, святым и праведникам, в это верится с трудом, ибо здесь, на этой фреске, они зримы во плоти, и потому неверие в них гнездится, как в любой плоти, а если они обернутся абсолютным духом, все это и вовсе исчезнет – и опять будет лишь тьма, хаос, тоу-ва-боу.
Эти библейские древнееврейские слова расшифровал ему опять же тот, за которым Кон уже идет вплотную, на исход, в тратторию, напротив выхода из Ватиканского музея, забитую жующей толпой, темную от малиновых штор на окнах и малиновых скатертей на столах, столь удобную, чтобы подойти к столику, за которым сидит и глядит на Кона во все глаза тот, и вместо «Место свободно?» спросить, как выдохнуть:
Майз?!
5Да, это он, Майзель, мазила, размазня, мышь, сонлив, но талантлив, родом из того же Полесья, на два курса младше Кона по Мухинке (младших-то не замечают), однажды оказавшийся на все десять дней декады рядом с Коном: два жидка в представительной русской художественной делегации.
Теперь время и вовсе испаряется, как пар над выпитым кофе.
На площади Святого Петра, под колоннадами Бернини темнеет быстро. В окнах папского дворца – полотенца, развешанные для просушки.
Птичьи стаи выстраиваются невероятными узорами в закатном римском небе, подчиняясь каким-то тайным своим законам.
После захватывающей нешуточно эйфории Сикстинской капеллы – спад, отлив, обнажение дна – обнаружившаяся вновь Римом, размываемым теменью ночной, напластованная, потрясающая, прирученная к себе, оберегаемая и забвенная, мимолетная и вечно присутствующая – смерть.
Не спасают реставрационные леса на Виа Биссолатти, вокруг колоколен церкви Тринита де ла Монти на пьяца Д'Эспанья, вокруг арки Септимия Севера и дворца Юпитера на Форуме – Риму не уйти от собственной огромности, старости, перегруженности жизнью, грязи, старческого шелушения.
Майзель и Кон перебивают друг друга, разговоры их спонтанны и бестолковы.
По Майзелю, и Ватиканские музеи не спасают, ни Микельанджело, ни Рафаэль, взывающие напряженно к Богу, даже пытающиеся заранее предугадать Его реакцию и выражение Его лица в Сикстинской капелле; медленная, всеобъемлющая и странно неожиданная в мерках тысячелетий смерть – вот реакция Всевышнего на эту навязчивую форму вечной человеческой просьбы, неутомимой молитвы, направленной к небу; с Иерусалимом за спиной особенно острю, внезапно и до корней ощущаешь это абсолютное – не отменяемое никаким судом, мельтешением, лозунгами, суетой – присутствие здесь смерти.
Майзель возбужден встречей, пожалуй, даже больше Кона, поэтому говорит сумбурно, особенно картавит, пугаясь собственного пафоса, глотает слова, но попутно выясняется, что он тоже еще задолго до музея заметил Кона, тоже не верил глазам своим, а еще косвенно выясняется, что все эти посещения отелей, баров, беседы с мимолетными случайными людьми, апперитивы и каппучино, тоже форма сопротивления одиночеству, но уже на западный лад – и все это внезапно оборачивается печальной темой чужаков в великом мертвом городе, которые суетятся, каждый на свой лад, но скользят мимо и приобщаются счетоводом-временем к вечности, как и холодный поцелуй камня, тесанного руками Истории, руками какого-нибудь строителя времен Августа-Веспасиана-Т раяна.
Может, потому и ощущаешь родство, ибо равно принадлежишь руинам?
И что там швейцары, похожие на адмиралов, сверкающие шевронами, галунами, эполетами и пуговицами? Майзель красочно описывает лицо, словно сошедшее с портретов Тициана, в наряде английского короля Генриха Восьмого, – хранителя музея, который в опереточном лондонском Тауэре стоит с алебардой в руке, но Майзель видел его усталым, после долгих часов стояния, за стойкой в забегаловке, тут же, рядом с Тауэрюм, все в том же аляповатом наряде по-стариковски жующим бутерброд; странная это порода людей – хранители музеев, вот еще вспоминается Майзелю молодой спортивного типа парень, явно не к месту, хранитель музея Густава Моро на улице Ларошфуко в Париже, а рядом с ним – хранительницы – бледные анемичные девицы, подстать девам с полотен Морю. Вот буду швейцаром, думает весело Кон, или лучше – хранителем музея: все же при искусстве; а что, разве все бездари, наделенные званиями заслуженных деятелей искусств за беспрерывное изображение вождей на фоне дежурных событий поистине краткого курса истории, беспрерывно преющие в президиумах, не были истинными швейцарами и сторожами собственной карьеры, а художники, пошедшие в сторожа и истопники, сохранили истинный огонь искусства?
А в Лувре, смеется Майзель, стоит седой негр-хранитель зала, в галунах, шевронах, фуражке с золотым околышем, рта не раскрывает; туристы из Германии целыми семьями, с квадратными лицами, багровые, минуту назад объевшиеся сосисками и опившиеся пивом в буфете Лувра, валят скопом, и все к чернокожему с одним словом: "Мона Лиза", а он важно, рта не раскрывая, указывает пальцем направление; Майзель говорит о Париже, захлебываясь его видениями, ведь он сейчас по дороге в Париж; всегда едет через Рим, а в Париже на этот раз выставка израильских художников: о, Париж, помнишь Монтана; идешь через Новый мост, Пон Нёф, вот здесь строили баррикады, печальный голос политехника пел "Марсельезу", хор из-за груды булыжников, выдранных из мостовой, уныло подпевал: будничная скука свободы и смерти; Париж, Парис, как нарцисс, легкий и быстрый в противоположность тяжелому красно-бурому Риму, Парис, летящий, как парочки на мотоциклах по Елисейским Полям, да так, что из-под платья обнажается девичья ножка, и все летят за ней напропалую, но увязают в потоке вещей, в руслах магазинов, пассажей, и вот уже человек теряет свою устойчивость, погружается в груды изделий, зарывается в ткани, тонет в запахах духов, уже не различает течения времени в искусстве, археологии, архитектуре: все сплывается вместе – египетские мумии Лувра плывут трупами Варфоломеевской ночи, сталкиваясь с жертвами Коммуны в грязной полноводной Сене. Как остановиться? За что зацепиться? Вал туристов забивает улицы Латинского квартала, с детской радостью и аплодисментами встречая самые примитивные номера фокусников-любителей, не отрывая глаз от глотателей шпаг и огня, ибо на всех фокусах и кривляниях отблеск этого легендарного города.
Майзель уже три года в Израиле, живет в Иерусалиме: представь себе свет от голубых теней и красок, внезапный, как "Да будет свет" – это и есть Иерусалим; мерить его надо уступами террас; когда в Иерусалиме идет дождь – в Иудейской пустыне безоблачное синее небо, несведущие едут на Мертвое море; между тем в горах Иудейских накапливаются воды, чтобы внезапно хлынуть потоками грязи, камней в Мертвое море, и это может длиться целые сутки: кофейный поток сметает все на пути; сухие, как кости в видении пророка Иезекииля, вади внезапно оживают; я был застигнут над вади Кумран, да, да, недалеко от пещер, где нашли рукописи давностью в две и более тысяч лет; краски Рембрандта кажутся навязанными атмосфере Иерусалима, но этот багрянец к ночи – и есть Иерусалим; в Синае уже успел побывать: стеклянное одиночество, как бы переливающееся легионами грезящих Ангелов; миражи, как часть восприятия Востока; белизна песков, колючки, ржаво-черные спины гор; кафель неба, помнишь, напоминал нам мусульманское пространство, возникающее со словом – "Исфагань"[5]5
Город в Персии (Иране).
[Закрыть]
Майзель живет в «Палотти» – католической гостинице, на самой грани бывшего еврейского гетто, стены вокруг которого разрушили, примерно, лет сто назад.
Вот мы сейчас переходим Тибр по "Еврейскому мосту", знаешь, насколько он стар: построили в 62 году новой эры еврейские рабы, привезенные из оккупированного Иерусалима; нет, Храм поджег Тит, сын императора Веспасиана, в семидесятом, он и пригнал массу пленных евреев, они, друг мой Кон, и построили Колизей, где ты, естественно, побывал, а о гетто слыхом не слыхивал, да ведь это же древнейшая часть Рима, погляди на эти улочки, древние колонны и руины, фонтаны эпохи барокко, дома времен Возрождения, евреи же самые древние римляне среди моря пришлых после Второй мировой эммигрантов-сельчан из южной Италии. Преследовали ли тут евреев? Всегда. Сначала римские императоры путали их с ранними христианами, происхождение-то одно. Затем сами императоры стали христианами: начали преследовать за то, что те не хотят обращаться в христианство.
Этот Майз всегда был набит информацией.
Странно теснят Кона эти узкие кривые улочки, выходящие на более широкую и, вероятно, главную – Виа дель Портико, Оттавия. Из узких, как норы, баров, несет банным теплом, в магазинах специфический запах тканей и одежд, и вправду какой-то скученный, ущемленный, еврейский. А вот и пекарня.
– Хочешь попробовать еврейскую пиццу? – спрашивает Майз.
В пицце – орехи, изюм, засахаренные фрукты, миндаль.
Майз и владелец пекарни, как старые знакомые, переговариваются на иврите, от радости почти пуская пузыри. В окне пекарни – ивритский текст в рамке.
– Декларация независимости Израиля, – внезапно усерьезнив лицо, говорит Майз, на миг замерев, как при исполнении гимна.
– Пьяцца Джудеа, – ослепительно сияет владелец пекарни.
– Эту площадь раньше называли Еврейской, – переводит Майз, – слушай, Кон, уже довольно поздно, чего тебе таскаться в Остию, раз уж так… пересеклись, оставайся у меня ночевать, благо, номер по-католически уныл и огромен, да и легче вдвоем перенести присутствие Христа-распятого над кроватью, нет, нет, есть еще и диван, гулять так гулять, пошли вон туда, в кошерный ресторан.
Вино кошерное, из Израиля, фирменные блюда – жареная треска, "артишоки по-еврейски", что это еще за диковинка?
– Легенда такая: римским евреям запрещали выращивать овощи, – говорит Майз, – вот они и разыскивали всякие дикие растения, изобрели и это блюдо. Ну, Кон, друг ситцевый, за встречу.
Кон жаждет ощутить себя расслабленным, в своей тарелке, пробуя из нее еврейские кушанья, но раздражает какая-то скудность, постный пафос окружения, пряничная сладость еды, раздражает не менее, чем склепный дух католичества в ту первую ночь, в пансионе, с деревянной фигуркой распятого над головой и непрекращавшимся сердцебиением.
– Не знаю, о чем ты думаешь, – внезапно говорит Майз, – а мне вдруг пришли на ум слова Черчилля: Библия – выдумка, но читая ее, мы верим каждому слову.
– Но Черчилль еще сказал: христианство старо? Но с тех пор человечество ничего лучшего не выдумало. Как там у вас, в Израиле, жарко, шумно?
– У нас?.. В каком смысле? Пахнет чесноком, и все – пархатые?
Возникла неловкая, накапливающаяся, накипающая, изводящая своей длительностью пауза. Словно бы за столом внезапно очнулись два напрочь чужих враждебных друг другу человека.
Кон первым закашлялся, засморкался, вытирая слезы салфеткой.
– Помнишь, Майз, – заговорил Кон, – ты говорил на еврейском кладбище в Вильнюсе о завороженности смертью, дремлющей в интеллигенте? И рвется он к своему здоровому народу с его пусть животной, но жаждой жизни? Помнишь? У меня ее нет, Майз, этой жажды.
– Ты что, оправдываешься?
– Да и что это такое – народ? Стадо? Когда далеко, далеко, как фата-моргана, кажется еще летящим тебе навстречу будущим, надеждой, обещанием, но… очнулся, а тебя уже топчут копытами люди, лошади.
– Вдруг ты их чересчур разогнал, этих лошадей надежды? Ты же, брат, сам себя выпустил из бутылки, в которой всю отошедшую жизнь сидел, согнувшись в три погибели. Но ты выпустил еще нечто, показавшееся тебе дымом. А это кони. Просто скачут быстро так, что кажутся дымом. Растопчут.
– А в Иерусалиме не так?
– Там несколько иначе. Выбрался из бутылки и сразу припадаешь к земле: слышишь топот коней, которых еще не впрягли в колесницы, но, главное, слышишь тишину. Особенную. Как исцеление.
– Один тут кинулся в Тибр. Из наших.
– Ты его знал?
– Пытался выяснить. Но тут же такой сквозняк. Выдувает из памяти. Живут же тут мимоходом. Самих себя не помнят, да еще стараются забыть то, что было. Потом уезжают. Новые валят слепой массой. И все. Человека как и не было. Кто-то мельком рассказывал мне. Вспомнил, когда проходили по мосту.
– У всех нас, вырвавшихся оттуда, из Скифии, боязнь замкнутого пространства, высоты, воды и петли.
– Послушай, Майз. В эпоху позднего экзистенциализма, то есть сегодня, с любовью к Сократу и против Гегеля, каким должен или может быть внутренний порыв художника, еврея, да, но воспитанного на Достоевском, христианстве, знающего ницшевского Антихриста?
– Ницше просто конспектировал Федор Михалыча. Карамазовых, к примеру. Вот и весь Антихрист.
– Да я не об этом. Я – о порыве. Что это? Крик души, скованной сонным параличом? Все закрытое, внутренне согласованное, скрепленное печатью рабства, расхристывается?
– Ты имеешь ввиду Христа?
– Или может это поздно переживаемый нигилизм? То, что было в начале века, в России, именно в Питере, затем кроваво загнано в Сибирь, в Гулаг, в подсознание, теперь под иным знаком возникло в Риме? Где – точка опоры? Не знаю, может и вправду там, в Иерусалиме, в его небе, как ты сказал, прикол, колышек, репер, начало координат мира? Но разве не странно выглядят эти чисто российские кухонные споры на фоне Рима?
– Да не порыв это вовсе.
– И не позиция. Выстраданная ли, выработанная, внезапно обнаруженная? Это какое-то воистину экзистенциальное упрямство, граничащее с жаждой самоуничтожения.
– Не слишком ли ты прихватился к Риму, к его соборам, картинам, скульптурам? Христианствующий под влиянием Рима – это еще можно понять. Но у меня есть знакомый в Париже.
В России принял христианство. Хочет вернуться в иудаизм. Ему говорят: ты же профессиональный предатель, сначала еврейского Бога предал, теперь Христа предаешь, потом в мусульманство переметнешься, благо уже обрезан.
Опять возникла неловкость. Следовало бы встать и уйти.
– Не клеится у нас, Кон. Может и вправду все дело в том, что я из Иерусалима? Там живешь как на берегу. Между земным и небесным. Ты уже настолько связан с небесным, что к тебе потеряли интерес земные.
Сквозь окно ресторана – на стене противоположного дома вывеска – "Сонино" над лихо начертанными краской "магендавидом" и "семисвечником": все это мерцает размыто и слабо, то ли в свете ночного фонаря, то ли в охваченном внезапной дремотой сознании Кона.
Дремота, быть может, как реакция на проглоченную обиду. Не встал, не ушел.
"Быть может, в этом все дело, – думает Кон, – выбросило в иную жизнь, и обе стороны потеряли к тебе интерес: и небесная, и земная?" Вслух же губы произносят:
– Сонино.
– Самая распространенная в Риме еврейская фамилия, – говорит Майзель.
Дремота выносит Кона вслед за Майзелем, проглатывая по ходу не только обиду, но и щелканье кассового аппарата, шум толпы на улице, огромные мраморные развалины построенного еще императором Августом портика в честь своей сестры Оттавии. За ним высятся колонны остатков театра Марцелла, на которых странным паразитическим придатком лепятся, светясь окнами, квартиры современного Рима.
Бессмертной латынью цокают тысячелетние камни.
"Sic transit gloria mundi" – Так проходит слава мирская.
Восточно-мавританский силуэт римской синагоги.
Кон внезапно приходит в себя. То ли с Тибра прохватило холодным сырым ветром. То ли от голоса Майзеля, говорящего непонятные слова на иврите:
– Ой, гой хотэ, ам кевэд, авно зэра мэерим, баним машхитим, азву эт адонай, ниацу эт-кдош-исраэль, назору ахор, – это из пророка Исайи, четвертый стих из первой главы: "Ой, народ, грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад…"
– Ты что, в ешиве учишься, Майз?
– Да это меня в детстве дядя учил. Врезается на всю жизнь. Бабка моя в девяносто читала стишки из приходской школы "Румяной зарею покрылся восток". Видишь, церковь у входа в гетто, надпись на ней – иврит и латынь, из того же Исайи: "Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым…" Сюда, брат, гнали евреев учить катехизис да еще проверяли, не затыкают ли "непокорные" уши ватой.
– Майз, вот мой автобус, до станции метро "Колизей", – вдруг заторопился Кон, – я тебя завтра найду, гостиница "Палотти", номер 302?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.