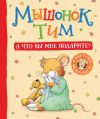Текст книги "Скажи это Богу"

Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Приложение 2
Счастливый Робинзон
Даниель Дефо прожил семьдесят лет (1661–1731). Робинзона он впервые выпустил в свет весной 1719 года. Прозорливость профессионального разведчика подсказала автору, что успех романа будет колоссальным и обессмертит его имя, причем при жизни, то есть он успеет узнать буквально, что каждый говорит о нем. Практичность журналиста (а точнее, едкого памфлетиста) подсказала ему, что читатель возжаждет чего-нибудь вроде «Робинзон-2», поэтому в конце книги он опубликовал план будущего продолжения.
Он был в высшей степени занятной личностью, этот сын мясника по фамилии Фо. Прибавка «Де» появилась, когда будущему писателю было уже сорок лет от роду. Легенда гласит, что псевдоним родился из подписи: D. Foe. То есть Daniel Foe. «Даниеля» он оставил, а фамилию сделал более звучной, звездной, в ней проявлен артистизм его необычной натуры и, конечно, явная претензия на другой социальный уровень. Намного выше врожденного.
История создания Даниелем Дефо разветвленной, отлично организованной, превосходно законспирированной службы заслуживает отдельного рассказа. Вкратце сведения о ней присутствуют и в открытых источниках, но на них крайне редко ссылаются, потому, я так думаю, что исследователи с большим трудом усматривают связь между образом умного автора-разведчика – и ворохом несусветных глупостей, прилепленных к образу книги ее первыми же читателями-критиками. Да и вторыми-десятыми-сотыми тоже.
Глупость первая. Борьба человека с природой, покорение природы, подчинение ее себе. Это очень глупо.
Следует вспомнить, что основным прототипом Робинзона принято считать подлинного шотландского моряка – беднягу Александра Селькирка, поссорившегося с капитаном корабля и высадившегося на необитаемом острове в Тихом океане, где провел четыре года и четыре месяца, покуда не был подобран английским кораблем под командованием известного путешественника Вудса Роджерса. Да, была такая известная история, и не только эта. Литература о путешествиях и приключениях к моменту рождения Робинзона уже насчитывала века. Почему же именно роман Дефо, в отличие от множества подобных, обретает такую силу, что становится бессмертным?
А потому, что речь в романе идет об авторе, что и придает этому аллегорическому произведению страстную искренность. Душа Дефо полностью обнажена именно здесь, в истории странника-отшельника, повелителя своей земли (тут исследователи начинают обычно лепить про буржуазный строй и феодализм с пережитками рабовладения, воплощенными в образе Пятницы). Читатели, до сих пор не знакомые с основной профессией Даниеля Дефо, не могут понять, что весь «Робинзон» – это, так сказать, шифрованная записка.
Автор – руководитель секретной службы, снабжавшей министра Роберта Харли, спикера палаты общин, точнейшими, из первых рук сведениями о настроениях населения в стране, о заговорах и прочем, – такой автор прекрасно понимал, что лишь разгадывание тайн способно вечно разжигать всеобщее любопытство. В подтверждение моей гипотезы (об отсутствии прямой связи между общепринятым прототипом – Александром Селькирком – и образом Робинзона Крузо) задаю себе вопрос: зачем было Дефо в семь раз увеличивать срок пребывания своего героя на Острове Отчаяния – против срока якобы прототипа? Как и сейчас, в восемнадцатом веке писатели чудесно чувствовали разницу между реальным временем и художественным. Если бы речь шла о «борьбе с природой» или, что еще круче, «единоличном прохождении многих стадий в становлении человечества как трудового сообщества», что стало общим местом во всех учебниках, да и все так привыкли думать, – то на всю робинзонаду могли вполне уйти те же четыре года. И впечатление было бы таким же сильным. Герой делал бы засечки на столбе, считая дни; точно так же мог бы возникнуть темнокожий друг Пятница…
Ан нет. Двадцать восемь лет! Кстати, жил даже при деньгах, вынесенных с погибшего корабля наряду с инструментами и прочим необходимым для одинокой жизни инвентарем. Деньги тут обязательны. Очень важная деталь.
Двадцать восемь лет. И тот же Пятница – ну почему он, а не она? Чтобы целомудрие читателей-пуритан поберечь? Тоже глупости. Целомудрие читателей нисколько не пострадало бы, будь Пятница женщиной. Весь вопрос был бы только в корректном описании их дружеских чувств – и нормально все обошлось бы. Так называемая половая жизнь Робинзона описана всего в пяти – последних – строчках романа: «Тем временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, а главное, женился – не безвыгодно и вполне удачно во всех отношениях, и от этого брака у меня было трое детей – два сына и одна дочь». Все. На этом заканчивается бессмертное произведение. На детях.
Вторая же часть – «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» – и близко не возымела такого успеха, как первая. Потому что… полностью отвечает тем стереотипам, что приклеились к первой части. Тут тебе и «борьба с природой», и приключения, и путешествия аж по трем частям света с заездом в Сибирь!.. И – ничего. Пусто. Такого чтива – много, даже ловко написанного. И никому не интересно.
Следовательно, закрывая вопрос о глупости номер один, мы утверждаем, что реальным прототипом Робинзона был автор; что пребывание на необитаемом острове и хозяйничанье на нем есть аллегория пребывания самого Дефо среди людей и их ничтожных тайн, кажущихся им такими значительными, что за них платят деньги… Описывать природу острова – куда чище и свежее, чем известные автору поступки и замыслы людей.
Теперь о глупости номер два. Современные подростки, начитавшиеся журналов о пользе и даже неизбежности непрерывной, полновесной половой жизни, ехидно задают вопрос: а как же Робинзон за столько лет на острове никого и ни разу? Тут же начинаются пошловатые разговорчики про Пятницу, про любимую козочку, про кошечку, неизвестно от кого окотившуюся, и прочая…
Будь роман не аллегорией жизни автора, а приложением к журналу «Здоровье», таковая постановка вопроса могла бы иметь место, правда, не в приличном обществе…
В конце романа Робинзон, как я уже процитировала, «не безвыгодно» женится. В нем сохранились все мужские силы, чтобы оценить свой брак как вполне удачный во всех отношениях, а также родить детишек. Без репетиции такая премьера и в особенности такая ее авторская характеристика не представляются возможными. Но если принять сей достойный финал робинзонады как кость пуританам-современникам (вдруг и у них возникнут свои вопросы к этой стороне жизни любимого героя) и, освободившись от еще одной порции клише, понять суть взаимодействия Робинзона с его Островом, мы поймем, что двадцать восемь лет (а не четыре года у якобы прототипа) были годами высочайшего счастья, поскольку была власть, а она чрезвычайно эротична. Ощущения, которые она дарит мирскому человеку, пробившемуся к ее вершинам, куда острее, чем простой экстаз от коитуса. Да и вообще власть – она дается свыше.
Робинзон двадцать восемь лет (четыре семилетних цикла, четырехкратное обновление духа и клеток тела) владеет безраздельно землей, возделывает ее, получает результат… Ведь похоже, правда? У него уже есть власть. Он уже все имеет. Потом появляется дружелюбный подданный, все логично!
Прелюбопытны последние годы жизни Даниеля Дефо. Его герой не умер при жизни автора: в том смысле, что вторая, редко издаваемая часть «Робинзона Крузо» заканчивается обещанием путешественника успокоиться и счастливо дожить свои дни в Англии, «научившись ценить уединение». (Господи, да ему, оказывается, целая жизнь понадобилась для вот чего! Оценить уединение!)
Реальный прототип Робинзона – Даниель Дефо – скончался как только мог загадочно.
За полтора-два года до смерти он, бросив все, куда-то бесследно исчез. Двести с гаком лет в учебниках писали, что его так замучили кредиторы, что ему пришлось скрываться и умереть в нищете. Что до кредиторов, то они были на самом деле, но не потому, что Дефо не знал – как заработать деньги. Просто это была одна из его игр: дурить людей. Особенно если в части самого дорогого для них – денег. Да, он не был ангелом.
Поэтому, выражая людям и самому себе свою последнюю волю, – людям, восхищавшимся «Робинзоном Крузо», но не понявшим в книге почти ничего, – и себе, знавшему уйму мрачных человеческих тайн, – он спрятался от «кредиторов» с использованием всех хорошо известных ему приемов секретной службы. И умер так, как считал необходимым, почти в том же возрасте, в каком мог умереть и Робинзон. Последнему Дефо, правда, отпустил не менее 72 лет (это по второй части книги), а себе – 70. Наверное, устал морочить людям головы. Ведь это слишком легко!..
Мне почему-то кажется, что я понимаю господина Дефо.
У него было сто имен, как у превосходного шпиона, имевшего свои центры сбора информации не только в Англии, но и в Париже, Дюнкерке, Бресте, Тулоне… Он знавал тысячи людей, видел тысячи лиц – и озаренных невинной улыбкой, и искаженных гримасой зависти. Судя по всему, вторых он видел чаще.
У него было первое имя собственное, от отца – Foe.
А в вечности осталось лишь то, что он сам себе придумал, суммировав сотню тех и одно фамильное.
А пресловутыми «кредиторами», кажется, он считал всех. Вообще всех, а не только тех, кому не вернул эту ерунду – деньги…
Он все выдумал. Но правдиво до последней метафоры.
Когда-нибудь его жизнь и творчество будут поняты вполне.
(Конец Приложения 2)
Приложение 3
Моя новейшая история
Формальное начало моей новейшей истории пришлось на утро 4 октября 1993 года.
Просыпаюсь раньше будильника и вдруг вижу: стоит надо мной моя дочь. Полностью одета, умыта и готова к выходу в детский сад, что странно. Обычно эту процедуру затеваю я, но…
– Мама, за окном что-то происходит…
Я слышу: не гром. Канонада. В центре Москвы стреляют.
В принципе, я знала, что тем и кончится, но слышать все это за собственным окном почему-то не готова.
– Знаешь, ребенок, мы сегодня не пойдем в детский сад. Посидим дома. Позвоним воспитательнице, объясним, что у нас тут расстрел…
– У нас не работает телефон, – говорит дочь.
– Ничего, у соседей другое начало номера, у них работает. А на улицу выходить нельзя.
Ближе к восьми утра, когда в отдаленный детский сад на «Тимирязевской» уже точно свезли детей из других, невоюющих районов Москвы, я пошла звонить воспитательнице – к соседям, у которых номер телефона начинается на другие цифры. Моя комбинация цифр была отключена, поскольку одинаковая с Белым домом на Краснопресненской набережной, на тот момент – опальным Верховным Советом РСФСР. Работницы бюро ремонта телефонов в те дни бесстрастно отвечали возмущенным гражданам, что идут работы на линии.
Объяснив детсаду, что мы не приедем с Красной Пресни на «Тимирязевскую» по уважительной причине (за окном стреляют), я вернулась в свою квартиру и принялась думать. И удивляться.
Ничто не отвлекало меня от раздумий: телефон не работал, телевидение не вещало, горячей воды и отопления нету. Была лишь ограниченная возможность поговорить – с дочерью, а ей всего шесть лет. И она очень трудно переносит мои слезы. Сама плачет редко, человек она деликатный.
Через несколько лет я попросила ее: вспомни! Что было в то утро? Она говорит: ничего. Просто встала пораньше, сама не знаю почему.
А еще я знала, что в ту минуту где-то близ Белого дома находится еще один наш домочадец – и что позвонить он тоже не может. Ночь он провел там, у костра. Думал, что кого-то охраняет, чуть ли не всю Россию.
Как ему добраться до нашего дома? – вспыхивало в моей голове время от времени. По мирной дороге тут пять минут пешком, а сколько под пулями – известно только Господу.
* * *
У нас дома в ту пору был черно-белый телевизор, и когда днем я вдруг нашла на нем заморское CNN, что было ну совсем непривычно, точнее, нереально, – его вещание получилось и мистичным, и ультрадокументальным: кадры на экране сопровождались звуковым квадроэффектом. Взрыв за окном – взрыв на экране. Репортаж через технику американской компании – мне прямо в экран, вздрагивающий от того движения российской военной техники, о котором американский репортаж… Экран трясет с обеих сторон. Меня тоже. Пока еще не от страха. Пока только от странного чувства к моей тихой Родине…
Опасность приблизилась вплотную к нашему дому вечером, когда стемнело. Автоматная стрельба не прекращалась ни на секунду весь день, и мы успели попривыкнуть. Но когда за темно-синим окном на нашем пятом этаже полетели красные трассы и ребенок воскликнул: «Мама, смотри, как красиво!», тут я и поняла разницу между детьми и взрослыми. Младенца за шкирку – и в коридор: подальше от красивого окна. Думать было уж точно некогда.
Хоть и не разбираюсь я в живописи, но это было дьявольски красиво. За окном – густая синяя ночь, грохочут автоматы, и мимо моего балкона летят красные трассы. Красиво трассирует сатана…
Если прямо за вашим окном пушки прямой наводкой лупят по парламенту вашей любимой страны, вы имеете крупную возможность и подумать, и почувствовать. Но в тот вечер я почему-то не занималась ни тем, ни другим. Оказывается, достаточно даже пассивного присутствия при военных действиях, чтобы впасть в измененное состояние сознания. Собственно, к тому же устремлены все психотехники, все подходы к медитации, все способы остановки «словомешалки», все первейшие напутствия всех гуру – какую бы ересь они ни представляли.
Война наркотична именно из-за блаженства недумания. Кстати, один священник по телевизору сказал 7 января 2001 года, что из-за многовековой путаницы и десятков календарных опытов возможна ошибка, сохранившаяся в истории до сих пор, отчего все мы, возможно, встретили третье тысячелетие еще в 1993 году. Как раз тогда, когда у меня за окном били пушки, во дворе лежали трупы, а двое раненых ночевали в моей квартире, поскольку им некуда было идти. Там, на улице вокруг моего дома, вообще нельзя было передвигаться из-за тотального огня.
Стрельба уже во дворе. Я учусь не думать о взрослом мужчине, которому сегодня все-таки хорошо бы вернуться домой, но как? Если и утром это казалось проблематичным, то к вечеру стало невероятным. По нашему двору невозможно идти – я слышу это. Мы с ним не первый день живем вместе, поэтому я вполне могу представить его действия. Он будет все равно пробираться к дому, такой характер, я знаю это и стараюсь представить себе, что кругом тишина, идти можно спокойно, все работает, все нормально…
Он дошел. В конце концов в двери заелозил ключ, и я услышала: «Извини меня, они тут такие…»
Я выглянула в коридор: он привел двоих. Один – ничего, в относительном порядке, называется Саша. Другой – страх и ужас – Юра. Лица просто нет. Так искочевряжено, что вроде и не с кем разговаривать.
– Вы кто, откуда?..
Дальше идет странный разговор о том, как один (Саша) – просто гулял. Назначил девушке первое свидание – на Тверской! 4 октября! Угораздило. Там они выпили, и он пошел провожать ее к «Баррикадной» пешком. Как же надо было увлечься свиданием!
Девушка – врач, и когда они с Сашей споткнулись о первый труп, они обратились к близстоящему блюстителю с естественным сообщением, что мы гуляли-гуляли, а тут, в сумерках, вот что, видите ли. Следствием чрезмерной наблюдательности, несвоевременно проявленной влюбленными, стала быстрая разлука: Саше врезали по морде – и в одну сторону, девушку за плечико оттащили в другую. Бывший десантник, он, на свое счастье, все-таки успел прочистить уши от любовной музыки и расслышать выстрелы, углядеть тучу военных со стволами наперевес и сообразить, что надо делать ноги. Он рванул от закрытой «Баррикадной» к «Улице 1905 года», все еще надеясь разыскать свою внезапно испарившуюся возлюбленную, и огородами, огородами… Словом, огненными вихрями Пресни, в которые парень попал по чистой человеческой любви, его занесло в наш двор. Повезло.
Если Саше досталось умеренно, Юре повезло намного меньше. Юра вовсе не гулял, хотя пострадал тоже по любви – к Родине и Конституции. Он две недели жил у Белого дома на траве, там много было таких, кому не понравился Указ о досрочном роспуске парламента. «О поэтапной конституционной реформе…» У костров ночами дежурили, о жизни беседовали, учились строиться и маршировать. В живых мало кто остался.
Юра тоже ждал чего-то, защищать готовился; был и внутри Белого дома.
Но когда 4 октября ударили пушки, он понял, что умение строиться не пригодится никому и надо удирать; он ухитрился вырваться из уже дымящегося Белого дома и дворами направился к тому же метро «Улица 1905 года», куда в итоге не смог пройти и также застрял в нашем дворе.
По дороге он, как и вышеупомянутый Саша, повстречался с блюстителями, но уж ему врезали по полной программе. Ускользнул чудом. Думаю, ввиду тщедушности его телесной конституции (он химик по профессии, на взгляд – в чем душа держится, никогда не подумаешь, что защитник чего бы то ни было…). Посему был бит без вдохновения, но педантично.
У моего подъезда они и встретились: аполитичный Саша с довольно-таки целым лицом и очень политизированный Юра с чем-то синим и бугристым вместо лица. В подъезде пытались звонить по квартирам. Глухо. Всех нету дома.
– А ты-то как пробрался к дому? – спрашиваю у своего домочадца.
– Не знаю. Там сплошной (…) В подъезде нашел вот их. Сказал, что у нас пятый этаж, а ты вроде бы нормальный человек и пустишь…
– Понятно. У нас, ребята, сейчас ни телефона, ни горячей воды. Все отключено ввиду особой близости к месту действия. Так что я буду греть холодную, а вы рассказывайте…
* * *
Ночевали оба у нас. Утром, когда ослепительно засияло невозмутимое солнышко, я попросила у Юры какую-нибудь его фотографию. Он глянул в зеркало, усмехнулся и достал из внутреннего кармана свой военный билет (надо же! он дежурил у Белого дома с важным документом в кармане!). И я, сверяясь с крошечным невразумительным снимком, загримировала Юру театральным гримом – «под Юру». Гример я никакой, но тут постаралась, чтоб хоть какое подобие лица было. И чтобы Юра все-таки смог выбраться из нашего района в свой, на «Маяковскую». Вроде близко, а с таким лицом, да в камуфляже, причем явно не по размеру, – по центру Москвы 5 октября 1993 года гулять было ни к чему. Трупы за ночь убрали, но техника еще не ушла, и общий боевой настрой блюстителей сохранялся. Это чувствовалось в воздухе. Воспитание Юры могло повториться – с гарантией.
С Сашей проблем было меньше. Проснувшись, он тоже посмотрел в зеркало, без подсказки решил, что все уже в порядке, быстренько умылся холодной водой, поблагодарил хозяев за приют и ушел – разыскивать утраченную вечером подругу-врача. С ним мы больше никогда не виделись. А Юра с тех пор звонит по праздникам и представляется так: «Это тот Юра, помните? Спасенный…»
Потом, когда все стало рассасываться – ушли танки, появилась горячая вода в кранах, звук в телефоне, плановая картинка на экране телевизора, – мы с дочерью заболели. Реакция в виде простуды.
Разобраться с внезапными гостями, даже раненными, оказалось легче, нежели со своими домашними. Девчонка приболела таким кашлем, какого я от нее никогда не слышала. Мужчина стал безработным и остропьющим. Ему показалось, что жизнь кончилась. И он ушел из нашего района…
У меня тоже не стало работы, поскольку разбитый Белый дом до октября и был моим местом деятельности. То есть зарплату-то мне худо-бедно платила газета, но называлась-то я в ней парламентским корреспондентом. Ходила в парламент и описывала, как могла, свои ощущения. Мне нравилось.
Когда все одномоментно кончилось (Верховный Совет – у РСФСР, деньги – у газеты, желание что-либо описывать – у меня), да еще и личная жизнь посыпалась, опять возникло это мое треклятое стремление подумать. Молодая была еще, глупая. Разве можно думать, да еще в октябре 1993 года, в России?
В конце концов, я думать перестала и положилась на волю Божию.
Это все, Анна, присказка. Погоди, потерпи еще немного, а то без естественно-исторического фона ты не прочувствуешь основную сказку.
Вернемся в 1993 год. Закончился расстрел, заработал телефон, ушли раненые, умерли последние герои. В мире наступила страшная вязкая тишина. Особенно в моем мире.
И вот иду я как-то раз по своей квартире в размышлении: простуда простудой, но мне надо где-то работать. До расстрела я была парламентским корреспондентом газеты и ежедневно ходила в Белый дом за впечатлениями. И мне очень нравился этот бесплатный театр. И съезды народных депутатов в Кремле, и обычные заседания, и все-все, потому что я впервые в жизни так близко видела политику и мне было крайне любопытно. Почти два года моя письменная журналистика была посвящена парламенту и парламентариям, коих я упорно интервьюировала с колоссальным личным интересом: что же за зверюшки такие – борцы? Я сопереживала, возмущалась, соглашалась, – все всерьез, все через сердце.
И вот за одну ночь все кончилось. Я чувствую, что не хочу писать о политике и политиках после 4 октября. Моя журналистика закончилась. У меня нет слов. Я раз и навсегда усвоила, что борьба за власть – это абсолютно чистый жанр, в котором нет больше ничего, кроме борьбы за власть.
Поэтому я иду по своей квартире, простуда простудой, но ведь даже спросить совета не у кого!
Мой взгляд случайно попадает на красивый, блестящий незнакомый предмет. Параллелепипед. Он почему-то лежит на моем собственном письменном столе! Вспоминаю, что недавно мой дядя подарил мне хороший, японский, диктофон. Попользоваться еще не успела. В Белый дурдом бегала еще со старым, а этот, новый, словно берегла для чего-то великого…
Взяла коробку в руки, поизучала и обнаружила, что в приборе есть и радио. Тысячу лет не слушала радио! Надо же! А у меня оно, оказывается, есть!
Включаю – и слышу мягкий голос, читающий объявление о творческом конкурсе на радио «Р». Голос перечисляет параметры, коими должен обладать претендент на место ведущего, и я понимаю, что это знак судьбы, – и быстро бегу звонить по объявленному номеру. Не занято!
Через минуту я уже разговаривала с главным редактором «Р», и он подтвердил готовность радио встретиться с претенденткой на место ведущего.
Доболев простуду, я приехала в Останкино знакомиться с начальником.
Для начала он пояснил, что терпеть не может женщин, которые, вроде меня, с порога объявляют, что в журналистике все умеют, все знают. Мне понравилась его прямота. И хотя эта прямота бывала тяжеловата для жизни окружающих, я не в претензии. Я навсегда благодарна этому человеку. Он взял меня на эту работу – с улицы. Без анкеты. Он даже не спрашивал, что я делала «в ночь с 21 сентября на 4 октября», – такая вот шуточка вышла тогда из народа. Редактору было важно только одно: может человек в прямом эфире что-нибудь сделать интересное с микрофоном – или не может.
С ноября 1993 года я стала полноправным сотрудником радиостанции, о существовании которой узнала в тот день, когда взяла в руки новенький диктофон-радиоприемник и услышала призыв судьбы.
Так и получилось, что последние годы ХХ века я провела в прямом эфире радио, вещающего только ток-шоу с некоторыми вкраплениями музыки.
Это радио – «Р» начала и середины 90-х – было необыкновенное. Потом изменилось. Сейчас агонизирует под другим начальником. Но тогда!..
Во-первых, разговорное. Во-вторых, честное в избранной им форме и отчаянно храброе. Беседуют ведущие с гостями, а слушатели звонят и присоединяются. Теперь этим гордятся и пользуются многие, называя прием интерактивностью. Но первым в этой области был скромный «Р» с не очень мощным о ту пору передатчиком. Главный фокус: звонки не проходили никакого отсева, тексты от слушателей шли в эфир без цензуры, оттого и работать было невероятно интересно. Все происходит действительно здесь и сейчас! Реакция на каждое слово ведущего или гостя – молниеносная. Это чудо бесперебойной обратной связи неповторимо, поскольку решиться на выведение в эфир именно такого вопроса, который пришел, – на это не могли, да и ныне не могут, пойти другие, большие радиостанции и телеканалы. Если туда и дозвонишься, редактор обязательно спросит – цель и суть вопроса к ведущему или гостю. Это понятно: обезопасить ведущего от хулиганства, хамства, сумасшедших или пьяных заявлений.
На «Р» же рискнули выводить звонки в эфир без внутренней цензуры. У этой организации был изначальный девиз: «Интеллигентное радио для интеллигентных людей». Его придумали еще при самой первой руководительнице «Р» Елене Д й – и этот тезис довольно долго работал. Я не знакома с этой женщиной, но идею приветствовала всегда. Не в смысле любви к интеллигенции, а в смысле любви вообще. Ведь этот девиз в переводе означает будем вести себя прилично. И так оно и было несколько лет. А интеллигенцию я терпеть не могу, поскольку интеллигенция любит революции, а это неприлично. И очень приторно пахнет кровью.
Свободный разговор в прямом эфире! На родном языке! Со своими людьми! Всем поголовно есть что сказать. Почему – смотри выше, где про расстрел.
Счастье взаимное. Ведущие работают с упоением, слушатели с восторгом – тоже, можно сказать, работают, ну если не в поте лица, то в поте своих телефонных трубок.
Новые сотрудники поприсматривались ко мне и в целом приняли. Попутно выяснилось, что через микрофон у меня вполне прилично звучит голос, дикция на месте и так далее. В общем, ко двору пришлась, хотя и с некоторыми нюансами.
Началась новая эпоха в моей трудовой жизни. Вот только что казалось, что все погибло, а меня спасли. Господи! Спасибо, Господи…
Мне было тридцать три года.
Не думай.
Если думаешь – не говори.
Если думаешь и говоришь – не пиши.
Если думаешь, говоришь и пишешь – не подписывайся.
А если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешься – не удивляйся.
Сей пассаж был вывешен на стене в редакции одной симпатичной столичной газеты, которая часто публиковала меня в середине 90-х годов ХХ века.
«Автора!» – воскликнула я, увидев плакатик. Приходя в ту редакцию, я всегда сначала осматривала стены: вечно что-нибудь забавное вывесят. Например, гигантский ржавый циркуль.
В тот раз я, распивая с редакцией кофе, не могла оторваться от новенького экспоната.
«Да он здесь всю жизнь висит!» – сказал мне один из редакторов.
«А именно?» – не поверила я. «Ну с месяц, наверное…» – подумав, сказал он. «А кто автор?» – живо интересуюсь я. «Да кто, кто… Сами и написали… – ответил он неохотно. – А что – понравилось? Спиши слова…»
Зачем «спиши»? И так запомню. Еще с юности, когда начинала баловаться журналистикой и не имела никакой оргтехники, кроме блокнота, а интервьюировала сотни граждан, я привыкла запоминать чужие слова километрами.
«Не думай». Ишь! Я что, впервые вижу сочетание черного с белым? «Не удивляйся»? Всегда готова. Временами мой идиотизм беспределен.
Но каков стон, слог, чеканный шаг, сентенция!
В восторге от находки я даже озвучила текст по радио вечером того же дня. Я все еще работала на том самом радио «Р», которое любила всем сердцем и всей головой.
А в составе головы, как известно, находятся голосовые связки, которые за все годы работы у микрофона я ни разу не сорвала, поскольку предусмотрительно не врала. От брехни связки садятся быстро: физиологический закон. Кровь приливает и не отливает. Застой, фрустрация. Возможны поломки. Если у кого хриплый голос – обратите внимание на здоровье, поскольку вы скорее всего часто врали.
Так вот, радио. Плакатик на стене. «А подписываешься – не удивляйся».
У микрофона «подписываешься» по десять раз в час, напоминая уважаемым слушателям, что программу ведет имярек. Это на книжкиной обложке имя только раз написано – и то стыдно бывает. А в эфире талдычишь и талдычишь: волны, диапазон, частоты, время, имя, тема. Предполагается, что граждане слушают кто с самого начала, а кто лишь в конце включился.
Предполагается, что граждане вообще слегка не в себе, потому что как можно слушать радио, смотреть телевизор, читать газеты…
Предполагается много чего – ироничного, циничного, лиричного…
Но. Любовь к микрофону овладевает человеком глубоко, как бешенство бродячей собакой.
От микрофонной любви сходишь с ума раз и навсегда, и тот, кто, упаси Боже, лишает больного этой любимой иглы, становится не просто врагом. Образ того, кто становится сакраментальным, от образа веет чудовищными загадками. Лишившего даже не хочется убить. Наоборот: хочется знать – как именно он будет вообще жить дальше? И вообще – образ палача всегда очень занятен для жертвы, если последняя успеет…
Плакатик, эх, плакатик. Ты, достопамятный, может, уж и не висишь в той милой редакции, а с тебя многое началось и никак не закончится…
Анна, я тебе еще не надоела?
(Конец Приложения 3)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.