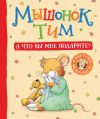Текст книги "Скажи это Богу"

Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
К окулисту или к оккультисту?
– Ну, жена дорогая, что скажешь? – профессор помешал суп серебряной ложкой. Он решил пообедать здесь, на кухне. В сложившейся с Тимой и Алиной ситуации ничего более конструктивного придумать не удалось. Возвращаться в кабинет? Он не готов.
Повариха, изумленная близким присутствием вечно недоступного босса, прижалась круглой спиной к кухонной стене и спрятала руки под фартук.
Жена принялась за суп, чтоб не отвечать мужу как можно дольше. Их чувства впервые разошлись так далеко. Муж в тяжелом шоке, а жена упоена, счастлива, удивлена – и все по одному пункту: Тима и ее здоровье.
– Василий, давай отдадим ее в какой-нибудь институт, она такая молодая, все еще наладится, – предположила жена.
– Рано, – уклончиво ответил Василий Моисеевич. – Надо тщательно обследовать мозг, сделать многочисленные анализы. Вдруг все это случайно и временно?..
Жена ясно слышала в голосе профессора фальшь, но никак не могла ее интерпретировать. Слова разумные, как всегда. Но голос – будто клоун схватил ангину, – такое странное сравнение пришло ей.
На второе профессор спросил у поварихи тройное мороженое, чем вверг ее в транс: мороженое в доме держали только для Тимы.
– Василий, – озаренно сказала жена, – я хочу сама позаниматься с девочкой. Я смогу почувствовать ее. Сначала я испугалась, а сейчас все прошло. Даже новое вдохновение появилось, представь себе. Я вижу, что ты чем-то озадачен, но я-то не озадачена так, как ты. Разреши мне попробовать. А ты не хочешь пригласить окулиста? Не объяснять ничего, просто вызов на дом. Или сами сходим к нему, а?
– Позже, – ответил профессор, доедая мороженое. – Сначала сами понаблюдаем. Окулист никуда не денется.
И подумал с горькой злобой, что впору приглашать оккультиста.
Он вернулся в кабинет и плюхнулся в рабочее кресло, обхватив голову мокрыми ладонями. Вдруг из соседней комнаты – там Тима! – донеслась речь. Абракадабра какая-то, слова не разобрать. Профессор на цыпочках подошел к двери.
– Молодые олимпионики купили свежие ботильоны и агедонично принялись за ринотиллессоманию… – ворковал очень чистый, приятный голос новородившейся Тимы.
«Что за диктант!» – и решив, что это продолжение хулиганств Алины, профессор без стука вошел в, так сказать, девичью.
Алины нигде не было. Помахивая ногами, на диване валялась Тима и чеканила невероятные фразы:
– По корту сухо хлюпают мячи, но ушастый полуеж не ест змей!
Руками она размахивала, как пьяный дирижер.
Профессор уже устал холодеть, каменеть и вообще что-либо чувствовать. Сегодняшнее утро прошлось по его нервам асфальтовым катком с шипами. Выход искать все равно придется.
– Василий Моисеевич! – позвала его Тима.
Профессор сел на диван рядом с девушкой, которая внезапно прекратила свою лингвистическую гимнастику, поправила блузку и скромно села рядом.
– Почему ты так назвала меня? – спросил профессор.
– На вашем столе в кабинете лежат ваши визитные карточки.
– Откуда ты знаешь, что такое визитные карточки и что именно эти – мои?
– Я много раз видела эти предметы раньше, когда вы давали их посетителям.
– Я никогда не давал посетителям карточек в твоем присутствии.
– Иногда я могла видеть вас самовольно. – На все вопросы Тима отвечала быстро и открыто.
Профессору понравилось начало беседы. Он вознадеялся, что сегодня удастся разобраться во всех этих превращениях вполне. Говорит – могла видеть, значит, помнит о своем былом даре?
– Тебе сейчас легко говорить, слышать, видеть? – отважился он.
– Как и вам, – неосторожно ответила простодушная Тима, которую доктор вырастил уж никак не для обычного человеческого чувствования.
– А ты можешь сказать мне, что сейчас делает повариха?
– Нет, – удивилась девушка. – Ее же нет в этой комнате!
– Тима!.. – простонал профессор. – Посмотри внимательно, прошу тебя!
– Василий Моисеевич, отсюда не видно повариху! – расстроилась Тима, почему-то мигом забывшая о визитных карточках.
– Ну хорошо, а ты слышишь… Ты что-нибудь слышишь?
– Вас. Машины на улице. Рыбка плещется в аквариуме. Под столом бегает паук…
– Откуда ты знаешь, что там именно машины и что рыбка – плещется? И особенно паук…
– Так, просто знаю. Откуда-то.
– А где твоя мама?
– Не знаю.
– А где твоя новая знакомая, с которой ты ловила рыбок в аквариуме?
– Алина? – невинно уточнила Тима.
– Да… – Профессор затаил дыхание.
– Ушла.
– Куда?
– Она не сказала.
– А ты не видишь ее сейчас?
– Ну нет же, конечно, нет! – воскликнула Тима.
– Хорошо, не беспокойся. Скажи, ты помнишь, как ты провела вчерашний день и сегодняшнее утро? – прямо спросил профессор.
– Вчера я весь день и ночь спала. А сегодня утром я проснулась. Сначала было очень больно, меня сдавило какой-то фиолетовой трубой, а потом вдруг отпустило, мне стало так легко, весело, только уши немного чесались, горло болело, в глазах что-то мелькало… А потом все неприятное ушло. Потом я принесла вам в кабинет кофе, потом играла с рыбками…
– Вот скажи про кофе: зачем? Почему ты решила, что меня и Алину надо угостить кофе? – У профессора шевельнулась надежда, что хотя бы одно из сверхобычных чувств Тимы уцелело.
– Извините… Кофе захотелось мне. А потом я подумала, что нехорошо пить кофе в одиночку, поэтому я и вам сварила.
– Что такое нехорошо? Откуда ты взяла слово в одиночку? И как ты могла что-то сварить? Ты ничего этого не знала еще вчера! – Профессор заговорил резко. – А ты помнишь, как ходила в магазин?
– Я не могу ответить сразу на столько вопросов. Они такие разные… – Тима задумчиво посмотрела в окно. – Так хочется погулять в парке!
– В каком? – поинтересовался профессор.
– В Коломенском, – простодушно ответила Тима, никогда в жизни не бывавшая там.
– Откуда ты знаешь, что есть Коломенское?
– Не знаю. А почему вы так волнуетесь? – встревожилась Тима.
– Я хочу знать – откуда ты взяла Коломенское? – Профессор вцепился в ее плечи и очень сильно встряхнул.
Тима вдруг встала, лицо изменилось до недоступности; она сняла побелевшие руки профессора со своих плеч и сказала властным тоном:
– Не могли бы вы показать мне мой паспорт?
– Нет! Не мог бы! – крикнул профессор, отшатнувшись к двери. – Я занят. Продолжим в другой раз! – и выбежал.
– Ну и слава Богу… – улыбнулась Тима, заперлась на два оборота, вернулась на диван и опять крепко уснула.
Подруги
Алина сидела в том же историческом кафе – где фартуки, деревяшки, медовуха, – и беседовала с подругой. Анна собиралась в кругосветное гастрольное турне. Ее творческая жизнь поднялась грандиозно: десять мировых театров уже продавали билеты на ее спектакли, печатались афиши. Увлеченная счастьем, Анна все же не забыла о подруге и своем обещании прочитать ее тексты. Почитала, позвонила и вызвала Алину в кафе.
– Я остановилась на фразе про настоящую катавасию, – начала Анна.
– Я, в общем, тоже, – усмехнулась Алина. – Был еще сон, но я не знаю…
– Ты будешь писать дальше?
– Не знаю. В домашней клинике у профессора начинаются какие-то захватывающие события. Я надеюсь оторвать его внимание от моей особы напрочь. Ты знаешь Тиму?
– Нет. Кто это? – бестрепетно спросила Анна.
– Может быть, давняя клиентка. Но, кажется, без профессии. Очень молодая. Может, секретарша. Но в таком случае – чересчур свободно ведет себя. Может, дочь. Но ты говорила, что у профессора только сын и он работает за границей. Но эта Тима!.. Во-первых, потрясающая красавица. Во-вторых, профессор заинтересован в ней необычно и очень глубоко. В-третьих, он вчера так увлекся трудными домашними делами с Тимой, что забыл спросить с меня новую порцию писанины. А по контракту он обязан читать каждый раз. Хоть мир перевернись – он обязан доставать из меня тексты, тексты… А если он первый нарушил контракт? И он нарушил. Все! Свобода!
– А ты вчера что-нибудь приносила ему? – уточнила Анна.
– Нет. Но он не почувствовал.
– Скорее всего, почувствовал, – усомнилась Анна.
– Точно знаю – не почувствовал и не сможет ничего доказать. Следовательно, я на пути к свободе.
– Сколько векторов у свободы! – улыбнулась Анна. – Сначала путь к свободе лежал через профессора, теперь…
– …теперь тоже через него, но в другую сторону! – развеселилась Алина.
– Он может очень сурово наказать тебя. Я же говорила: адвокаты и прочие…
– Под каждой порцией писанины я всегда ставила число. То же число всегда проставлялось в регистрационной книге у привратника. Я вхожу – он записывает. Во всех случаях раньше все совпадало – плюс автограф доктора на очередном счете! И конечно, то же число в чековой книжке. А на вчерашний день – одна-единственная запись: «Клиент Алина N. в назначенное время явилась на прием». И все. И мой счет вчера не пострадал от профессора ни на копейку. И штрафовать нельзя. Ведь это он сам вчера не читал моих трудов. Сам и виноват. Однократное нарушение контракта любой из сторон карается штрафом. Меня он однажды штрафовал за простое опоздание! Теперь я оштрафую его – по-своему. Вот так.
– Как же? – Анна начала бояться за подругу. – У тебя-то нет его адвокатов. Что ты можешь получить с него?
– Свободу. Те деньги, которые уже уплачены ему мной, пожалуйста, пусть у него и остаются. Но все остальное – дудки. И никаких пожизненных и посмертных процентов. Ни за что. И пусть катится со своей чертовой магией куда угодно. – Алина говорила все увереннее. – Я и тебя постараюсь избавить от него!
– Ой, подожди, не надо! – испугалась Анна. – У меня турне по всему миру. Если я опять что-нибудь себе сломаю, неустойки будут такие, что лучше сразу камень на шею – и в омут.
– А если не сломаешь? – смело предположила Алина. – А вдруг достаточно прорвать одно звено в цепи, то бишь мое? И посыплется вся его пирамидка?
– Если тут неуместно. Сама говоришь – одно звено, а потом сразу – пирамидка! Даже стереометрически слишком разные фигуры. А уж как там у профессора, в его колдовском мире, связаны части… Да и хватит ли у тебя сил на борьбу, дорогая подруга? Ведь я прочитала почти все, что ты мне написала. И как тебе по голове дали вместо свадьбы – в частности. Ты там такие нюни распустила, а дело-то было в неравной борьбе! Неужели ты сама до сих пор не поняла, что с тобой случилось? А ты опять хочешь влезть в борьбу, из которой на сей раз тебя действительно могут вынести…
– Понятно-понятно, деликатная ты моя. А знаешь, почему выносят именно ногами – вперед?
– Ну и почему, раз уж на то пошло?
– Ноги – символ сложный, но один из главных смыслов – душа. Дабы помочь душе побыстрее выбраться, ее проносят, пропускают вперед, чтобы не плелась вслед за телом и не тянула назад.
– Сама выдумала? – Некурящая Анна потянулась к сигарете. – И я, когда ломала ноги на сцене, на самом деле ломала душу? Так?
– Примерно так, – решительно заявила Алина.
– А почему? Ведь я хорошая балерина. Ведь я люблю сцену. Ведь в танце моя душа-то как раз и поет, и воспаряет, и расширяется. Это моя стихия. Так почему же именно в своей стихии я так больно страдала, что пришлось обращаться к нашему уважаемому Василию Моисеевичу? Постарайся растолковать мне это именно сейчас, а то завтра мне на самолет – и впереди очень много театров, и в каждом есть твердая деревянная сцена, и на каждой можно опять приложиться всей душой…
– Но не нужно, – посоветовала Алина.
– Да уж, не хочу. Так скажи мне, борец-самоучка, как пролететь над всем миром и не оступиться? – с вызовом спросила Анна.
– Может, и скажу. Но сначала ты: с чем ты обратилась в самый первый визит к профессору? С каким вопросом? С таким же, как сейчас ко мне?
– Нет. – Анна помолчала, вспоминая. – С другим. Кажется, так: почему я ломала ноги? И нельзя ли это отменить с гарантией?
– О, ты сама понимаешь различие. А что ответил он? Ну в самый первый раз? – продолжала Алина.
– Сейчас… Секунду… Он сказал, что это можно прекратить и он берется с гарантией, но я должна слушаться, перестать думать и – главное – пореже задавать вопросы.
– Сколь редко?
– Очень. Лучше вообще не задавать. Просто слушаться. Буквально до мелочей: в котором часу подъем, во что одеться, с кем встречаться, чем питаться, о чем мечтать, и все остальное, – ответила Анна с замешательством. – Действительно, он все про меня знал. Представляешь? Если я вместо синей рубашки надевала, скажем, красную или зеленую; или вставала утром не в шесть, а в шесть десять… Он с абсолютной точностью отслеживал все мои огрехи на любом расстоянии. Представляешь?! Со временем я убедилась, что он не ошибается в этом очень странном мониторинге – и во всем остальном поверила ему безоговорочно.
– А вот сейчас он не может этого, ясно? – сказала Алина. – Я проверила. Закрылась лавочка.
– А вдруг откроется? А вдруг он будет мне мстить?
– Тебе-то за что мстить? Скорее, мне. Я же оторвалась от него первая, – напомнила Алина.
– А если он запутается и не разберется, кто первый, кто десятый? Что будет со мной?
– Вот об этом я и позабочусь, пока ты будешь танцевать по миру, – пообещала Алина.
– Ты берешь на себя слишком большую ответственность. – Анна опустила голову. – Ты ведь только писатель…
– И ты помогла мне вспомнить об этом! Ты, дорогая, именно ты. Я в долгу.
– Алина. Ты не ответила мне, почему я падала в своей стихии, – полушепотом напомнила ей Анна.
– Ты слишком сильно любила свою стихию. Больше всего на свете.
– Господи, что ты говоришь! Я и сейчас точно так же люблю танец! – вскричала Анна.
– Танцы танцами, а стихия стихией. И стихийная земная любовь до полного разложения – это грех. Своим самоотречением ты и портила себя, свою душу. То есть ломала ноги. Поняла?
– Ты говоришь ужасные вещи. Я должна меньше любить? – Анна готова была заплакать. – А помнишь, как ты любила свое радио? А как ты любила своего Степана Фомича?
– Вот-вот. В результате с любимого радио уволили за настойчивое повторение в эфире слова Бог. Директор-коммунист вызвал и пожурил: «Что же это вы, образованная женщина, опытный литератор, а такое несете? Где вы его видели, этого Бога?..» Не там, где надо, говорила я это слово, непонятное директору… От любимого мужчины оторвали объединенными усилиями пяти баб, контузией и пятью швами над глазом. Я, знаешь, тоже была крупная специалистка любить что-то земное до полного опупения.
– Алина, а сейчас? А книга? Ведь ты ринулась в эту историю из-за своей – опять же неистовой, бешеной, безоглядной – любви к своим книгам. Ты же обожаешь писанину! Я потому и рискнула познакомить тебя с профессором, чтобы ты смогла вернуться к наилюбимейшему делу! Так что же ты говоришь? – Непьющая Анна хватила стопку водки и хлюпнула носом.
– То и говорю, – спокойно сказал Алина. – Любить надо прежде всего Бога.
– Вот и скажи это Богу, попробуй. Может, услышит, – буркнула Анна, однако успокоилась, прекратила пить водку и наконец заметила, что на столике перед ней давно скучает заливная треска. И петрушка сверху. – И вообще это как-то все прямолинейно, декларативно… Земная жизнь тоже очень хороша… Хочешь, я расскажу тебе про московскую жизнь моих личных предков?
– Расскажи, – охотно согласилась Алина. – В их судьбах что-то отменяет мои тезисы?
– Сейчас поймешь…
(См. Приложение 10)
Доктор заболевает
В клинике профессора Неведрова мрачно. Клиентам сообщили, что доктор временно не принимает. Клиенты были так потрясены, что не посмели спросить, в чем дело.
Жена профессора, вечно молчаливая, верная, старалась не появляться пред мужем без особого приглашения.
Кое-как держались только повариха и горничные, у которых были понятные ежедневные обязанности.
Хозяин заведения не выходил из своих апартаментов.
И только Тима безоблачно жила новой жизнью, тем более вольной, что никто не смел входить к ней, давать советы, спрашивать.
Встретившая мир с глазу на глаз в двадцатилетнем возрасте, она не имела представлений, обобщений, – словом, опыта, округляющего молодость до глупости, талант до подражания, жизнь до старости. Она могла часами ходить по своей комнате, разглядывая предметы, и все было интересно, и все – равно всему. Папуас, которому вдруг показали цветной телевизор…
Пустой белый подоконник был чудесно интересен – и равен аквариуму с разноцветными рыбками и пушистыми водорослями. Сияние солнца, отраженного медовым паркетом, равно блеску морской воды на фотографии в журнале про путешественников.
Равновеликие и равнозначные, видения цветного мира весело, как мячики, отскакивали от ее проснувшейся сетчатки, а мозг, будто кедди, с готовностью перетаскивал клюшки к следующей лунке. И чуть не на каждой новоиспеченный игрок Тима выполняла hole-in-one[3]3
В гольфе – попадание в определенную лунку с одного удара. Редкое везение. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Тима с детства знала буквы, но никогда ничего не читала для себя. На все, что видел ее мозг, направление указывал профессор. Как правило, сия деятельность была слежкой за клиентами. Хорошо или плохо то или иное действие, Тиме было невдомек. И вообще – не для того профессор потратил на развитие уникального ребенка столько лет и средств, чтобы выросшее дитя увлекалось чем-либо лично, от своей души, и уж тем более таким бездарным времяпровождением, как самостоятельное различение добра и зла. Прежняя Тима не знала таких слов.
С этим самым добром-злом доктор и сам давно уж не возился. Все относительно, сказал он себе в ранней молодости, и на этом его философские упражнения в принципе закончились. А дальнейшая возня с гениальными клиентами, неизбежно страдавшими от сопутствующих гениальности заболеваний, только подтверждала его правоту.
Теперь же, когда на седую голову волшебного профессора обрушилось огромное несчастье – прозрение Тимы, – то ощущение несправедливости, недоброй воли и прочих обычных человеческих заблуждений крепко захватило его сердце. Над ним прошелестело, прокаркало зло, непростительное и – неотносительное.
Профессор перестал спать, потерял аппетит и впал в депрессию. С каждым днем ему становилось все хуже: он неуклонно приближался именно к тому состоянию, из которого сам годами за большие деньги вытаскивал других людей. Он давно был очень богат, но сейчас на всей Земле купить помощь ему было не у кого. Его гордость жестоко страдала: он терял самую сладостную власть. Ни явно ни тайно руководить чужими талантами он уже не мог. Он чувствовал себя наказанным, а это было немыслимо и недопустимо.
В первые дни кошмара доктор боялся даже подумать – сохранился ли у Тимы талант к ясновидению. Слишком обжигало предположение, что не сохранился. Но не меньше страшило и другое подозрение – что сохранился, переродился, углубился, словом, вырвался из-под любого контроля, и пути назад нет. А спросить у нее – невозможно, стыдно и страшно.
Через неделю, когда страх стал нестерпимым, а бессонница слишком упорной, профессор решился.
– Тима, – весело сказал он однажды утром, входя в ее комнату, – не хочешь ли погулять со мной или с мамой в лесу? Знаешь, что такое лес?
– Знаю, – ответила Тима, потягиваясь. – Поехали.
– Откуда ты знаешь, что такое лес? – мирно спросил профессор.
– Вчера читала в журнале.
– А ты помнишь лес, окружавший наш дом в деревне, когда ты была маленькая?
– Какой дом? В какой деревне? – удивилась Тима.
– Ты жила с мамой в большом деревянном доме. Деревянные дома делают из деревьев, которые растут в лесу.
Девушка села в постели, прикрыла глаза руками и задумалась. Профессор замер.
– Нет, – ответила она через пару минут. – Когда я руками закрываю лицо, я очень хорошо вижу живую темноту. Она шевелится. Там нет леса… – Тима говорила правду. Профессор с горечью понял окончательно, что девушка стала обычной. Можно больше не спрашивать ее ни о чем.
Теперь она – простая зрячая девушка, к тому же забывшая большую часть своего уникального прошлого. Хуже того: к ней вернулся нормальный человеческий слух. Ожили ее уши. Изменился голос. Все изменилось, и чудо-ребенок исчез.
– Одевайся, умывайся, скоро поедем кататься, – вздохнул профессор и отправился в спальню к жене. – Мы едем с Тимой прогуляться по лесу, – сообщил он. – Составишь нам компанию?
– О, с удовольствием. Как она? В порядке? – обрадовалась жена.
– К сожалению, в полном порядке. И она не помнит своего прошлого.
– Василий, но это же чудесно! Она стала нормальным человеком! Теперь у нее появится будущее! – Жена все еще не понимала, в какую бездну летит душа ее мужа и судьба их семьи.
– Ее будущее меня абсолютно не увлекает. Лучшее, что в ней было, – ее прошлое. И я, и ты создали это прошлое огромным трудом. Все рухнуло.
– Я не понимаю, дорогой, разве не к этой цели обязан устремляться врач, то есть к здоровью больного? – взволновалась наивная женщина.
– Вера, – профессор очень редко обращался к жене по имени, – ты не все знаешь. Конечно, я сам не все тебе говорил, это было ни к чему, но поверь – у нас с тобой очень прибавляется хлопот с ее так называемым выздоровлением. Наверное, ты скоро сама это поймешь. Еще Гераклит говорил: «Глаза и уши – свидетели ненадежные».
– Но почему прибавляется хлопот? И что мне Гераклит!.. Почему ты так огорчен? Я столько лет переживала за нее, она мне ближе родного нашего сына! Я не понимаю тебя!
– Ну хорошо, начнем с простого. Ей двадцать лет. В первый класс начальной школы ее, как ты догадываешься, не возьмут. А если мы попытаемся дать ей хоть какое-нибудь образование, принятое в нашем обществе, пройдут долгие годы. Кто будет учить нормальную великовозрастную девицу всем необходимым первобытным наукам, не задавая нам и ей нормальных вопросов типа откуда такое чудо-юдо? Даже если мы возьмем домашних учителей – про школу речь не идет – и за особые деньги научим их молчать, и даже если Тима в учебе окажется вундеркиндом и все освоит экстерном, то где, кстати, гарантии, что под влиянием какого-нибудь сильного впечатления она не вернется к прежнему состоянию своих чувств? Как ты объяснишь обществу эту внезапную… маугли в центре Москвы, в обеспеченном доме, при моей репутации?
– Прости, Василий, но я не вижу проблемы. Ну даже если, не дай Бог, она вернется в прежнее состояние – что такого? Она уже будет владеть какими-то новыми навыками, они помогут ей в любом случае… – Жена не понимала мужа.
– А если при неожиданном переключении на прошлые способности она вдруг точно так же забудет эти новые навыки, как сейчас забыла все вообще: и детство в деревне, и свое ясновидение? И что тогда начнется? Мы попросим учителей прекратить курс наук? Отправим их всех на Луну, чтоб не болтали? А с нею-то, с Тимой, что будет? Науке неизвестно…
– Странный у нас с тобой разговор, Василий, – задумчиво сказала жена. – Ты столько раз решал такие трудные проблемы и так легко, что сейчас я просто не верю своим ушам. Все, что ты говоришь, звучит как-то очень робко – в части аргументов. Ну нет прошлого, ну появится, ну не появится, ну мы-то с ней! Мы уже не можем не участвовать в ее судьбе. Мы двадцать лет несли этот крест. Я люблю ее. Ты, я думаю, тоже. Обстоятельства изменились – значит, что-то надо делать в любом случае. Как же может быть иначе? Ты чего-то недоговариваешь.
– Возможно, договорю чуть позже. А сейчас поехали кататься. В лес. Жду в кабинете. – И он торопливо вышел.
Жена укладывала сумку для прогулки и все сильнее тревожилась. Вот уже который день все кувырком. Хотя должно быть наоборот. Она начала понимать, что плохо знает своего мужа. Это было неприятно. Еще хуже было ощущение какого-то необъяснимого обмана, пронесенного, оказывается, через всю их совместную жизнь. Она никогда не задавала мужу лишних вопросов, считая, что и так все приходит к ней без разговоров. Даже когда она жила с маленькой Тимой в волшебной деревне, а муж приезжал и за закрытыми дверями чем-то лечил ущербного ребенка, даже тогда жена ничего не спрашивала. Лечит и лечит, сам знает как. Вера выполняла его предписания, обучала Тиму по методикам мужа и сама с каждым новым успехом девочки вдохновлялась все сильнее: это было ее творчество!
Профессор всегда был окутан тайнами, но жене нравилось. Она любила его таинственность, это возбуждало, как приправа к мужественности, – но и успокаивало. Была тихая гармония в устоявшемся распределении их семейных ролей, а отсутствие материальных проблем всегда позволяло ей жить только чувствами – в этом она была абсолютная женщина. Она искренне обрадовалась, когда Тима обрела глазное зрение и настоящий слух, ушами. Таинственность прежней Тимы была для Веры почти горем, и – вот оно ушло. Ведь наступило счастье! А ее муж с того дня все несчастнее. Он не входит в спальню жены. Он весь, наглухо, закрылся. Никого не принимает. Клиенты притихли и не звонят, перепуганные до жути. Что делать?
В машине она села на заднее сиденье рядом с Тимой. Профессор не вызвал водителя – повел сам. До леса ехали около часа, и всю дорогу доктор молчал. Зато Тима вертелась, разглядывала улицы, задавала кучу неожиданных вопросов. Отвечала ей Вера, которой очень нравилось поведение Тимы.
– Как называется эта улица? – спрашивала Тима, а у профессора замирало сердце: раньше Тима на любом расстоянии свободно прочитала бы мозгом название любой улицы.
Теперь ее нормальное, но обычное, зрение не дотягивалось до отдаленных табличек – и Тима задавала нормальный вопрос. С каждым таким очередным нормальным актом ее любознательности профессор отчаивался все глубже. Его не интересовала эта юная красавица с ее простыми человеческими чувствами. Он слишком хорошо знал их, он слишком много людей вытащил из мутных бездн этих самых чувств. И ни за что на свете он не хотел присутствовать при еще одном спектакле, который неизбежно будет разыгран на его глазах, на его территории и – что уже совсем непрофессионально – за его деньги, если он позволит этим чувствам вырваться на волю.
Сегодня она увидит деревья, погладит кору, понюхает цветочки, послушает птичек, а завтра, чего доброго, начнет кропать стишки, а послезавтра увидит где-нибудь какого-нибудь молодого охламона и найдет его красивым. Интересным! И так далее, со всеми остановками. И вот только этого ему не хватало – лечить потом Тиму от какой-нибудь неразделенной любви! Или от творческих кризисов. Это было бы самой ядовитой насмешкой над всей его практикой. И теорией.
Машину остановил у речки. Вода блестела, как слюда. Облака, подергиваясь, отражались и великолепно уплывали. Невозмутимо и вдохновенно свистали птицы. Профессора передернуло.
Травка, листочки, звуки – вся эта мерзость под названием природа так впечатлила Тиму, что девушка запрыгала, захлопала в ладоши и даже запела. Профессор, посерев лицом, попросил жену попрыгать по природе вместе с Тимой, а сам пошел в какие-то заросли куда глаза глядят. Созревало решение. Он боялся признаться самому себе, что оно созрело в первый же день, как все это случилось. Но сейчас, в лесу, он сказал себе слово. Выговорил по буквам. Заставил себя повторить слово громко, несколько раз, словно репетируя. Потом вернулся к машине, сел за руль, посмотрел на забавляющихся жизнью женщин и объявил, что пора возвращаться.
– А еще приедем? – счастливая, румяная Тима послушно села в машину.
– Понравилось? – бесстрастно спросил он, заводя мотор.
– Василий, нам так хорошо! Я тысячу лет не была на природе! – лопотала жена.
– Тима, – тем же бесцветным тоном обратился он к девушке, не поворачивая головы. – Скажи, ты слышала слово монастырь?
– О Господи… – прошептала жена.
Тима помолчала, честно вслушиваясь в слово монастырь.
– Да, – вспомнила Тима. – В журнале для путешественников. Этот монастырь находится в какой-то Греции.
– Василий… – прошептала жена.
– Не только в Греции. Есть и в других местах. Мы с тобой живем в России, это очень большая страна. И чтобы попасть в монастырь, не обязательно ехать в далекую Грецию. Понимаешь?
– Да. Понимаю.
– Вот и прекрасно. На следующей неделе съездим с тобой в монастырь.
– А мама? Тоже поедет?
– На следующей неделе у мамы много разных забот. Наверно, мама не поедет, – ласково ответил профессор, и от его голоса мама вздрогнула. Она расслышала, с какой окончательной решимостью это было сказано. И еще она поняла, что у нее отнимают ребенка – без собеседований, уговоров и прочей сентиментальной чуши.
Стараясь не зарыдать, жена профессора с великим вниманием разглядывала чистую глянцевую дорогу, безлюдные поля и бездушное синее высокое небо, которое сейчас казалось ей черным.
Доктор уверенно вел автомобиль в город, Тима напевала душевный мотивчик.
– Что ты поешь? – вдруг поинтересовался профессор.
– Не знаю. Оно само поется, – с невинной улыбкой ответила Тима.
«Понятно, – скрипнул зубами доктор. – К нам постучалась музыка. И не за горами поэзия и правда, скульптура и мультура… Все ясно. Только в монастырь. И пой там до конца своих дней…»
Жена поняла его мысли. И полезла в сумочку за валидолом, благоразумно прихваченным ею на эту прогулку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.