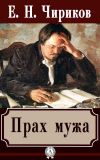Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц)
Глава XII
Володя Кузмицкий, горевший неутолимой жаждой подвига во благо родному народу, превратился в страшное для Никудышевки мертвое тело. Это «мертвое тело» из барского дома оставалось лежать на лужке в канаве, под рогожей до приезда властей, но его в очередь караулили отряжаемые для того мужики-никудышевцы. Днем к караульным подходили бабы с обедом, прибегали любопытные деревенские ребятишки, подходили поговорить старики. Ночью около «мертвого тела» трепыхал красным огоньком костер, около огня было не так страшно оставаться с покойником. Все, кто приближался к страшному месту, были печальны, сумрачны, озабочены, кроме деревенских ребятишек, которые были только пугливо-любопытны и старались об одном: приподнять рогожку и посмотреть на страшный раскрытый глаз. Караульные гнали их прочь, но они, отбежав, ждали, когда те проворонят, чтобы воспользоваться моментом.
Никудышевцы присмирели. Злоба и воинственность сменились раскаянием во грехе и страхом ответственности. Если мужицкое «мертвое тело» всегда считалось мирской бедой (затаскают по судам и виноватых и правых!), то барское «мертвое тело» казалось много опаснее обыкновенного.
– Их воля, господская, – шептали, вздыхая мужики, поглядывая на барский дом.
И дом этот, и холерный барак, и мертвое тело на лужке – в мужицких головах связалось в одно целое. Да и как же иначе? Господский дом и барак никак не отделишь друг от друга: и там и здесь – господа, в дружбе промежду собой, вот и спасаться в барский дом побегли! А днем два холерных барина (это были Егорушка с Кореневым) вместе с урядником из барского дома в барак ходили и там порядок наводили и протокол какой-то писали. А к вечеру то и дело колокольчики звенеть начали: всякое начальство в Никудышевку скачет и всё сперва прямо в барский дом. Только тройка проехала почтовая, опять пара колокольцами позванивает…
– Все начальство забеспокоилось… Будет теперь нам горюшка-то, – вздыхают мужики с бабами, шепчутся о виноватых: кто бил, да сколь раз ударил, да кто добил в глаз колом… Били все, кто на лужке были, те, что догнали, и те, которые после подбежали, а каждый вину в убийстве на другого сваливает:
– Кабы колом в глаз не пырнули, не помер бы… отдышался бы.
– Не надо друг на дружку показывать… Ничего не знам, и никакого другого разговору. Пусть сами допытываются. Тут правды не найдешь. Один Бог правильно рассудит…
– Вон опять колокольчики звонят! Становой это…
Много понаехало: врач Миляев из Промзина, Павел Николаевич из Алатыря вместе с судебным следователем и городским врачом, становой пристав, земский начальник из Замураевки. Только становой остановился на въезжей, а все остальные прямо на барский двор. На дворе – староста, сотские, понятые, урядник, взбаламученная дворня. За оградой – куча любопытных. Тетя Маша с мужем с ног сбились: всех надо накормить и всем ночлег приготовить. Даже о ямщиках и лошадях чужих позаботиться. И своя тяжелая забота на душе лежит: за своего Егорушку боится. Уж какая тут служба народу, когда он с камнем за пазухой и своих же благодетелей по глупости убивает? Сперва вся молодежь от службы решила отказаться, а приехали Павел Николаевич с Миляевым и стыдить стали, в трусости и малодушии упрекать. Теперь опять все расхрабрились. «Мы обязаны на посту остаться», – говорит Егорушка, а без револьвера из дому не выходит. Это уже не работа, а война какая-то. Да еще в дом холеру затащат: осмотры разные делают, допросы во флигеле идут, из барака и в барак то и дело людей посылают и сами ходят, а обедают и ужинают все вместе, в столовой главного дома. Халатов на всех не хватает. Хотя бы уж не засиживались: поужинали и расходись! А то часов до двенадцати чаи на террасе распивают да между собой чуть только не ругаются. Права бабушка: «И как только языки не отвалятся?» Как съехались, так в первый же день после ужина сцепились.
Спор вышел действительно не только горячий, но обостренный, скользивший часто по грани личных ссор. Тема самая избитая, на которой и литературные перья, и языки давно, казалось, поломались: народ, правительство и интеллигенция. Сперва говорили просто о холерных бунтах и о голоде. По всей Волге эти бунты с избиением врачей, фельдшеров и санитаров. Под Самарой, под Камышином, под Саратовом.
– Вот и до нас докатилось…
– А кто виноват? – насмешливо спросил земский начальник Замураев.
– Вы изволите меня спрашивать? – отозвался Миляев.
– Я вообще… всех и никого в частности, – произнес Замураев и, вздохнувши, потише уже прибавил: – Что посеешь, то и пожнешь!
– Поправки эта пословица требует: в этом году и семян не соберут! – отозвался из угла Машин муж.
Павел Николаевич насторожился: он сразу понял, в чей огород родственный земский начальник камешки бросает.
– А помнишь притчу: сеял сеятель доброе семя, а в нощи пришел дьявол и посеял в пшеницу плевелы? – насмешливо же спросил он родственника.
– Такой притчи, положим, нет, но что-то подобное имеется… Но в таком виде притча поучительна. Вот я про дьявола-то имею в виду…
– Не совсем грамотно: можно иметь в виду дьявола, но не про дьявола…
Миляев покосился через сползающие очки:
– А позвольте спросить, кого же вы разумеете под дьяволом?
– А уж это вы сами догадайтесь!
– Тогда скажите, правильно ли я догадываюсь? Мне кажется, что под дьяволом следует разуметь тех, кто вместо света тьму сеет или мешает свет сеять? Правильно ли я понимаю?
– Правильно. Только надо примечание сделать: не принимай волка в овечьей шкуре за овцу и не смешивай дьявола с сеятелем света! Вот интересно, как вы на наше убийство смотрите, на этот бунт? Кто его посеял? На чью голову падет кровь этого… убитого санитара… как его? Кузминского или…
Подвинулся судебный следователь:
– Вопрос, кажется, интересный и для нашего брата следователя…
– Виновников убийства найти не трудно, Виталий Васильевич, а вот где вдохновители? Не те ли господа, которые лет двадцать стараются всеми средствами народ бунтовать против нас, помещиков, его вооружать против властей и так далее? Вот я и сказал: что посеешь, то и пожнешь! Вот вы все, господа, нас, земских начальников, в газетах третируете и шельмуете, а…
– Одним словом, добрые сеятели – вы, земские начальники, а дьяволы – мы? Это ты хочешь сказать? – нетерпеливо перебил Павел Николаевич.
– О присутствующих вообще не принято говорить, и потому твой вопрос, Павел Николаевич, я признаю не… даже нетактичным. Я говорю вообще по поводу происшедшего убийства и бунта… Если у нас интеллигенция убивает царей, почему мужику не убить студента?
– Позвольте вам заметить: в нашей среде никто не убивал не только царей, но и земских начальников… и…
– Я говорю не о нас, а о народе и интеллигенции вообще, об их отношениях к государству и правительству.
Павел Николаевич расхохотался немного искусственно, делано:
– Государство! Построили огромный дом, населили его квартирантами, поставили управляющего с дворником и квартальным и стали жить-поживать да добра наживать! В основе государства должен быть не дворник и квартальный, а гражданин! Я спрошу вас, когда русский человек был гражданином? Были рабы разных видов и рангов, были жители, обыватели, все что угодно, но только не граждане. Вот в том-то и беда наша, что гражданское творчество веками является монополией правительства и полицейский участок искони является исключительным пунктом общения между нашим государством и жителем. У нас даже свободно думать небезопасно, ибо это уже создает образ мыслей, за который у нас высылают куда Макар телят не гоняет!
– Что ты этим хочешь доказать? Свою либеральность? Так она мне известна, как и всем окружающим, – огрызнулся земский начальник.
– Я хочу сказать, что наше так называемое государство без граждан – ибо какой же мужик гражданин? – антигосударственно, ибо государственность народа, нации, пребывает в теснейшей связи со степенью его гражданственности, то есть сознания своих прав и обязанностей по отношению к своей родине и государству. А народ столетиями держался в искусственной темноте. И вот результаты темноты и гражданского невежества: убивают тех, кто бескорыстно идет на службу народу и государству! И либерализм тут совершенно ни при чем. Все это государственная азбука, которой не знают и не хотят знать наши государственные мужи, не говоря уже о… земских начальниках, смешивающих свет и тьму, пшеницу с плевелами и сеятелями правды и законности с дьяволом!
– Все это очень красиво звучит, но только здесь, в комнатах, а…
Но Павел Николаевич не мог сразу остановиться:
– Сиди! Не суйся! Не рассуждай! – вот формула для гражданского поведения жителей. Ну вот сто двадцать миллионов мужиков и баб и сидят, молчат, не рассуждают, а когда терпенье лопнет, разрешают все дела топором да вилами! Понятно теперь, кто виноват?
Видя, что спор принимает неприятный характер ссоры, Машин муж ввернул словцо с целью, как полагал он, всеобщего успокоения политических страстей:
– Однажды лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись! Из кожи лезут вон и прочее… как оно там, в басне-то?
– Кто виноват, кто прав – судить не нам, а только воз и ныне там!
Миляев покосился в сторону Машиного мужа:
– Ну а как же вы распределяете роли? Кто лебедь, кто рак, кто щука?
Машин муж хихикнул и ответил:
– Лебедь это, конечно, наш милый Павел Николаевич. Он всегда в облаках!
Павел Николаевич приятно улыбнулся, а земский начальник сказал:
– Не возражаю…
– Щука… это, между нами сказать, революционеры…
– И вообще, все прочие, тянущие государство в омут социализма и анархизма! – добавил земский начальник.
– Ну а рак…
Павел Николаевич договорил:
– Это – земский начальник! И все те, кто их сотворил!
Все, кроме Замураева, засмеялись, а Замураев обиделся!
– Я прошу при мне не выражаться так о государе-императоре! – сказал он и сердито постучал мундштуком папиросы о тяжелый серебряный портсигар с золотыми вензелями.
Всех это покоробило. Наступила неприятная пауза.
Замураев походил крупными шагами по столовой, позвякивая шпорами и покашливая. Потом громко сказал:
– Не считаю возможным оставаться в обществе, где оскорбляется личность нашего Государя императора…
И решительно двинулся к передней, ни с кем не простившись.
Все многозначительно переглянулись. Судебный следователь покраснел и почувствовал себя неловко. Миляев пожал плечами, а Павел Николаевич как бы подумал вслух полушепотом:
– Дурак…
В дверях появилась фигура Замураева:
– К кому относилось ваше… ваше… слово «дурак»?
– К дураку, конечно, – ответил Павел Николаевич.
– А именно? – угрожающе вопросил Замураев.
– Ко мне это относилось! – крикнул из уголка Машин муж.
– Подтверждаете? – хмуро спросил Замураев, постукивая ручкой нагайки о голенище лакового сапога.
– Кто принял на себя, тот, значит, и дурак!
– Я принял! Я дурак!.. Один рак, другой – дурак…
Замураев прихлопнул за собой дверь, и было слышно, как он кричал ямщику:
– Спишь, чертова кукла? Подавай лошадей!
Потом звонко вскрикнули колокольцы валдайские и посыпались, как серебряные шарики, бубенчики…
Долго все молчали. Потом Миляев произнес:
– Однако!
Судебный следователь выглядел растерянно:
– Как это неприятно!.. С такими господами можно и неприятностей нажить…
– Волков бояться – в лес не ходить! – сказал Миляев, а Машин муж добавил:
– И с волками жить – по-волчьи выть!
– Я ведь больше молчал… Я, кажется, господа, ничего лишнего не сказал? – успокаивал себя судебный следователь.
– Да не беспокойтесь, Виталий Васильевич! – ласково похлопав по плечу следователя, сказал Машин муж. – Мы с вами держали правильную линию: свои собаки грызутся, чужая не приставай! Мы с вами больше молчали. Черт меня копнул про эту басню… Думал, всех помирю, а вышло совсем иначе.
– А ведь я боялся, что он вас на дуэль потребует, – сказал Миляев Павлу Николаевичу.
– У меня громоотвод хороший есть на этот случай: драться на дуэли согласен, но не прежде, чем этот рыцарь уплатит мне 500 рублей долгу на возможные похороны…
Все маленько посмеялись, поострили и стали расходиться на покой.
Глава XIII
Восемнадцать человек мужиков, парней и баб никудышевских были привлечены по обвинению в разгроме холерного барака и убийстве студента Владимира Кузмицкого. Все, за исключением несовершеннолетних, были арестованы и посажены в тюрьму до суда.
Уныние и печаль воцарились как в Никудышевке, так и в барском доме.
В числе посаженных в тюрьму оказалось немало мужиков, которых давно и хорошо знали в барском доме: знали, как хороших, добрых и честных, во всяком случае, лучших крестьян в Никудышевке. Сродственники посаженных до суда в тюремный замок, старики и старухи, приходили на барский двор, ловили тетю Машу, валились в ноги и со слезами упрашивали помиловать… Ловили барина-управителя Алякринского на поле и упрашивали похлопотать перед старшим барином, Павлом Миколаичем.
Выстораживали Сашеньку и плакали, стараясь разжалобить остающимися на руках сиротами. Приносили в кухню гостинцы: яиц, масла, сметаны – и приходили в полное отчаяние, когда Никита гнал их прочь, говоря: «Не приказано принимать!»
Конечно, они понимали это как господский гнев и угрозу в предстоящем судилище. Вот ведь и ребятишек бросили на своем дворе кормить после того, как они холерного барака не пожелали и прогнали дохторов холерных!.. Все урядник к ним теперь с какими-то бумагами ездит. Сказывают, что все господа против них свидетелями на суде желают выйти… Конечно, они все друг за дружку держатся. Пропали наши головушки!
Разве могли все эти темные люди поверить, что главным мучением в барском доме теперь и являлся вызов на суд в качестве свидетелей по делу: тети Маши с мужем, их сына, Егорушки, кроткой Сашеньки – и что Павел Николаевич думает выступить по делу в качестве свидетеля только с той целью, чтобы помогать защите обвиняемых?
Только двое в доме спали спокойно, не мучаясь угрызениями совести, тайно нашептывавшей всем прочим, что есть какая-то «правда», затерянная и позабытая, в силу которой и они все небезвинны в том, что восемнадцати мужикам и бабам грозит каторга и арестантские роты, разорение и сиротство за свою темноту… Старая барыня Анна Михайловна не находила ничего драматического в том, что за убийство ссылают виновных в каторгу, и по настоянию именно ее прекращено было доброхотное кормление на дворе голодных деревенских ребятишек: «Их кормят, а они убивают!»
А Елена Владимировна пребывала в интересном положении и витала в заоблачных сферах, как никогда ранее. Она была счастлива каким-то особенным, отчужденным от всего земного счастьем, которое поверяла в молитвах Богу да в музыке. Это было совсем необыкновенное женское чувство застенчивости, пугливости постороннего человеческого вмешательства, ревнивое чувство, о котором нельзя говорить обыкновенными словами и с обыкновенными людьми, в том числе даже с Малявочкой, главным виновником этого счастья. Вместо слов – экстазная молитва и экстазная музыка. И молитва у нее походила на музыку, а музыка – на молитву. Словами нельзя было рассказать о своем чувстве. Уже не было в Елене прежней животной утомляющей привязанности к мужу и к подросшим детям, а была тихая, молчаливая и радостная удовлетворенность бытием, какое-то новое постижение его тайн и неутолимая благодарность к Господу, к голубым небесам, к убегающим облакам, к старым березам и липам парка, к ночным звездам. Ко всему на свете, кроме живых людей и их дел на земле. Все это – пустяки, неважно, случайно, не волнует и не интересует, а важно лишь то, что у нее под сердцем вздрагивает будущий новый человек. Есть нечто огромное, важное, непонятное, вечное, и частица его осенила своим крылом ее душу. Иногда она прислушивалась сама к себе, и лицо ее озарялось необыкновенно прекрасной улыбкой. Она смотрела и ничего не видела, слушала и не слышала. Точно была в ином миру.
Но кто потерял и спокойствие, и деловую самоуверенность, так это Павел Николаевич. Ничего подобного с ним не было со времени истории с родными братьями, оказавшимися в числе обвиняемых в покушении на цареубийство. Обвинение вызовет его в качестве свидетеля на суд. Он, известный печальник и защитник народа, должен помогать в суровых расправах с мужиком, виноватым только в том, что он по вине же правительства невежествен, не научился уважать науку и ее работников, что, как ребенок, не понимая причин своих бед и несчастий, он, доведенный до отчаяния, бросается на своих же друзей! Роль неподобающая для честного общественного деятеля, да еще из «передового лагеря»… Но что его неприятно озабочивало, так это самый процесс, подчеркивающий в глазах темных мужиков его принадлежность к одному лагерю с другими помещиками, становыми, земскими начальниками, от близости и единомыслия с которыми он всегда старался отгородиться. Надо было спасать свою либеральную репутацию и не укрепить в темном мужицком сознании личной враждебности со стороны окружающего имение населения. Тут и без того не особенно благополучно: вспоминался убитый из-за лугов Егор Курносов и трое попавших из-за барских лугов в каторгу, вспоминался Лукашка, спаливший барские сенницы и оставшийся безнаказанным, вспоминались еще и угрозы некоторых мужиков после каких-то хозяйственных недоразумений. А тут дело снова пахнет каторгой. И все это, конечно, записывается в мужицких душах в кредит своему барину.
Долго Павел Николаевич обдумывал наилучший выход и нашел-таки его.
Он съездит в Самару и уговорит своего друга, присяжного поверенного Хардина, старого идеалиста-народника, принять на себя защиту главных обвиняемых (талантливый оратор и бескорыстный человек!), а сам он выступит свидетелем не от обвинения, а от защиты и, конечно, будет лучшим помощником на суде своему другу.
До суда было еще далеко. Хотя он и назывался по-прежнему «скорым» и «милостивым», но раньше как через год слушаться дело не будет. Да и на милость рассчитывать невозможно: такие дела теперь слушались без присяжных заседателей, а с сословными представителями – предводителем дворянства, городским головой и бессловесным волостным старшиной.
И вот все пошло своим порядком. Павел Николаевич в Никудышевке не жил, а семья его оставалась там. Не было только в доме прежнего шума, смеха и людности. В половине августа Сашенька повезла Петю с Наташей в Казань: Петя должен был поступить прямо в четвертый класс гимназии, Наташа – в третий, а по институтскому счислению в пятый класс Института благородных девиц. Таким соглашением окончилась давно уже борьба за воспитание детей между отцом и бабушкой в союзе с матерью. Бабушка же настояла, чтобы Петю не отдавали в симбирскую гимназию: оттуда цареубийцы выходят!
Скучно стало бабушке без внучат. Ведь теперь все ее надежды упирались только в новое поколение Кудышевых, ибо родные дети не оправдали ожиданий. Не своим детям, а внучатам решила она оставить по наследству все, что еще уцелеет ко дню ее смерти. До ее смерти пусть все будет как было, а потом – все внукам, Павел же останется только опекуном до совершеннолетия…
Потосковала-потосковала бабушка, сидя на верхнем балконе, как галка на березе, и сорвалась: решила ехать в Алатырь, в старый, родной с детства дом… А за бабушкой потянулась и Елена Владимировна: не хотела оставаться одна с тетей Машей и ее мужем. Не было у них взаимного тяготения друг к другу.
Барак холерный прикрыли. Егорушка поступил в Алатыре железнодорожным врачом на постройку, вся молодежь разлетелась. Тетя Маша с мужем жили в одном из флигелей. Затих и нахмурился барский дом. Точно вымер весь. Только вороны галдели в саду и радовались полной безопасности: гуляли по крыше, по бабушкиному балкону, по перилам садовой террасы. Не горят больше по ночам огни в окнах, не слышатся музыка и пение. Угрюмо молчит барский дом, словно все думает какую-то тяжелую крепкую думу…
Приехала ненадолго Сашенька. Свое дело сделала: ребята хорошо выдержали экзамены, Наташа сдана в общежитие института и сильно плакала, прощаясь. Петя отдан, по указанию отца, в семью старого друга Павла Николаевича, с которым они когда-то вместе делали революцию, в семью популярного теперь в Казани профессора анатомии Вехтерева. А сама Сашенька подала прошение на Казанские женские фельдшерские курсы и скоро тоже уедет в Казань.
Пожила с недельку Сашенька около отца с матерью, погуляла по саду и парку, побывала на могиле убитого Володи Кузмицкого, украсила простой деревянный крест венком из полевых цветов, поплакала и почувствовала себя здесь одинокой и ненужной. Точно вся радость здесь пропала. Тоскливо-тоскливо… Собрала чемодан, простилась застенчиво с родителями и уехала на паре с колокольчиками…
Долго стояли за воротами тетя Маша с мужем, а когда колокольчики оборвались, тетя Маша отерла платочком слезы и сказала мужу:
– Ну что ж, пойдем Ваня…
– М-да…
Павел Николаевич еще осенью успел побывать в Самаре и повидаться со своим другом, присяжным поверенным Хардиным. Очень удивился, встретясь у него с Владимиром Ильичом Ульяновым, совершенно забывши, что сам же помог ему когда-то устроиться у друга помощником. Тут же вспомнился Павлу Николаевичу и последний визит Ульянова в Никудышевку, когда гость с ловкостью фокусника вытянул с него пятисотрублевую бумажку и вместо благодарности иносказательно обругал и уехал. Скользнула в душе Павла Николаевича невольная неприязнь к этому «нахалу», но, конечно, Павел Николаевич скрыл ее приветливой улыбкой и напускной радостью встречи…
Вместе обедали и говорили о предстоящем деле, о разгроме никудышевского барака и убийстве Володи Кузмицкого. Павел Николаевич, выпивши несколько бокалов вина, почувствовал потребность к умным разговорам и остановился на любимой своей теме о пропасти между народом и интеллигенцией, так наглядно вскрывшейся в этой печальной истории с разгромами бараков и убийствами врачей и санитаров.
– Пропасть глубокая, боюсь, что бездонная… – грустно философствовал он, устремив неподвижный взор в бокал с вином. – Крепостное право… – пропасть правовая и экономическая… раз! Церковный раскол и сектантство… – пропасть религиозная… два! Язык народный и наш литературный – пропасть… пропасть творческая, художествен пая… три! Наука, литература, искусство – пропасть духовно-этическая… четыре! И что же еще осталось общим у нас с народом? И ничем не засыпешь этой пропасти и… свалимся мы в нее когда-нибудь…
– Туда нам и дорога! – неожиданно заметил с ехидной улыбочкой Ульянов.
Павел Николаевич вопросительно посмотрел на соседа.
– Это вы – серьезно или… шутите?
– Совершенно серьезно. И народ ваш, и интеллигенция слюнявая только задерживают нормальный ход истории и ее основу – классовую борьбу. Россия со всеми ее требухами может сослужить человечеству только одну-единственную службу…
– А именно?
– Хороший погреб пороховой для того, чтобы взорвать всю буржуазно гнилую Европу. И потому, чем больше накапливается у нас взрывчатого материала, тем выгоднее для исторического процесса.
Хардин укоризненно покачал головой:
– Какой же вы, Владимир Ильич, марксист! Маркс, насколько мне известно и не изменяет память, был против всяких неожиданных социальных взрывов, а вы… вы просто устарелый бунтарь!
– А не приходит вам в голову, что не я устарел, а Маркс со своей социальной научной эволюцией? Я признаю Маркса, когда он не скучный профессор, а революционер, и тут есть чему у него поучиться для подлинного революционера. В конце концов, всякая эволюция должна кончиться революционным взрывом. Революция, по моим взглядам, всегда хаотический взрыв, вызываемый накоплением экономического и политического неравенства. В социальном процессе, как и в природе: чем больше неравенства, тем сильнее стремление к равенству… И с этой точки зрения, я приветствую у нас всякий бунт, даже глупый бунт, а защищать ваших мужиков-дураков тоже не буду. Чем хуже, тем лучше! Пора бросить все слюнявые сентиментальности. Пока чем меньше социального равновесия, тем ближе к всемирной социальной революции…
Павел Николаевич, давно отставший от всяких идеологических трансформаций в среде революционной интеллигенции, с растерянным удивлением посматривал на Ульянова. Сперва полез было на дыбы, но на первых же порах оказалось, что он не в курсе современности, не читал того, не знаком с этим, и потому им овладела какая-то трусость вступить в словесное единоборство с этим новым типом интеллигента. Да и друг Хардин, переглянувшись с Павлом Николаевичем, мимикой и жестом руки посоветовал плюнуть на эту галиматью молодого озорника революции. Павел Николаевич начал игнорировать реплики Ульянова, и разговор завял. Ульянов сослался на какое-то деловое свидание и, попрощавшись, надел пальто, котелок, прихватил трость и удалился. Все в нем показалось Павлу Николаевичу противным, отталкивающим: и модное пальто, и котелок, и язвительная неискренняя улыбочка на скуластом лице.
– Ну и фрукт! – произнес он, когда Ульянов затворил дверь отдельного кабинета, в котором они обедали.
Хардин весело расхохотался:
– Зачем же ты, Павел Николаевич, навязал мне его в помощники?
– Да я никак не думал… не ожидал, что он… идиот…
– Ты ошибаешься. Он далеко не идиот. Он только любит прикидываться дурачком, а всегда себе на уме…
– Ну а как помощник полезен он тебе?
– Да он только раз выступал по пустяковому делу… Он совершенно равнодушен к своей профессии… Он тут только и делает, что молодежь марксизмом напичкивает… У нас тут две газеты: в одной всякие интеллигенты с бору по сосенке – и бывшие народовольцы, и постепеновцы, и всякие радикалы, а в другой – гнездо марксистов. Сам Ульянов там не появляется, но тайно руководит этой компанией. Почитай этот первый в России марксистский орган, – нахохочешься: даже под ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем марксистский фундамент подкладывают! На каждом шагу – прибавочная стоимость, классовая точка зрения и производственные отношения. С героями, братец, покончено, с моралью покончено, с богами покончено, с совестью покончено, с семьей, религией, правом… Камня на камне не оставляют! Удивительно только одно: газета самая правоверная, марксовский «Капитал» у них как Евангелие, а первосвященник-то, по-моему, просто идеологический жулик в марксистской маске. Мы частенько с ним за шахматами интимные беседы ведем, и тут, вдали от своей паствы, жрец этот маску-то и снимает. Зашел разговор о надеждах на революцию… вот этот марксист и говорит: без мужика-дурака у нас не обойдешься, надо его утилизировать! Я удивился: как же так, – спрашиваю, – ведь Маркс крестьянство считает мелкой буржуазией и потому не только пользы для социальной революции не усматривает, но даже вредным классом, тормозом считает, а вы, марксист, и вдруг такую ересь говорите! А он хихикнул, оглянулся на дверь да и ляпнул:
– Пастырю важно, чтобы овцы свято веровали в книгу живота, а самому нужна не столько эта книга, сколько кнут и палка, дабы пасомое стадо шло куда нужно и не разбредалось.
Ислам, говорит, был так долго непобедим только потому, что верил только в себя и в каждом немагометанине видел врага. Точно так же и социализм: он может завоевать мир лишь при том условии, если будет сохранять и поддерживать веру только в себя.
– Да вы что, спрашиваю, в пророки, что ли, собираетесь? Несть пророков в отечестве своем! Да и какие же пророки, когда вы сами всех героев упразднили?
А он мне с хитренькой улыбочкой:
– Да не будут тебе бози, инии разве мене!
– Этот маленький господинчик, скажу тебе, носит в себе огромнейшую гордыню. Это не марксист, а Герострат какой-то, вознамерившийся сжечь не один храм Дианы, а все храмы на земле вообще… А с виду такой гладенький, в котелке, с тросточкой, и мелкими шажками бегает…
Долго говорили друзья о новой интеллигентской ереси, о временах, подлее которых еще не было, о судьбе братьев Павла Николаевича и о многих погибших в борьбе друзьях юности. Говорили и о никудышевском деле: Хардин охотно согласился выступить защитником. Конечно, совершенно бескорыстно, даже обиделся, когда друг поднял вопрос этот.
– Надежд мало. Дело будет рассматриваться сословными представителями, но мы все-таки… повоюем!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.