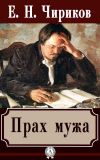Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 50 страниц)
Глава XII
Поделился отчий дом на четыре штата, каждый со своим уставом, своей верой, симпатиями и антипатиями, а насмешница – любовь со своим единым и вечным уставом во все монастыри лезет и все карты идеологические путает.
Марксист ленинского толка Костя Гаврилов безнадежно влюблен в невесту Пенхержевского, в буржуйку Наташу: тоскует, ревнует, злобится на весь мир и на самую любовь человеческую. А марксистка того же толка Ольга Ивановна безнадежно влюблена в Костю Гаврилова и ревниво презирает как Костю, влюбившегося в буржуйку, так и буржуйку Наташу. Людочка Тыркина влюблена в Петра Павловича, а тот не страдает, а только говорит ей разные глупости, а сам… (сама она видела!) целуется с дворовой девкой Лушкой… Марья Ивановна тоже влюблена, но и сама не может понять в кого: в обворожительного Пенхержевского или Вронча. И тоже – никаких надежд: один женится, а другой, кажется, с Ларисой шуры-муры разводит под носом у мужа: вчера ночью в парке на них наткнулась – сидят на скамеечке, прижавшись друг к другу. Тоска! Марья Ивановна грустно напевает: «Так жизнь молодая проходит бесследно!», позабывши, что ее молодость давно уже прошла и наступили серенькие «средние лета»…
Уже стих барский дом. Погасли огни во всех штатах, заменившись звездным сверканием на стеклах окон. Спит мертвым сном и Никудышевка. Только петухи да собаки нарушают безмолвие. Безмятежно плывет звездная летняя ночь с таинственными шорохами и вздохами земли и старого парка, с ласковым дыханием теплого ветерка, пропитанного ароматами трав и цветов.
Не спится в такие ночи влюбленным.
В затаенной тишине слышатся голоса. Это в саду, на террасе. Никак не могут наговориться и разойтись. Сбились в кучку все враги и общими силами пытаются разрешить неразрешимое: что такое любовь?
Костя Гаврилов смотрит на этот вопрос мрачно:
– Все – чепуха! Любовь есть только инстинкт к размножению!
Но вот какая странность: размножаться он никакого намерения не имеет, но от взгляда и голоса Наташи забывает начисто Карла Маркса и обжигается ревностью.
– Господи, какую ерунду вы, Костя, порете! – тайно краснея, шепчет Наташа, глубоко оскорбленная за собственное чувство, полное кристальной девичьей чистоты. – Если вы будете говорить такие глупости, я уйду!..
– К сожалению, эти глупости утверждает философ Шопенгауэр… Любовь есть ловушка природы, спаривающая особи для продолжения на земле жизни. Кто это понял, тот уже неуязвим. Его не надуешь!
– Вы поняли? – насмешливо спрашивает Людочка Тыркина.
– Понял!
– Значит, никогда не женитесь?
– Почему же? Я смотрю на союз мужчины с женщиной как на трудовое и идейное содружество. Для этого не требуется ни воздыхать, ни в телячий восторг приходить, ни стреляться…
– Скучная ваша любовь, – прошептала Наташа.
– А я согласна, – твердо заявила Ольга Ивановна. – Главное в этом союзе – не влюбленность друг в друга, а согласие в миросозерцании, в убеждениях… Глупо влюбиться и страдать из-за человека, с которым нет ничего общего…
– А вот объясните любовь Григория Николаевича к Ларисе!
– Вот вам и пример ловушки. Природе все равно. Для нее неважно равновесие в образовании, во взглядах и убеждениях. Ей надо лишь соединить особи. Она здоровенная и сильная, а Григорий Николаевич – слабый физически. Вот природа и уравнивает… Экономия сил.
– Брехня! – авторитетно заявляет молчавший доселе Пётр Павлович. – Умствуешь, братец.
– А по-вашему? По-вашему? – пристает к Петру Людочка Тыркина.
– По-моему? Любовь для человека – как солнце для земли!
– Правда, правда, Петя… – шепчет Наташа.
Но Костя язвительно хохочет:
– Да ты говоришь то же самое, что и я! Солнце для земли – оплодотворяющая сила. Земля не может рождать без участия солнца.
– Хотя ты, Костя, и сознательный, но все-таки дурак! – небрежно бросает вместе с окурком докуренной папиросы Петр. – Солнце есть свет и тепло, необходимые для жизни вообще. Размножаются люди обыкновенно без солнца, в темноте!
Наташа встала и ушла.
Распахнулось окно, и в нем появилась, как алебастровый бюст, фигура Павла Николаевича в ночной рубашке. Все примолкли.
– Что вы разболтались?
– Про любовь. Социалисты ерунду порют! – ответил Петр.
– Мы рассуждаем исключительно с научной точки зрения. Мы рассматриваем любовь под микроскопом познания сущности явлений и утверждаем, что любовь – инстинкт размножения, а все остальное – буржуазные сантименты…
Нельзя сказать, чтобы Павел Николаевич интересовался этой темой, но ему не спалось и захотелось почесать язык. Он высунулся еще больше в окно и присоединился к собеседникам:
– А кто скажет нам, что такое инстинкт размножения? Кто, как и зачем вложил его в человека и во все живущее и умирающее?
– Закон природы!
– Но закон, голубчик, подразумевает волевое принуждение, а потому ему предшествует сознание. Значит, природа сознательна?
– Ну, Павел Николаевич, это уж метафизика! Удивляюсь, как вы, позитивист и дарвинист…
– Да вы ложно понимаете позитивизм! Если точные науки считают для себя некоторые вопросы неразрешимыми, значит, они допускают и метафизику. Они лишь не хотят ею заниматься…
– Первобытный человек ловил женщину в лесу, бил ее по голове дубиной и… и так далее.
– Но ведь это у дикаря. А мы – люди культурные. Наша любовь требует идеализации, поэзии, одухотворенности чувства. Тут участвует и этика, и эстетика, и фантазия, и творчество. Когда современный горожанин ловит на улице продажную женщину, как ловил ее в лесу дикарь, мы это уже не называем любовью. Откуда у вас, марксистов, эта жажда оголить человеческую душу? И зачем вам это понадобилось?
– Пора открыть массам голую истину и снять с глаз все повязки…
Но тут хлопнула дверь на балконе, и раздался хрипловатый и раздраженный голос бабушки:
– Дадите вы уснуть или нет с вашей любовью?
Все испуганно затихли и стали, как мыши, разбегаться в разные стороны.
А бабушка разворчалась:
– Дрыхнут до двенадцати часов, а по ночам разговоры про любовь! Шли бы куда-нибудь подальше, а то под самыми окнами галдят… Я и так измучилась, а тут и отдохнуть не дают…
Бабушка действительно с утра до ночи была в хлопотах. До свадьбы два месяца осталось, а у них ничего не готово. Бабушка возилась со старинными сундуками, пересматривала и откладывала накопленное женщинами кудышевского рода добро: старинный шелк, белье тонкого полотна, с нежными кружевами, вышивками, ковры и коврики, старинное серебро, посуду. Теперь в отчем доме – как в развороченном музее. Две выписанных из Симбирска швеи неугомонно трещат на швейных машинах. Наташу мучают примерками. Бабушка составляет опись приданого. На дворе выветривают пуховые перины и подушки, выколачивают ковры, сушат вымытое белье. Вся дворня с ног сбилась…
Бабье царство. Лучше не путаться. Все мужчины в доме стушевались. Скучно им смотреть на этот прозаический хаос. Порядок в доме нарушился: стынут самовары – не соберешь публику за стол ни к чаю, ни к обеду.
Наташа, как на небе ангелом: душа у нее постоянно поет гимны Господу и далека от этой суматохи, а ей мешают. Поминутно:
– Барышня! Вас бабушка на примерку требуют.
– Господи, как это надоело!
– Семь раз примерь, барышня, а один раз отрежь!
Бабы и девки на барский двор напролом лезут: любопытно очень на барское приданое поглядеть, на ковры, на рубашки, простыни барские. Дивятся богатству одежи, зависть берет. А дворня подзадоривает:
– А ты бы поглядела, что в доме-то выложено! Шелков да бархатов, да серебряной посуды, да одежи разной, шубки да юбки, браслетки всякие…
– За богатого же отдают?
– Разя за бедного отдадут? Богатство-то к богатству завсегда тянется…
Мешают теперь мужчины в доме. Мешают и гости разные. До них ли теперь бабушке с Еленой Владимировной?
Узнала бабушка, что молодежь на Светлое озеро путешествие затевает, так даже обрадовалась:
– С Богом, с Богом! Проваливайте поскорей только! Не до вас…
– Я, бабушка, тоже поеду! – заявила Наташа.
– Да ты что, с ума сошла, что ли? Как же это невесте с мальчишками таскаться! А примерку делать?
Наташа в слезы:
– Манекен я, что ли!..
– Назвалась грибом, полезай в кузов…
Два манекена из Симбирска швеи привезли, а оба не подошли. Смешное вышло с манекенами этими. Увидали девки два манекена в телеге, прикрытых от пыли простыней, и до смерти напугались: за покойников приняли! Смеху было и в доме, и на кухне, и разговоров в Никудышевке!
– Вроде как две бабы, а только без голов и без ног!
– На што им эти бабы деревянные?
– А пес их знает! Куклы, что ли, будут делать…
– К свадьбе привезли…
Глава XIII
Тихо плывет теплая летняя ночь с таинственными шорохами и вздохами, с далеким звездным сверканием, дышит ароматами пьянящими, и дьявол греха сладостного летает на крыльях ветерка над Никудышевкой…
Полетал над бабушкиным штатом, и заскрипели предательские ступени под ногами крадущегося Петра. Не спится ему от мыслей блудных, и нет сил противиться дьяволу. Тихо вышел во двор: как вор, оглядываясь и прислушиваясь, подошел к каретнику, где спали девки-работницы, и покашлял.
Кашлянула там и Лушка: слышу, дескать, не разбуди других. Выкралась из каретника:
– Приходи, Луша, в парк. Я там подожду…
Поломалась: боюсь, страшно ночью-то там. На Алёнкином пруду вчерась голую девку видели, волосы расчесывает. А когда молодой барин начал сердиться и громко говорить, испугалась, что в каретнике девки проснутся и засмеют. Махнула рукой:
– Иди, молчи уж… Приду сейчас…
Полетал дьявол греха сладкого и над хутором божественным, заглянул в окошечко, в щелку зановесочек: там тайное происходит. Григорий и Пётр Трофимович с акушеркой спорят. Акушерка говорит, что «любовь к нам явилась облитой кровью, с креста, на котором Христос был распят», а потому можно и царей, и министров убивать. А тайный гость Вронч собирается какие-то книжечки прятать и с Ларисой шепчется.
– Всего лучше на острове, на Алёнкином пруду, спрятать: там беседка развалившаяся есть, так под камнями. Люди туда не ходят, боятся, да без лодки и увязнуть можно, а я переход знаю: не выше колен, и там у нас старые книги спрятаны.
Горячится акушерка:
– Если ты увидишь, Пётр Трофимович, что на твоих глазах разбойник человека убивает, а ты можешь предупредить это, потому что у тебя топор. Убьешь разбойника?
Хитровато улыбнулся Пётр Трофимович:
– А я тебя тоже спрошу: а ну как тот – тоже разбойник, да еще пострашнее?.. Добро али зло сделаешь своей защитой?
Ввязался Григорий, и пошла старая мельница работать.
– Теперь на всю ночку это… – шепнула Лариса и жалобно посмотрела в глаза гостю: уедет завтра.
– Может, еще три-то денька прогостите, а потом все на пароходе поедем. До Макарьевского монастыря попутчиками будем, а там мы на Светлое озеро, а вы – по своим делам…
– Уж не знаю, как…
– Поди, еще к нам когда заглянете?
Встретились глазами, и оба смутились. Опустила глаза Лариса:
– Приготовили? Так я пойду и схороню. Будьте спокойны. А кто приедет с вашей запиской, тому и выдам. Только ночка-то темная больно… Я с вами пойду. Надо мне место знать, на случай.
– Что ж, пойдем вместе… И лучше оно: одной-то страшно.
Захватил Вронч тючок, в клеенку запакованный, и они нырнули в темноту сеней…
А дьявол только и ждал этого: заставил в темноте друг дружку нечаянно в двери прижать. Подошли к забору, где тайный пролаз, и опять то же случилось. Очутились в парке старом: совсем темно, деревья шепчутся, кусты в человека превращаются…
– И откуда этот страх наш, бабий? Никого, кроме Бога, не боюсь, а в темноте душа дрожит, пугается…
Гость тронул кнопку фонарика, скользнул ярким светом по лицу Ларисы. На мгновение сверкнули лукавые глаза, брови, губы, и снова все исчезло, потому что Лариса отшатнулась и прошептала:
– Не надо свету-то! Чужой глаз приманим. Тут дорожка мне хорошо известна, а вот зарослями пойдем, там можно и в пруд попасть. Что-то лягушки начали верещать: дождь, видно, будет.
Примолкла. Свернули в сиреневые заросли. Все шло благополучно, и вдруг Лариса шарахнулась в сторону и прошептала:
– С нами крестная сила!
Вронч брызнул в темноту ярким светом фонарика и вырвал из темноты фигуру Петра. Вдали отчетливо слышался топот убегавших босых ног.
Вронч моментально потушил фонарик. Они остановились переждать в гущине сиреневой. Лариса взволновалась и смущенно объясняет:
– В садах ягода поспела… Девки дворовые лакомятся… Ежели нас увидали, нехорошее подумают. Положим, это для меня важности не составляет. Думай что хочешь! Про меня и так всяку всячину говорят. А вот вам, может, неприятно будет…
– А мне наплевать! Разве Григорию Николаевичу наплетут – вот это будет неприятно нам обоим…
– Ну, этого не бойтесь! Он это безо всякого внимания оставляет. Мы греха в этом не видим, да признаться давно уже в святости живем…
Лариса говорила просто, наивно, без всякой задней мысли. Между тем ее спутник от этой простоты и наивности сразу забеспокоился, ибо почувствовал их как намек и вызов. Фразы Ларисы «наплевать, что подумают», «этого не бойтесь!» и «мы давно с ним в святости живем» подействовали на елейного лицемера и идеологического бабника поощрительно…
– Верно. Греха тут никакого нет, а просто повеление природы. Это мы, горожане, наложили печать пошлости на такие радости жизни. А Бог сказал: будьте, как дети…
Спутник начал рассказывать про секту адамитов, которые жили, как в раю, ходили голыми и любились свободно и бескорыстно…
Но вот без фонарика нельзя уже было обойтись: вступили в самую гущу зарослей. Тропинка вилась под плакучими березами, меж густых кустарников жимолости, бузины и малинника, попадала в высокие камыши. Под ногами трясинник. Синевато-серебристый свет фонарика, вылавливая из темноты замысловатые комбинации растительности, создавал сказочное настроение. Камыши, затрагиваемые путниками, издавали шелковые шорохи, болотце под ногами позванивало: прыгали и лопались пузырики. Взорвался бекас и, вознесясь к небесам, заблеял там в темных облаках, как заблудившийся молочный барашек…
Вронч шел позади, и дерзкая и грешная мысль преследовала его, как надоедливая муха, которую никак не отгонишь. Поскользнулась Лариса, а он этим воспользовался и, поднимая ее с колен, подхватил под руки и привлек, не выпускает… Она и сердится, и смеется:
– Да отцепись же! Что с тобой?
Вырвалась и убежала в темноту. Вронч постоял, огляделся, отдышался, поискал фонариком – нет, не видать. Поднял выроненный тючок с «Искрой» и пошел назад, весь в эротическом тумане. Добрался по памяти до плакучих берез и дальше не знает куда. И вдруг женский затаенный смешок в сторонке, близко. И от этого женского смешка снова помутилось в голове блудливого идеолога. Метнулся на смешок в темень под плакучими березами и осветил ее фонариком: стоит Лариса, оправляет косы распавшиеся и лукаво улыбается…
– Чур меня! Хотела убежать от вас, да жалко: в болоте, пожалуй, завяз бы!
Тяжело дышит, мешает «вы» с «ты».
– Околдовала ты меня… колдунья…
– А ты перекрестись, и пройдет!
– Не проходит…
Подошел. Она не успела рук от головы опустить – опять облапил…
– Отпусти, медведь этакий! Не поборешь… Я сильная…
А сама смеется и в смехе теряет и силу, и волю…
Уже бес сладкого греха готовился торжествовать победу, как вдруг сиповатый мужицкий окрик:
– Что за люди?
Никита с палкой. Барыня приказала по ночам сад и парк обходить: ягоды воруют.
– Мы это, мы!
Очень сконфузился старик. По голосу признал Ларису Петровну. Подумал, что с мужем она, с Григорием Миколаичем, разыгралась, – такая темень, что не признать человека.
– Прости Христа ради… Думал: воры, по ягоды… Хм!..
Пошел в сторону, тихо посмеивался в бороду и шептал:
– Хм! Ровно глухари на току!
Затрещал в колотушку.
Вернулись Лариса с гостем. Гость что-то не в себе, а она улыбается. Акушерка еще тут.
– Долго вы… – говорит.
– Да темно. Хоть глаз выколи!.. Назад принесли…
– Да, да… Неудачно…
– Совсем было дошли, да на Никиту напоролись. За воров нас принял…
Лариса смеется.
– Давайте мне: я на подволоке спрячу, – предложила Марья Ивановна.
– Пожалуй!.. Дней на пять… Со стеклянной фабрики человечек придет один. Лучше без всякой записки. Пароль скажет: «От кума поклон!» А мне надо в Нижний торопиться… к Максиму Горькому.
– Обожаю Горького! – подумала вслух Марья Ивановна и начала декламировать:
Рожденный ползать летать не может!
– Это что же за господина Горьким-то называете? – поинтересовался Пётр Трофимович.
Вронч начал рассказывать про удивительного булочника, который превратился сразу в знаменитого писателя, причем то и дело называл его «нашим писателем». Это обидело Марью Ивановну. Хотя она в последний год сильно поколебалась в своей народовольческой вере, но когда до нее дошли вести, что народовольческая партия воскресла в новой организации «социалистов-революционеров», таких же террористов, былая гордость зашевелилась в ее душе, и теперь она не захотела уступить Горького марксистам:
– Почему он – ваш? Горький стоит за героев! Возьмите его рассказы: «Уж и сокол», «Старуху Изергиль», «Буревестника», «Человека», который звучит гордо! Ясно, что он – социалист-революционер…
Вронч не уступал:
– Горький не установился еще, но он вышел из низов, из пролетарской среды и если пока не совсем наш, то будет нашим. Сознание его проясняется. Это видно по рассказу «Челкаш», где явно все симпатии автора на стороне рабочего класса…
Чуть не поругались из-за Горького…
Надо сказать, что если в 80-х годах прошлого столетия любимцем интеллигенции был поэт Надсон, в 90-х годах – Антон Чехов, то теперь таким любимцем сделался Максим Горький. С шумом и быстротой ракеты взлетел этот молодой писатель на горизонте русской изящной литературы. Выпустил только две книжечки про выдуманных романтических босяков и привлек все интеллигентские души. Еще в полном расцвете блистал талант Короленко, Чехова, еще жил и творил великий писатель земли русской Лев Толстой, а уже шумели и кричали только о Горьком. И критики, и читатели. Горьковский босяк воцарился от студенческой мансарды до аристократической гостиной… Откуда взялась эта обаятельная и притягательная сила горьковских босяков, безыдейных хулителей и разрушителей всех ценностей культуры и цивилизации?
Это было знамением грядущего времени – для одних и ярким обличением настоящего – для других.
И читатели, и критика слишком злободневно восприняли яркую красочную босяцкую ненависть к существующему и вложили в нее свое собственное содержание: ненависть к долгой укрепившейся реакции, к существующему политическому бытию, узрели борьбу с «сумерками» жизни, мещанством и пошлятиной устоявшейся действительности. Жизнь казалась тогда загнившим болотом, в котором плодились Ионычи, Чебутыкины, дяди Вани и всякие хмурые люди, – и вдруг яркий, красочный обличитель и ругатель жизни, горьковский босяк! Опостылели русскому человеку тишина и спокойствие, ибо беспокойна душа его. И вот точно молния на горизонте после продолжительной изнурительной жары. Хотелось грозы и бури и мало думалось о положительной ценности нового прокурора, ругателя и обличителя, разрушителя всех благ и добродетелей, на которых крепилась жизнь государства и общества. Всякий вкладывал в босяцкие громы собственного бога, непременно враждебного ко всему существующему. Никто не хотел узреть, что ничего, кроме ненависти к устоям жизни и разрушительных тенденций всех культурных и государственных ценностей, в босяке не имеется. Яркий, красочный язык, сверкавший неожиданными жемчужинами народной речи, отсутствие обычного литературного нытья, непосредственность, взрывчатый, не партийный, а нутряной анархизм, буйство свободной души, которыми наделил автор своих героев, заворожили и критику, и читателей, а необычайная биография автора привлекла к нему симпатии всех кругов и классов, склоняла к нему всех чем-либо обиженных и недовольных… даже просто скучающих от тоски и безделья…
Уже в самом обличении, ругательстве и разрушении – была боевая революционность, и потому Максим Горький оказался желанным для всех революционных партий. Партийная революционная интеллигенция начала охотиться за Горьким. Горький стал напоминать Пенелопу, окруженную женихами-соперниками. Каждый жених имел своего бога и веру и стремился окрестить в нее талантливого писателя. Горькому только оставалось, подобно князю Владимиру Киевскому, выбрать веру по своему вкусу и разумению. Но тогда Горький еще плохо разбирался в вере, а по темпераменту своему больше «пел песни безумству храбрых…».
Вронч-Вруевич имел от Ленина поручение «завоевать» Горького: он из низов, из пролетарской среды, он – гордость рабочих и по роду-племени должен принадлежать идеологам рабочего класса, тем более что песенка народников спета, а марксизм победно шествует.
Марксистский жених нашептывает Пенелопе соблазнительные слова:
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя!
И вот тщеславный босяк уже написал нового босяка, который глаголет словами марксистского катехизиса.
– Существуют законы и силы… Как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме, а ум тоже подлежит законам и силам? (Разумей: сознание определяется бытием, а не бытие – сознанием!) Значит – не кобенься, а то сейчас же разрушит в прах сила! (Разумей: приходится принять марксистскую веру!)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.