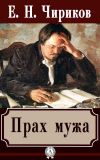Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 50 страниц)
Глава IV
Страшная история в барском парке, полная такой загадочной таинственности, привела в необычайное смятение умы и души темного деревенского люда…
Социальная легенда и социальная мистика, заменявшие у русского крестьянина правовое сознание, порождали невероятный хаос всяких слухов и догадок, направленных к раскрытию «господской тайны».
Одни говорили, что поймали и убили не грабителя, а человека, который привез подлинный царский манифест о земле и воле; господа заманили его к себе в гости, чтобы манифест этот отнять, а он не дал и из дому господского в сад побежал; они – за ним, а у него – револьвер: вот они и послали за начальниками – грабитель, дескать!
Другие поправляли: родного брательника Павла Николаевича, стало быть – сына родного нашей старой барыни, прикончили! Он, сказывают, не соглашался обман прикрывать насчет земли-то. Я, говорит, не желаю, чтобы нам неправильно крестьянской землей владеть, и стою на том, чтобы по полторы десятины на душу, которые незаконно у нас отобрали, когда воля нам вышла, возвратить нашему обчеству. Я, говорит, не хочу, чтобы и меня, как старшего брата, за этот обман в заточение определили. Вот они испугались и решили его прикончить… Грабителем и объявили! А потом задарили начальников, они в документе и написали, что сам, дескать, себя прикончил, а не убили…
– Верно! А когда дохтор стал взрезывать, так и обнаружилось, что не сам себя прикончил, а убили… Почему они все вдруг с места снялись и разъехались? Открылась правда-то, вот они и побежали во все стороны… Кто куда!
Отчий дом действительно опустел вдруг: тетя Маша с Наташей повезли бабушку в Симбирск и там задержались; Пётр Павлович с Людочкой сорвались и умчались на тройке в Алатырь, а Ивана Степановича вызвал на допрос жандармский ротмистр. Во всей усадьбе только в людской кухне люди остались: кухарка, две девки да кухонный мальчишка, он же и пастух, да глухой и дряхлый камердинер Фома Алексеич – в левом флигеле.
Главный дом на запорах, и ставни закрыты…
Это опустение барского дома тоже казалось таинственным и знаменательным. Может быть, господа и не вернутся больше? Все может быть…
А тут в последние дни опять коробейник ходит по избам и разное по секрету про господ рассказывает. Конец, дескать, им приходит. И документ за печатью читает…
– А зерна у них много накоплено! Сами не жрут и другим не дают…
Никому не известно, когда, кто и где сговаривались никудышевцы, но однажды вечером, словно по сигналу, вся Никудышевка, как при пожаре, загалдела и заскрипела колесами. Вереницами мужики, парни и бабы на телегах к барскому дому поехали, а впереди всех «коробейник» с Синевым…
Не меньше двадцати подвод разом! Потом добавочно скачут, то в одиночку, то кучками в две-три подводы. Это запоздалые торопятся… Лошадей нещадно хлещут, кричат осипшими голосами; есть пьяные – песни поют. Свист, гул, ругань…
– Отворяй ворота! Примай гостей!
– Не бойся! Пальцем не тронем! За хлебом! Ключи выдай, а не выдашь, все одно двери расшибем!..
– У нас нет ключей! Они у Ивана Степаныча…
Начали в злобном исступлении рубить топорами двери амбаров. Надежды не оправдались: в амбарах и зерна, и муки оказалось не так много, как ожидали. И пяти подвод хватило бы! Немолоченая прошлогодняя рожь на гумне в копне стояла. Начали копну разбирать. Разгоралась мужицкая хозяйственная жадность, хищничество. Ругались, попрекали друг друга. Если бы не боялись время зря тратить, и подрались бы. Да некогда! Пока будешь драться, другие все уволокут. Кипит работа! Едва ли мужики и бабы когда-нибудь работали с таким ожесточением, не щадя сил своих, как это было теперь!..
Появился стражник, попробовал постращать, но ему ответили таким диким ревом и такими жестами рук с топорами, что он вздохнул и пошел прочь.
– Задержать его надо, а то донесет!
– Ну-ка, ребята, попридержи его, сукина сына!
Погнались за стражником с вилами – тот сдался; отняли револьвер и шашку, приволокли на барский двор и заперли со свиньями.
Позднее всех приехал на телеге Миколка Шалый, которого мы с вами, читатель, знали еще мальчуганом. Это был тот самый мальчик Миколка, который имел в детстве непреоборимое тяготение к барской музыке, тайно забирался под окна и часами слушал, как играет барышня. Теперь он был бородатым и женатым мужиком солидного возраста, но страсть к музыке его не покидала. Он и женатым мужиком нередко забывал о всех делах своих, остановившись у барской ограды и слушая вырывавшуюся из раскрытых окон музыку. Маленько был он, по выражению баб, с придурью: любил говорить сказки, петь в церкви на клиросе, звонить в колокола на Пасхе, играть божественное на гармонии и подпевать, вознося голубые глаза к небесам. И, как хозяин, был ленив, ротозейничал и очень почесывался в неподобающих местах.
Вот и смеялись над ним мужики, а бабы хотя и ругали лентяем, а как заиграет на гармонии, так и тают: божественное заиграет, – плакать охота, веселую начнет – плясать хочется… Жена донимала Миколку за эту музыку. Сколько недосмотру и убытку было в доме от нее!
– Ротозей! Пьяный не пьяный, дурак не дурак, черт тебя разберет, кто ты такой!
И тут опоздал Миколка. Прокопался около лошади. Неохота была ему ехать-то, да боялся «мира» и жены. Раз мир порешил ехать, ничего не сделаешь….
– Что ты – как попов работник?
Подбежала, стала помогать мужу впрягать кобылу старую. Помогает и ругается.
Вот и опоздал Миколка Шалый. Приехал, когда все добро погружено на телеги было.
Мешок зерна все-таки насыпал, наскреб…
Покончили с амбарами и гумном. Все-таки не того ждали. Не иначе как где-нибудь спрятано.
– Поискать, робята, надо!
Начали поиски по всем службам. Много всякого добра сложено в каретниках и чуланах разных: и всякая сбруя, и инструмент, и гвозди, и тарантасы, и колеса. Всякая всячина. В каретнике же под брезентом обнаружили старое фортепиано, то самое, на котором когда-то пробовал играть маленький Миколка. Хором засмеялись мужики:
– Миколка! Вот она, штука-то, музыка-то барская! Тебе бы? А? Грузи на телегу!
Вот тут черт и попутал Миколку Шалого:
– Она им не нужна! У них новая машина куплена…
Хохот стоит. А Миколка разгорелся. Подошел, потыкал пальцами…
– Его и хлебом не корми, а только на музыке поиграть…
– Грузи ему, робята, на телегу!
– Коли мир отдает, почему не взять? – радостно произнес Миколка Шалый.
– Бери, робята! Разом!
Покачнулась и поднялась тяжелая ноша, а Миколка Шалый, стоя на своей телеге, гонит лошадь к каретнику.
– Вали, вали! Поперек лучше поставить! Повертывай!
Стало на место фортепиано и вздохнуло гармоничным аккордом.
– Вишь! Сама заиграла!
Подбивал кто-то в главный барский дом идти – отказались. Сомневались. Покуда обождать надо. Там видать будет. Дом всегда на месте останется. Торопиться некуда…
Заскрипели телеги, поползли с барского двора. Веселый гомон, смех, шутки. И все больше над Миколкой Шалым и его музыкой.
– Вот баба-то твоя обрадуется!
– Как она тебя ругать – сядешь и веселую ей: она и запляшет!
Едут не торопясь, точно возвращаются с ярмарки с гостинцами и покупками…
Деревенская улица кишит народом. Бабы визжат, хохочут. Ребятишки как собачонки мечутся. Скрипят и колеса, и ворота. Добро по своим дворам разбирают. А на многих дворах уже ссоры бабьи между соседками.
Недовольные передела требуют: у кого больше, а у кого меньше, а у которых и совсем ничего нет!
На всю деревню визжит баба Миколки Шалого:
– Люди хлеба привезли, а ты, дурак, музыку! Пес ли в ней, в твоей музыке?
Хотели в избу внести – повернуть нельзя. Ни так, ни этак! Гремит, а не влазит…
– Эх ты грех какой!
Поставили, покуда что, в хлев, к корове. Пологом накрыли, а то птица нагадит…
– Ну вот… коровы, что ли, в твою музыку играть будут?
До самой ночи пилила баба своего дурня. А на свету обняла все-таки… Смирный больно. Даже жалко стало. Другой бы избил, да и все тут, а этот только почесывается да вздыхает…
А на другой день утром тревога по деревне: вернулся управитель Иван Степанович. Стражника освободили, и он верхом куда-то поехал на барской лошади. Надо начальства ждать. Пойдут обыски да аресты, пороть, сказывают, будут, засудят…
– Что теперь делать-то будем? Мать Пресвятая Богородица. – Хлеб и зерно можно спрятать. На них никакой заметки нет: барские они или крестьянские. А вот куда деть музыку?
– А черт тебе велел приволочь ее домой? Куда с ней денешься?! Некуда спрятать.
– В овин ее, что ли?.. А то на сенницу… сеном завалить.
– Куда хошь девай, хоть сожги, а только чтобы не было ее, проклятой!
Стоит Миколка Шалый в коровнике и вздыхает, глядя на музыку. Разя можно сжечь такую машину? И подумать-то жалко.
– Ах ты Боже милостивый! Отвезти куда-нибудь да спрятать покуда…
Придумал.
Когда стемнело, впряг свою кобылу, погрузил на телегу, прикрыл соломой и выехал со двора.
Старики у изб на завалинках сумерничали. Все сговаривались как быть, если допросы и обыски приедет начальство делать. Завтра, сказывают, становой приедет… Напуганы все, а увидали Миколку с музыкой – смеяться начали.
– Поиграл, да и обратно? Теперь друга музыка пойдет… Выдерут так, что и играть на музыке заречешься…
Жизнь причудливо сплетала драму с комедией…
Шалый пугливо посматривал по сторонам и торопил свою костлявую кобылу. Синяя темень надвигалась по горизонтам, и уже потухла последняя полоска зари над контуром темневшего впереди леса. Перекликались во ржах перепела, и где-то жалобно плакал чибис… Тихо в полях и спокойно.
Перестал беспокоиться и Миколка Шалый.
– Бог не без милости! И лес недалеко…
Ну вот и лес! Теперь никакой опасности. По этой дороге начальство не ездит. Трудная дорога: вся корнями ползучими оплетена. Подпрыгивает на них телега и позванивает жалобно музыка. Идет мужик и поглядывает по сторонам: места подходящего ищет, где бы спрятать поудобнее. Может, потом, со временем, можно будет опять домой взять.
Совсем в лесу темно. Дорога около оврага тянется. Вот оно, самое подходящее место. Стянуть в овраг пониже, в орешник – сам черт не найдет!
– Тпру!
Постоял над оврагом, почесался и начал стягивать с телеги музыку.
– Тяга-то какая!
Отдохнул маленько и начал спихивать фортепиано в овраг. Хотел, чтобы ползком съехала эта тяга, а ножка обломилась и музыка пошла кувырком и начала так играть струнами, что весь лес испугался. На обрыв наскочил Миколка Шалый.
Докатилось фортепиано до самого дна и последний раз простонало гармоничным стоном струн. В ночной тишине этот стон долго и медленно замирал… И вдруг где-то запел соловушек!
Постоял Миколка Шалый с опущенной головой над оврагом, почмокал губами. Потом рассердился на свою кобылу и, заворачивая телегу, начал хлестать ее вожжами по морде…
Выправил на дорогу и поехал шажком, напевая грустную песенку…
А на другой день приехал становой, урядник, стражники. Потом земский начальник с генералом из Замураевки. Начался скорый суд и расправа… Никудышевцы стояли на коленях, плакали, каялись, выдавали друг друга…
– Как сам хочешь: либо под суд, либо двадцать пять плетей?
– Знамо, уж лучше порите!
– Скидывай портки!
Выдали и Миколку Шалого. Сперва отпирался, а потом покаялся и все рассказал чистосердечно.
– Простите Христа ради, господа начальники! Черт попутал…
– Барской музыки захотел? Любитель какой!
И тоже предложили на выбор: под суд или 35 плетей?
– Что же это, ваши благородия, почему другим по 25, а мне больше?
– За барскую музыку дороже! А то как хочешь…
Миколка Шалый почесывался, но за него крикнула жена:
– Чаво думать, дурак? Порите его!
– Да уж… Согласен!
Миколку Шалого пороли, а жена смотрела и ругала издали:
– Так тебе, дураку, и надо! Вот те и музыка!
Крикунов и зачинщиков выделили и арестовали, в число их попал и Синев. «Коробейник» исчез. Началось следствие по делу о разбойном нападении на усадьбу помещицы Анны Михайловны Кудышевой, о краже со взломом, сопротивлении власти, разоружении стражника и произведенном над ним насилии…
Вскоре на постой в Никудышевку и Замураевку прибыла полусотня казаков, и крестьяне стали тише воды и ниже травы…
Вернулась из Симбирска тетя Маша с опухшими от слез глазами. Наташа осталась в Симбирске около бабушки. Иван Степанович сразу постарел на десять лет. Алатырский жандармский ротмистр привлек его к делу об оскорблении его словами при исполнении служебных обязанностей.
Ротмистр мстил всему отчему дому. Вызвавши на допрос Ивана Степановича, он сделал попытку превратить старика из свидетелей в обвиняемые:
– По моим сведениям, вы знали, кто явился к вам под именем мещанина Ивана Коробейникова, и, содействуя укрывательству государственного преступника, провели его в парк… Так что вас следовало бы вызвать не в качестве свидетеля, а…
Это было так нелепо и так нахально, что Иван Степанович пришел в нервное состояние и начал кричать на ротмистра, называя его «молодым человеком». Тот тоже начал кричать, утверждая, что он не молодой человек, а жандармский ротмистр, призванный охранять священную особу Государя императора.
– От кого защищать? От меня, статского советника Алякринского? Да вы даже не молодой человек, а ребенок, не умеющий отличать правую руку от левой! Я удивляюсь, что такие важные государственные поручения даются… даются таким… таким… вот таким субъектам! Я могу привлечь вас к суду за недобросовестное обвинение… За клевету на мое доброе имя…
Ротмистр составил протокол и продержал свидетеля в Алатыре трое суток…
Иван Степанович вовсе не испугался протокола, но он был потрясен до такой степени, что у него и сейчас продолжали трястись руки и странно дергаться лицевой мускул.
– Я больше не могу, не способен вести дело. Я отказываюсь!
– Что же ты на меня-то кричишь? – спрашивала тетя Маша, готовая и сама расплакаться. – Я и сама, Ваня, так измучилась, что чуть ноги ношу…
Написали письмо в Архангельск Павлу Николаевичу. Написали обо всем, что случилось в отчем доме, и просили указать, кому передать управление имением. Пришла телеграмма:
Прошу временно передать все дела брату Григорию.
Григорий отказывался, но когда Алякринские заявили, что они уезжают, он согласился до осени присмотреть за хозяйством.
Так Лариса очутилась в хозяйках отчего дома. Сделалась полной барыней в заброшенном имении дворян Кудышевых…
«Труба Иерихонская» загремела весело и бодро и в доме, и в парке, и на широком барском дворе.
– Не баба, а просто губернатор! – говорили мужики и ни в чем ей не перечили.
Поругает-так всегда задело. Хотя и строга, а зря никого не обидит. С каждым делом не хуже мужика справляется. А Григорий при ней вроде как приказчик. Всем сама ворочает. От ее острого глаза ничто не скроется. Ну, и пошутит, да посмеяться за грех не ставит рабочему человеку.
Глава V
Вглядитесь в портреты русских царей: Александра I, Николая I, Александра II и Александра III!
Это подлинные лики русского самодержавия.
Сравните их с лучшим портретом Николая II, написанным художником Серовым!
Там мало «царственного». Оно подавлено «человеческим», слишком человеческим. И в лице, и в фигуре.
Художник не нашел в своей модели ни одной черточки для воплощения идеи самодержавного повелителя огромной империи, занявшей одну шестую часть земного шара, со сто пятидесятью миллионами народа…
Простота, доброта, скромность, застенчивость, неуверенность в самом себе как повелителе…
Летом 1903 года царь приезжал на открытие мощей Серафима Саровского.
Тысячи крестьянского люда, собравшиеся помолиться Божьему угоднику, рвались хоть раз в жизни увидать своего земного бога.
Те счастливцы, которые могли бы через все преграды на пути проезда царя увидать его, не увидели, а лучше сказать, видели, да не признали. В царской свите было столько величественных генералов, и каждый из них казался мужикам и бабам более похожим на царя, чем подлинный царь!
– Где он? Который?
Проехали!
Так оно было и в действительности.
Не только великие князья, но даже придворные генералы и сановники, генерал-губернаторы и многие губернаторы отражали идею самодержавия с большим успехом, чем сам император.
Временами казалось, что над великой страной носятся призраки Удельной Руси, с враждой и междоусобицами придворных партий, поочередно завоевывавших внимание и милости царя, по доброте и безволию поступавшего вопреки собственному желанию и постоянно менявшего свои решения.
А придворная камарилья торопилась ловить рыбу в мутной воде придворных интриг и влияний.
Царь был миролюбив и боялся войн, между тем «авантюристы патриотизма и самодержавия» неуклонно втягивали Россию в рискованные предприятия завоевательного характера, чему усердно помогали Англия и Германия… Обеим было выгодно вовлечь Россию в авантюры на Дальнем Востоке.
Витте, в бытность свою министром финансов, понимая всю опасность этих ненужных России приключений, особенно при внутренних осложнениях, грозивших революцией, старался удерживать от них царя и, как министр финансов, не давал кредитов на эти предприятия.
Авантюристы самодержавия устранили со своей дороги это препятствие: Витте был назначен на пост безвредного им председателя Комитета министров. То же случилось с военным министром Куропаткиным. Он тоже боялся войны и вот что писал царю, когда в конце 1903 года царь попал в плен к шайке воинственных авантюристов:
Всемилостивейший государь! Мы переживаем тяжелое время: враг внутренний пытается внести отраву даже в ряды русской армии. Недовольство и брожение охватывает значительные группы населения. Беспорядки разного вида учащаются. Случаи вызова войск для подавления этих беспорядков увеличиваются… Противоправительственные подпольные издания находят даже в казармах… Несомненно, что если бы на Россию было сделано нападение извне, то русский народ дал бы должный отпор врагам. Но если война начнется из-за неясных народу целей и потребует тяжелых жертв от него, то нельзя скрывать, что вожаки противоправительственных партий воспользуются этим, дабы усилить смуту. С этим фактом надо считаться, решая вопрос о войне.
Министр военный рекомендовал политику уступок и мирного разрешения обостренных отношений с Японией. Такой министр был, конечно, тоже вреден авантюристам дальневосточных похождений.
Царь колебался, не знал, кого послушаться… С одной стороны пугали, с другой – сулили легкую победу и славу…
Авантюрист Безобразов успел уже очаровать государя и сделался статс-секретарем Его Величества. Он убеждал царя, что Россия могуча и непобедима и что «макаки» – как презрительно называли тогда японцев – никогда не отважатся на войну с ней, а потому нечего с этими «макаками» церемониться.
Зная о близости Безобразова к государю, начальник Дальневосточной области «сухопутный адмирал» Алексеев, сделавший карьеру через великого князя Алексея Александровича, поддерживал идею Безобразова завоевать путем лесных концессий Корею и расширить пределы Российской империи…
А что касается внутренней опасности, то тут большую роль сыграл полицейский диктатор, министр внутренних дел фон Плеве.
Возможно, что легкая победа над «крамолой» около виттевского «Особого совещания» и победа на фронте с бунтующим мужиком внушали ему уверенность в собственной полицейской непобедимости.
Фон Плеве тоже презирал «макак», верил в непобедимость России и даже желал войны.
– Чтобы окончательно подавить революционную смуту, нам нужна маленькая победоносная война! – говорил он.
Так авантюристы самодержавия получили сперва широкий доступ к государственному карману, а потом толкнули слабовольного царя на войну, нужную только внешним врагам России и врагам самодержавия внутри страны…
А последних с усердием плодили и продолжали плодить неразумные защитники самодержавия, воюя без разбора со всеми классами и сословиями, начиная с прогрессивной и лояльной интеллигенции и кончая мужиком, не желая считаться с тем, что не народ существует для правительства, а правительство – для народа…
И вот жребий брошен: моряк, адмирал Алексеев, который боялся сесть верхом на лошадь, сделан главнокомандующим сухопутных войск на Дальнем Востоке, а военный министр Куропаткин убран с поста и назначен командующим. Никто не обижен, кроме России…
Война!
Какая радость для внешних врагов России! Какой простор для всяческих врагов внутренних!
Их так много и так они единодушны в своей ненависти к правительству! Послушайте, что незадолго до войны писал орган умеренных конституционалистов «Освобождение»:
Все слои общества должны понять, что русское самодержавие вступает в тот последний ликвидационный фазис своего развития, когда оно может только злобно и бесчеловечно отрицать все необходимые реформы виселицей, тюрьмой, кнутом и пролитием народной крови. Правительство нигилистично в подлинном смысле этого слова. Как бы кто ни относился к социалистическим идеям, приемам и тактике революционных партий, разновременно ведших и теперь ведущих борьбу с реакционным правительством, уже за одно то, что они боролись и продолжают бороться с насилием и произволом, их должен уважать всякий поборник свободы!
Здесь так ярко вскрылось воспитанное самим правительством ослепление интеллигенции, выразившееся в полном смешении понятий о правительстве и государстве (уравнение слова «антиправительственный» с «антигосударственным») при помощи любимого словца «свобода».
Представьте себе, как хихикал Ленин, перечитывая это место на страницах буржуазного органа!
– Пусть уважают, но мы будем их бить через голову самодержавия. И пусть они помогают и служат нам, эти попутчики, до первой станции!..
С какой-то загадочной обреченностью Россия неслась в пропасть революции…
Слепые были так уверены, что Япония не осмелится воевать с Россией, что, когда японский флот, не ожидая формального объявления войны, первым выступил и нанес чувствительный удар нашему порт-артурскому флоту, дремавшему в бухте во всем своем величии, – это удивило наше правительство, как гром с небес в зимнее время! Потом последовали неудача за неудачей: погиб броненосец «Петропавловск» с нашим лучшим адмиралом Макаровым, несчастный Тюренченский бой, такой же морской бой у Порт-Артура, в котором мы потеряли несколько лучших судов… Наш флот был обречен на полное бездействие…
И каждый удар, наносимый Японией русскому государственному флоту и государственной армии, одинаково радовал как внешних врагов, так и всех внутренних, от революционеров до последнего мало-мальски культурного жителя, почему-либо недовольного порядками внутреннего полицейского управления страной.
Воевало правительство, а не Россия, от которой правительство как бы изолировалось. Правительство с каждой новой неудачею впадало в панику, а управляемый им житель России, как Иванушка-дурачок, радовался:
– Так им и надо!
«Пораженчество» как эпидемия охватывало русские умы и души…
Привыкли думать: когда поколотят правительство, то нам же будет легче и лучше!
Мужик кое-где роптал, не понимая, за что его гонят воевать, никакого боевого пафоса и национального подъема не проявлял. Только стоны и слезы баб и ребятишек да угрюмый взгляд исподлобья…
Кому нужна эта война?
На этот вопрос торопились ответить революционеры, и притом весьма просто и убедительно даже для темной мужицкой головы, не говоря уже о рабочих… Помирай, а за что, неизвестно. «За родину, царя и отечество». Но никто их не трогал, а полезли сами.
– Своего не дадим, а чужого нам не надо!
Революционеры работали с неутомимой энергией.
Сперва во главе террора стояли: за границей Гоц и дома Гершуни с «бабушкой революции». Когда Гершуни был схвачен, его место занял рожденный богом мести двуликий Иуда, инженер Евно Азеф.
И пятнадцатого июля 1904 года диктатор внутренних дел министр Плеве, несмотря на усиленную охрану его особы, был убит на улице Петербурга брошенной в его карету бомбой…
Гром от этого взрыва всколыхнул всю Россию и напугал царя и правительство…
Великое торжество было во всех претерпевших и злобствующих душах…
В городе Архангельске очередной четверг с его «буржуазными пирогами» прошел исключительно торжественно, с речами, объятиями и поцелуями: в этот день как раз до Архангельска долетела весть о совершенной над ненавистным министром казни…
Ликовали все без различия партий, пола и возраста, а некоторые в особенности. К таким относились потерпевшие от Плеве высланные сюда прогрессивные земцы, и в их числе, конечно, сам устроитель «буржуазных пирогов» Павел Николаевич Кудышев с семейством.
У этих была надежда на скорое возвращение домой.
После возбужденных воинственных речей пели хором революционные песни.
И сам Павел Николаевич вздумал запевать «Дубинушку»:
Но то время придет – наш проснется народ,
И, встряхнув роковую кручину,
Он в родимых лесах на врагов подберет
Здоровее и толще ду-би-ну-у-у!
А хор, махая руками и стуча ногами, подхватывал воинственно:
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет, сама пойдет,
Да ухнем!
И надежды потерпевших оправдались.
После убийства Плеве царь растерялся. Надо было выбрать нового министра, а он положительно не знал кого взять. При дворе работало несколько партий, и каждая подсовывала своего кандидата. В конце концов, царь не взял ни одного из этих кандидатов и послушался мадам Милашевич, по первому мужу – Шереметьеву, а по рождению – графиню Строганову: назначил министром князя Святополк-Мирского.
Вот какую беседу вел царь с князем перед его назначением.
– Я, Ваше Величество, имею свои политические взгляды и всегда поступаю так, как приказывает мне совесть. Правительство и общество ныне представляют два воинствующих лагеря. Такое положение установилось уже давно, а несчастная война довела эту борьбу до крайности. Такое положение невозможно. Правительство должно примириться с обществом, а это возможно лишь путем удовлетворения назревших и справедливых желаний общественных кругов, а равно и удовлетворением справедливых желаний населяющих Россию иноплеменных народов!
Государь потрогал ус и тихо сказал:
– Я сам того же мнения…
И в результате Павел Николаевич с семейством вскоре устраивал последний четверг с буржуазными пирогами, после которого как бы победителем отъезжал из Архангельска в свой отчий дом.
Это было в конце августа, когда в Архангельске было получено известие о проигранном нами великом бое под Ляояном, поэтому проводы Павла Николаевича носили исключительный характер.
Впервые на Архангельском вокзале местный полицейский пристав услыхал публичный призыв в публичном месте:
– Долой самодержавие!
Пристав был настроен тоже оппозиционно: его только что понизили за взятки переводом из доходного участка в пригородную часть. «Сами воруют тысячами, а тут сучок видят в глазу брата своего!» Недовольный существующим порядком, пристав решил притвориться, что он ничего не слыхал. Вся колония ссыльных провожала Кудышевых. Павел Николаевич на радостях потребовал шампанского, которое еще сильнее подняло воинственное настроение.
– Кого это провожают? – недоуменно спрашивали друг друга окружающие.
– Надо быть, актеры какие! – догадывались простодушные жители…
– Зачем актеры! Политики это! – поправлял сведущий человек.
Можете ли себе представить волнение душ и умов, когда Павел Николаевич с семейством вернулся с победоносным видом в городок Алатырь и снова, как ни в чем не бывало, водворился в бабушкином доме? Можете ли себе представить происшедшее в связи с этим происшествием смущение местных властей и подъем оппозиционного настроения в среде местной интеллигенции, побывавшей на первом буржуазном пироге, устроенном Кудышевыми для старых верных друзей и поклонников, которые совсем было присмирели после крутой расправы с их «вождем»?
И можете ли, наконец, представить себе угнетенное состояние всех бывших чиновных и сословных врагов, когда новый министр князь Святополк-Мирский особым доверительным письмом на имя симбирского губернатора предложил не чинить впредь препятствий к восстановлению служебных прав Павла Николаевича на случай, если бы он пожелал вернуться к общественной работе на земской ниве?
Все почувствовали, что где-то там, на верхах, случилось нечто тайное, знаменующее крутой поворот в политической жизни государства.
Разве мог кто-нибудь подумать, что всему причиной была мадам Милашевич, по первому мужу – графиня Шереметева, а по рождению – графиня Строганова?
Местный исправник на всякий случай сделал визит и выразил Павлу Николаевичу свое удовольствие по случаю его возвращения. Его примеру последовал и жандармский ротмистр. Первого Павел Николаевич принял нельзя сказать чтобы дружественно, но, во всяком случае, достаточно миролюбиво. Ротмистр же должен был ограничиться визитной карточкой. Вышедшая на звонок прислуга сказала ему:
– Они больны и принять не могут!
Кудышевы уже знали из писем Наташи, какую роль сыграл этот человек в судьбе бабушки и брата Дмитрия…
Павел Николаевич знал также, что Наташа разошлась с мужем и что теперь тетя Маша заменила ее в Симбирске, а сама Наташа служит в одной из студий Московского Художественного театра. Хотя его сильно озабочивало положение хозяйственных дел в Никудышевке, но он прежде всего поехал в Симбирск, к матери. Отыскал тетю Машу, которая жила поблизости от психиатрической больницы и навещала бабушку в установленные дни.
Сперва посердился на Алякринских, бросивших на произвол Григория имение, но, узнавши, что Иван Степанович положительно неспособен к труду и живет пока на попечении своей дочери, Гавриловой, смягчился и начал расспрашивать про мать:
– Ну а как мама? В каком она положении?
Тетя Маша махнула рукой и стала отирать слезу.
– Плоха?
Павел Николаевич любовно похлопал тетю Машу по плечу и, вздохнувши, произнес:
– Слезами не поможешь.
Павел Николаевич никогда не был особенно чувствительным и жалостливым. Он был уже в том возрасте, когда люди отходят душой от своих родителей и легко примиряются с фактами, не устранимыми силой и волей человеческой. Лишь по формальному долгу сына он заставил себя повидать впавшую в идиотизм старуху. Она никого не узнавала, была неопрятна и вообще производила неприятное впечатление тем «звериным», что сменило в ней все человеческое.
Побыл минут десять, поговорил с врачом и обрадовался, очутившись на чистом воздухе, в суете обыденной городской улицы. А вот тетя Маша не могла примириться:
– Взять бы ее домой, в Никудышевку! Доктор говорит, что вполне это безопасно. А кто знает? Может быть, дома-то и поправилась бы…
– Я ничего не имею против, только… кто будет с ней возиться? Ей-то, собственно говоря, все равно. Тут обман наших чувств: вы не ее, а себя жалеете. Всего лучше, если бы она…
– Так уж все-таки лучше, если умрет дома, среди родных. У нее и могила для себя приготовлена…
– Не все ли равно, Марья Михайловна, где мы будем гнить после смерти? А вот где все документы, которые потребуются, если мама умрет?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.