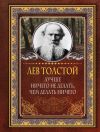Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 50 страниц)
Глава IX
Мать приходила в отчаяние: все от рук отбились, никто помочь не хочет – как хочешь, так и справляйся с этой старой тяжелой машиной, как называл Павел Николаевич свое родовое имение в Никудышевке. Родное гнездо, отчий дом, а им всем наплевать! Все тут родились, вспоились-вскормились, да и теперь как-никак, а все кормятся: тут могилы дедов и прадедов, могила родного отца – ничего не жаль! Раньше хотя бы старший, Павел Николаевич, на помещика походил: хорошо ли, худо ли, а во все сам вникал, а теперь связался со своим земством – только ему и света в окошке… А разве одной женщине справиться? Разве углядишь за всем, когда старость подошла: ревматизмы да мигрени одолевают? Хорошо, что вовремя ревизию произвел и жулика управляющего на чистую воду вывел, а то так бы совсем и обворовал! Целую скирду хлеба, мерзавец, обмолотил, продал и денежки в свой карман положил… Полукровного жеребца, мерзавец, подменил! Ну разве порядочного воспитания женщина может что-нибудь в лошадях смыслить? К черту, говорит, вашего Мазепу! Покуда без них обойдемся, на два месяца отпуск получу и все сам приведу в порядок… Обрадовалась она, да, кажется, напрасно. Ленив к хозяйству стал. Вот недавно кобыла сдохла. Три раза докладывали, и никакого внимания! Кучер Трофим оказался виноватым! А вернее этого мужика на дворе не было. Он и про подмену жеребца раскрыл…
А уж про Дмитрия и Гришу и говорить нечего. Попрекнула Дмитрию, что лучше бы, чем на охоту ходить, пошел да посмотрел, как люди картошку окапывают, а он:
– Неинтересно, мама.
– Как же неинтересно, когда ты помещик и от земли кормишься?
Это, говорит, одно недоразумение…
А Гриша усмехнулся и сказал:
– Мы не сеем, не жнем, не собираем в житницы своя…
– Вот ты, Гриша, столярному делу начал учиться. Неужели тебе это интереснее, чем свое родовое дело?
– А вот выучусь этому ремеслу и свой хлеб зарабатывать буду.
«Ничего не поймешь! Ум за разум у них заходит; столяром потомственному дворянину быть не стыдно, а помещиком стыдно… Вот и разбери ихнюю правду! Имение, говорят, надо продать мужикам по дешевой цене, потому что мы сами работать не умеем и либо нанимаем тех же мужиков, либо сдаем в аренду… Ну а как же иначе-то? Имение больше тысячи десятин, что же, разве можно без работников? Сами помогать не хотите, да еще и нанять нельзя! Стыдно, видите ли, им, что в аренду землю сдаю… Это, говорят, эксплуатация… грабеж народа… Уж про кого другого это можно сказать, а про нас, Кудышевых, – стыдно: покойный Николаевич мужикам сто десятин родовой земли подарил, в позапрошлом году за бесценок двадцать десятин лесу им Павел Николаевич продал; в аренду за гроши им земля отдается: по четыре целковых с десятины! Да кто за такую цену в наших местах отдает? По правде сказать: никто столько народу не благодетельствовал, сколько мы, Кудышевы…»
На глазах Анны Михайловны сверкали слезы: «Если бы покойный Коля не вздумал мужикам землю подарить, так, наверное, и теперь жив еще был. Не пришлось бы без этого подарка и оплеуху жандармскому полковнику дать! За народ же пострадал…»
Раньше все-таки концы с концами сводили, а в последние годы начали родовое гнездо разорять: каждый год то там, то тут кусочек оторвут да продадут по дешевке мужикам, чтобы какую-нибудь новую дыру заткнуть. Слава Богу, новый царь заботился о дворянах-помещиках, а не об одних мужиках: и Крестьянский, и Дворянский банк устроил. А то вся дворянская земля скоро из рук уплыла бы. Кабы пораньше этот Дворянский банк догадались устроить, так не пришлось бы им свой дом в Симбирске купцу Ананькину продать. Сколько купцов во дворяне пролезло! С суконным рылом да в калашный ряд. И дворян стали не в свое дело впутывать. Немало их с купцами и в суконное, и в стеклянное дело потянулось. За прибылями начали гоняться. И даже не в диковинку стало теперь родовому дворянину на купчихе жениться! Да вот, недалеко ходить: уж на что спесив сват-то, генерал Замураев, а с сиволапым Ананькиным за ручку здоровается и молодого Ананькина к своему дому приручает… Как видно, тоже не прочь свои дела поправить, породнившись с купцами через дочку свою Зиночку… Такую-то красавицу, институтку, козочку ангорскую, за Ваньку Ананькина отдать! В каком-то техническом училище в городе Кунгуре курс, видите ли, кончил и себя в инженеры произвел… Мадам Ананькина! Это ужасно!!!
О, как ненавидела купцов Ананькиных Анна Михайловна Кудышева! Всякий раз, когда ей приходится, бывая в Симбирске, проезжать мимо своего бывшего дома, принадлежащего теперь купцу Ананькину, ее грызет тоска и злоба. За что бы, казалось, ей так ненавидеть Якова Иваныча Ананькина, этого народного самородка, бывшего ярославского мужичка, а теперь одного из известных в Поволжье богатеев? Неужели только из-за того, что когда-то, не так, впрочем, давно, ей пришлось сперва заложить, а потом продать свой симбирский дворянский «ампир» Якову Иванычу?
Историческая достоверность в биографии этого волжского богатыря начинается уже с его зрелого возраста. Доисторическая – темна и построена на устном предании. Говорят, что Яков Иваныч Ананькин начал свою карьеру с постоялого двора на выезде из Ярославля на Рыбинский тракт. Там, говорят, он будто бы убил и обчистил двух проезжих, остановившихся ночевать у него на постоялом купцов и сразу разбогател. Однако по паспорту не видно, чтобы Яков Иваныч когда-нибудь судился за такое злодеяние. Потом перебрался в Симбирск и, владея большим капиталом, занялся хлебным делом. С этой поры молва имеет уже более или менее достоверный характер. Когда дело прибыльно, то его называют в Поволжье «хлебным делом». Значит, хлебное дело само по себе прибыльно. На таком деле нетрудно разбогатеть, если на плечах заместо головы тыква не посажена. Так нет, люди завистливы, любят порочить удачливых соперников. Вот они и пословицу придумали, будто от трудов праведных не наживешь палат каменных…
А Яков Иваныч нажил. Вот и начали говорить, будто бы тут труды-то, конечно, труды, а только неправедные. Начал свое дело с того, что скупкой мужицкого и дворянского хлеба занялся. Конечно, нет большого греха хлеб покупать. На то и торговля… Только Яков-то Иваныч разъезжал по селам в такое время, когда и мужикам и барам деньги дозарезу нужны, и скупал по дешевой цене. Свои лабазы у пароходных пристаней построил, крупным хлеботорговцем сделался. Многие помнят, как Якова Иваныча «хлебной крысой» называли. Ну а дальше все уже достоверное начинается. Свою паровую мельницу на Свияге-реке поставил. Пароход буксирный по случаю дешево купил, переделал заново и стал до Рыбинска пускать с караванами хлебными, а обратно товары до Астрахани тянул. А волжское дело – прибыльное, как и хлебное. Недаром Волгу «матушкой-кормилицей» зовут! У кого пароход завелся, так и другой будет. Только понюхивай, где что плохо лежит, где у кого что рвется. А нюх у Якова Иваныча прямо собачий был. За гроши чужое добро подбирать умел…
Где караван на мель станет, товар подмокнет – он тут как тут! Где пароходишко с торгов продается – без него не обойдется, он тут! А время смутное: одни богатеют, а другие беднеют. Знай только, где тонко и где рвется.
Хлебник, мукомол, пароходчик, домовладелец: барский дом с огромным садом у «княгини Кудышевой» с переводом долгов купил. Прямо, как губернаторский дворец. Для себя и своего дела приспособил. Тут эти «ампиры» да балконы ни к чему. И оранжереи эти – одно баловство. Все по-своему переделал. Однако столбы от ампира этого свалить пожалел, оставил; только в зеленую краску заодно с оградой чугунной окрасил и деревянные щиты поставил – вроде сеней сделал, а сад высоким забором обнес с гвоздями, чтобы яблоки не воровали. А у ворот собачью будку поставил и злого пса на цепь посадил, чтобы зря народ во двор не шастал. Пристройку к дому сделал: склады для товара, а на месте оранжереи хорошую баню поставил – попариться любил. Теперь все под руками: и склады, и контора пароходная, и приказчики живут на глазах. Всех этих голых баб гипсовых в саду повалил, потому – непристойность одна выходит: кто-то из приказчиков угольком нарисовал им то, чего не хватало.
– Вали их ко псам! В амбар! Похабщина нам не подходит…
Жуликоват был Яков Иванович, а башка хорошо работала, да и с работой не считался. Весь день в трудах. И своего дела по горло, а он еще и на чужое зарится. В гласные городской думы влез, потом в городскую управу членом выбрали. Не одним, видно, хлебом жив человек бывает. Не на жалованье польстился. Что ему гроши эти? А почет соблазнял. Медаль на шею имеет, а показать некому. Свое имя утвердить захотелось. Мост через Свиягу на свой счет заново отремонтировал. Иконостас в своем приходе позолотил и церковным старостой сделался. С самим губернатором стал за ручку здороваться. В первую гильдию переписался. Всем стал в городе известен. Даже господа дворяне перестали гнушаться. Когда денег взять больше негде – с поклоном к Якову Иванычу. Что ж, почему не выручить человека из беды, – не дать под закладную? Дело верное: земля всегда свою цену имеет, не прогадаешь. Вот из-за этой самой доброты своей и не хотел, да вдруг помещиком сделался… Родовое имение князей Ухтомских в руках у него завязло. Кабы с молотка продали, пожалуй, и по закладной ничего получить не пришлось бы. Купил, доплатил всего двадцать пять тысяч, все долги на себя принял и помещиком, соседом Кудышевых сделался! В первые годы только изредка наведывался – проверить управляющего из бывших своих приказчиков по хлебному делу… Барский дом заколоченным стоял. Приказчик во флигеле жил. Все соседи недовольны были: хамом называли нового помещика. Ну, и Павел Николаевич сперва гордо себя держал, хотя и к либеральному лагерю себя причислял. Кулаком называл он своего соседа. Однако однажды летом, когда Ананькин гостил в своем имении, проверяя своего приказчика, неожиданно приехал-таки с визитом к соседу.
До зарезу деньги понадобились. Сломил свою гордость и приехал. Знал, что Ананькин на его лесок, примыкавший к земле соседа, с вожделением поглядывал и стороною осведомлялся – не продаст ли? И всего-то лесу тут было десять десятин, да лес был старый березовый, и по веснам в нем больно грустно кукушки куковали. А Яков Иваныч до смерти любил кукушек слушать! Очень жалостливо поет кукушка. Всю жизнь вспомнишь, всех покойников, слушая, помянешь, свою молодость тоже и все грешное и святое, что в жизни случалось… Домик маленький в том лесу поставить бы и приезжать, когда кукушки поют!
– Чай, и в чужом лесу можно их послушать! – говорил приказчик.
– А я желаю, чтобы в моем лесу пели!
– Так ведь это как вам угодно… Можно поговорить – продаст, поди…
– Как-нибудь закинь словечко! Недорого запросит – куплю и келью поставлю…
– Вам бы, Яков Иваныч, чем вдовствовать-то да самому вроде как кукушке в чужие гнезда свои яички класть, – жениться бы следовало! Вся грусть у вас от самого этого.
– Ну, уж это не твое дело за моим поведением наблюдать… Для этого попы есть. Ты лучше лесок-то вот мне приторгуй. Понюхай-ка!
– Побываю-с. Понюхаю.
Приказчик побывал, понюхал еще зимой, а весной на ловца и зверь набежал.
Приехал сам Павел Николаевич Кудышев, и за чайком дело обделали: за пять тысяч березовый лес отдал. И оба друг другом довольны остались…
– Умный мужик! Приятно поговорить, – говорил Павел Николаевич дома, возвратившись с пятью тысячами.
– Ничего, господин порядочный! – отзывался о соседе Яков Иваныч, поглаживая бороду.
Яков Иванович – человек простой, дворянских правил не понимает. Считает так, что дважды из беды князей Кудышевых выручил: первый случай – дом у них купил, а второй – лесок приобрел. Видел, что люди из кожи лезут вон, а ему не все одно, что деньги в банке держать, что в недвижимой собственности? Значит, почему не выручить человека в беде? Был однажды по каким-то делам в имении у генерала Замураева, а тот в Никудышевку собирался.
– Ну, так и быть: поедем вместе! Я давно у Павла-то Николаевича хотел побывать, да как-то не приходило время-то… Поди, серчает на меня… Надо уважить…
Пришел в дом, точно тут его только и ждали. Всем грязноватую руку сует, со всеми на «ты» говорит. Прямо руками в сахарницу лезет. Увидал портреты кудышевских предков, спрашивает:
– Это ты что же каких идолов по стене-то развесил?
Про детей Анну Михайловну расспрашивал – кто по какой части пошел? Своим единственным сынком хвастался:
– По анжинерной части он у меня. Башку на плечах хорошо держит. Выучил! Как нынче без этого? По пароходной части его определяю. В нашем деле теперь свой образованный человек нужен. Не те уж времена, что раньше… Охотник и тот собаку в выучку отдает…
После этого неожиданного знакомства у Анны Михайловны мигрени возобновились. И все ей чудилось, что в гостиной кожей и крысами воняет.
Глава X
Хотя Анна Михайловна усиленно называла свою Никудышевку «Отрадным», но отрадного для нее лично тут было очень мало. Летом наезжало много народа, родственников и знакомых всех трех братьев, и весь дом с двумя флигелями кишел гостями; между тем как раз в это время и наваливалась всей своей докучливой тяжестью и спешностью деревенская страда. Наем рабочих и работниц, косьба, жнитво, уборка урожая, молотьба, потом перепашка и посев озимых и между ними тысяча забот и думушек, тысяча мелочей, волнений, огорчений, хозяйственной суеты… Страшно раздражало заботливую хозяйскую душу веселое и шумное безделье, болтовня и хохот, устройство увеселительных прогулок, пикников, спектаклей, музыка, плясы и пение, бесконечные чаи, обеды и ужины, а потом по ночам амуры, скрип по лестницам, шепоты и прятки, маленькие драмы и примирения влюбленных, политические споры…
– Нечего людям делать! Точно в номерах или на постоялом дворе!
Одни приезжают, другие уезжают, третьи засели крепко и так зазнались, что начинают распоряжаться дворней, лошадьми, приглашают своих гостей в чужой дом…
– Прямо зверинец с отделениями!
Как в крепости, не взятой еще неприятелем, отсиживалась на антресолях Анна Михайловна. Здесь же жила невестка Леночка с ребятами Петей и Наташей. Один флигель, почти развалившийся, отдан под постой молодежи мужского пола с Дмитрием и Гришей во главе; другой, новый, от которого еще пахнет сосной и пихтой, отдан под гостей женского пола без различия возраста. Для персонально почетных гостей, большею частью мимолетных, – отведена библиотечная комната с двумя широкими диванами. Так иногда и то не хватает места! Ну, тогда уж извините: пожалуйте ночевать в баню! Баня в саду, на пруду. Там лавки, полок, а то можно и прямо на полу на сене. В крайнем случае – сеновал. Только это уж тайно от Анны Михайловны: она запрещает – мятое сено не любит скотина.
Особенно урожайно на гостей было это лето 1886 года. Кто не жил или не побывал тогда в Никудышевке! Гостила тетя Маша, сестра Анны Михайловны, приехавшая из города Алатыря с детьми: сыном, студентом Казанского университета Егором Алякринским, и дочкой Сашенькой, гимназисткой последнего класса, веселой и легкомысленной; Зиночка Замураева и ее брат, корнет Замураев, притащившие с собой Ваню Ананькина, усиленно, как выражалась мужская молодежь, ухлестывавшего за Зиночкой; друг Дмитрия, студент Саша Ульянов и его брат, только что окончивший симбирскую гимназию, Владимир, которого дразнили – «рыжий, красный, человек опасный» и никто не любил за болезненное самолюбие и обидчивость. Появился в это лето здесь и бывший репетитор Гришеньки, Елевферий Митрофанович, давно бросивший псаломскую деятельность и теперь студент Казанской духовной семинарии. Всех этих Павел Николаевич называл «гостями оседлыми», в отличие от многочисленных мимолетных ночевальщиков, которых он называл «гостями пришлыми»…
От молодежи, как говорят, дым стоял коромыслом. Мужское отделение, в котором так много сбилось мировых реформаторов, походило порою на какой-то съезд представителей всего человечества, призванных разрешить свои судьбы. Все считали себя «народниками», но до своего народа, казалось, им не было никакого дела. У всех народ играл только роль алгебраическую, отвлеченную, и распоряжались этой отмеченной величиной без всяких церемоний…
Особенно отличался этим Дмитрий и его друг. Оба они умели танцевать от одной печки, от Великой французской революции в ее романтическом освещении, и целиком переносили события прошлого столетия во Франции на Россию, причем подменяли «третье сословие» – каким-то «трудящимся элементом», а пролетариат – крестьянством или «народом». Бунтарское настроение так и клокотало в их темпераментных душах. Они жаждали революции и ждали ее начала не снизу, а сверху, от героев, обязанных встать впереди и, как Стенька Разин, увлечь за собою народные массы. Героический террор у них – единственный путь борьбы, полезный еще и потому, что излечивает народ от богопочтения к царям и царизму… Особенно кровожадным проявлял себя Владимир, «рыжий, красный, человек опасный».
– Взорвать на воздух царский дворец и разом уничтожить все царское отродье!
– Как-с? И детей? – испуганно спросил Елевферий Крестовоздвиженский, давно уже попавший в русло революционных течений, но плохо еще разбиравшийся в них и сочинявший свои собственные проекты, как осчастливить русский народ.
– Всех, со всем двором, министрами и всякой сволочью… высокопоставленной! Надо изобрести такое вещество, чтобы достаточно было полфунта, чтобы на месте дворца осталась огромная яма…
Гриша изумленно посмотрел в сторону некрасивого сутуловатого юноши с рыжими вихрами и калмыцкими глазками, изложившего свой страшный проект совершенно бесстрастным спокойным голосом, и сразу возненавидел его, начал избегать его близости даже в играх в лапту, чушки, в шахматы… Гриша почувствовал к нему брезгливость, которую, неизвестно почему, проявляли к нему совершенно далекие от политики девушки Сашенька и Зиночка.
– Противный!
– Почему?
– Так…
Маленькая Наташа, случайно услыхавшая секреты взрослых девушек, громко и весело сказала:
– У него всегда мокрые руки! А вчера он убил из ружья котенка. Ей-богу! Право! Потом схватил его за хвост и бросил через забор! Ей-богу! Право!
Иногда, когда надоедали целый день с хозяйством, Павел Николаевич шел на огонь во флигеле, откуда доносился бурливый говор молодежи. Любопытно, что делается в этом, как выражался Павел Николаевич, буйном отделении сумасшедшего дома… Однажды вошел вот так, неожиданно, и все смолкли… В чем дело? Почему вдруг присмирели? Может быть, его присутствие стесняет?
Всех больше смутился сидевший с тетрадкой под лампой Елевферий.
– Может быть, мне уйти, господа?
Елевферий покашлял в руку, погладил себя по голове и сконфуженно признался:
– Нет, зачем же? Даже совсем напротив… Будем признательны выслушать ваше мнение… Я сделал доклад о новых путях в Царствие Божие. Для всеобщего примирения народа и интеллигенции…
– Любопытно! – отозвался Павел Николаевич, искусно скрывая внутреннюю улыбку морщинами на лбу.
– Так вот в чем дело… Как я тут развил свою тему…
И, заикаясь и сильно жестикулируя, Елевферий начал объяснять свой проект.
– Мы тут все рассуждаем, как Царствие Божие на земле установить, рай земной…
Павел Николаевич поморщился: пуганая ворона и куста боится. А тут зрелый человек, готовящийся принять священство, с мальчишками откровенничает. Хотя и давно знал Павел Николаевич этого чудака и философа из духовного звания, страшного любителя звонить на колокольне в Пасхальные дни, а все-таки напрасно мальчишки с ним так откровенны. Сколько уж раз такие с виду простачки водили за нос ротозеев и, сами вылезая из воды сухими, если не предавали, то подводили других, спасая свою шкуру!
Павел Николаевич сделал серьезно-хмурую физиономию, с упреком обвел взором молодежь и сказал:
– У меня столько хлопот со своим никудышевским раем, что я давно уже перестал интересоваться раем для всего человечества. Вот что, будущий отец Елевферий, я вам посоветую: удовольствуйтесь-ка лучше, как приличествует избранной вами профессии, раем небесным, а земной оставьте в покое!
Последовало общее смущение, которое нарушил Дмитрий:
– Мы раем небесным мало интересуемся.
Тогда воспрянул и Елевферий:
– Помилуйте! Разве я не понимаю, в каком обществе я нахожусь? Мы все знаем друг друга достаточно…
– Почему же, когда я вошел, вы, Елевферий Митрофанович, прервали чтение?
Елевферий покраснел и пожал плечами:
– Так неужели же вы думаете, что от недоверия к вам? Я с юности своей знал, что вы за человек… знал, что вы не только словом, но и делом доказали и продолжаете доказывать…
Тут Елевферий опять покраснел и тихо, с обидою проговорил:
– А вот я, как видно, вашего доверия не заслужил… Это для меня печально и обидно. Я не только не с недоверием… к вам, а совсем напротив. Вы единственный человек в окружности, в ком я надеялся обрести истинного ценителя и критика…
В лице, в голосе, во всей фигуре Елевферия было столько наивной искренности, что Павлу Николаевичу сделалось вдруг перед ним неловко, почти стыдно, как бывает это иногда с человеком, который, имея в кармане много денег, пройдет мимо протянутой руки по лености остановиться и полезть в карман за мелочью, а потом спохватится…
– Вы меня не совсем поняли, Елевферий Митрофанович. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знанием и опытом, советами относительно источников, своими книгами из библиотеки. Я только не считаю себя вправе давать советы и указания относительно революции. По-моему, если ты сам в ней не участвуешь, то и права никакого не имеешь толкать туда других…
– Мы тут никого не толкаем, а просто разговариваем, обсуждаем, – глухо прозвучал из полутемного угла голос Гриши, и Павел Николаевич вдруг вспомнил, как сам он обвинял общество, педагогов и церковь в том, что они замалчивают те вопросы жизни, которыми горит молодежь.
– Да я и пришел послушать, что у вас тут делается… и сейчас не отказываюсь побеседовать… Только в порядке простого разговора, а не революционных дел и предприятий…
– Вот именно! Именно! – подхватил Елевферий. – Я ни в каких партиях не участвую физически, но духовно я тоже ищу «Града Незримого, взыскуемого». Сам Господь говорил о сем Граде… И литература наша: и Белинский, и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой…
Павел Николаевич успокоился: в рамках «Незримого Града» можно и о революции говорить…
– Я, например, положительно отметаю террор… – добавил Елевферий.
Это еще больше успокоило Павла Николаевича.
– Ну, так в чем же дело, Елевферий Митрофанович?
Елевферий кашлянул, поерошил волосы и немного приподнятым тоном заговорил…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.