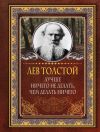Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 50 страниц)
Глава IV
Все было благополучно налажено: губернатор одобрил, враги согласились не препятствовать, благоприятный исход выборов обеспечен. Павел Николаевич уже чувствовал себя председателем алатырской земской управы и заметно отрывался от почвы отчего дома. Старый бабушкин дом в Алатыре ремонтировался, а тетя Маша с мужем и сыном жили теперь в Никудышевке, занимая флигель.
Хотя лето проходило в обычной суете и суматохе от наплыва гостей, но хозяевам было теперь много легче. В лице Алякринских пришла трудовая смена. Павел Николаевич от всех докучливых дел почил. Он только вводил в курс приглашенного в управляющие в помощь матери родственника, Машиного мужа, спокойного и пунктуального Ивана Степановича, и все докучливые повседневные мелочи лежали уже на его терпеливой спине, а Павел Николаевич готовился к вступлению на общественную службу и, чтобы явиться туда вооруженным, старательно изучал по отчетам, сборникам и документам дела и труды Алатырского земства. Настроение у него было хорошее, приподнятое: он как рыба, очутившаяся после пребывания на суше снова в воде, плавал в знакомом любимом деле и загорался разными планами облагодетельствования родного края и его населения. А Иван Степанович Алякринский, несколько лет сидевший без места и скучавший от полного безделья, почувствовал себя вновь призванным к жизни и точно воскрес из мертвых. Давно уже был только «Машин муж», а тут – начальник и распорядитель большого хозяйства. Оба довольны.
Довольны и хозяйки, молодая и старая. Тетя Маша взяла на себя, подобно опытному генералу, командование внутренним домашним хозяйством и его служащими, и тут сразу почувствовалась твердая рука и точная распорядительность.
Раньше было двоевластие, не было разграничения функций молодой и старой барынь, а теперь – одна власть, тетя Маша. Анна Михайловна, точно отрекшаяся от никудышевского престола царица, заточенная на антресоли. Показывается лишь в исключительных случаях и не всем. И Елена Владимировна окончательно избавилась от заботы и труда. Радовалась, как птичка Божия, очутившаяся на полной воле. Ей только и осталось дела, как встречать, очаровывать и провожать гостей, гладить по головкам детей да миловать своего Малявочку.
А гостей, по обыкновению, было много. Росли, как грибы после дождя, но сердили они теперь только тетю Машу. «Да они всех нас живыми съедят», – ворчала она, видя с какой быстротой убывает птичье семейство.
В числе гостей оседлых, кроме семьи Алякринских, в которой было прибавление в виде сынка, только что получившего звание лекаря, Егора Ивановича, или, как все называли еще его, Егорушки, были золотистая красавица, кончившая Институт благородных девиц, томная и мечтательная Зиночка Замураева; непризнанный пока, но как бы отмеченный уже в книге живота, жених ее, всегда жизнерадостный, веселый, румяный парень с открытой душой, Ваня Ананькин, щеголявший этим летом в форме речного пароходного капитана; сделавшаяся уже своей в доме кроткая русская девушка с печальными глазами, Сашенька Алякринская, учительница и воспитательница подросших уже заметно Пети с Наташей, и проводивший здесь свой служебный отпуск секретарь алатырской земской управы, знакомый уже нам Елевферий Митрофанович Крестовоздвиженский, помогавший Павлу Николаевичу входить в курс дел будущего председателя.
Гостей пришлых, мимоезжих, часа на три или только с ночевкой, этим летом было больше, чем когда-либо: служилую холостую интеллигенцию уезда привлекали красивые, как на подбор, заневестившиеся девицы, а людей нечувствительных в этом отношении – желание поддержать приятные отношения с будущим председателем и какие-нибудь личные соображения и дела, в которых будущий председатель может быть нужным и полезным. Впрочем, заезжали и друзья-единомышленники, земцы, без всякой задней мысли и корыстных расчетов…
Елена Владимировна с большим мастерством и разнообразием принимала гостей, всех одинаково очаровывая: кого гостеприимностью, кого кокетливостью. Сразу угадывала она, какой тон с каким гостем надо взять, хотя случалось, что и гостя-то впервые видит.
И все-таки бывали случаи, когда даже и Елена Владимировна терялась.
Однажды, когда Павел Николаевич с Алякринским уехали на бегунках в поле хлеба смотреть, а вся молодежь ушла в лес за земляникой, к воротам подъехала плетушка и привезла гостей, относительно которых усомнился не только Никита, но и дворовые собаки, поднявшие тревожный неугомонный лай, перешедший потом в нервное подвывание.
Из плетушки вылезли двое пропыленных сверху донизу путников и тут же у ворот начали приводить себя в порядок: чистили друг друга щеткой, той же щеткой смахивали пыль с ботинок; раскрывши древний, потерявший форму чемодан, стали надевать крахмальные воротнички, помогать друг другу нацеплять галстуки и т. п. Причем и лица у них были на глаз Никиты неблагородные, а пес их знает, какие, вроде как цыгане.
– Это вам кого же нужно? По каким делам? – спросил Никита, не торопясь отодвинуть засов решетчатой калитки. – Барин с управляющим со двора выехамши.
– А мамаша? – строго спросил старший, бородатый, на глазах Никиты сменивший фуражку блином на старомодный цилиндр.
– Какая мамаша?
– Не знаешь, кто мамаша? Ну, сама княгиня!
– То есть ее сиятельство, старая барыня, что ли? – маленько оробев, спросил Никита.
– Ну да! Что ты, неграмотный?! Я имею важные дела с княгиней, а этот дурак… – как бы жалуясь и удивляясь, произнес старший младшему, и Никита, почесав в затылке, пропустил гостей, провожая их все же весьма сомнительным взглядом.
Это были приехавшие из Алатыря Абрам Ильич Фишман, арендатор алатырской водяной мельницы, и его сын, частный ходатай по делам, Моисей Абрамович, пожелавший перейти в православие и получивший согласие Анны Михайловны быть его крестной матерью. Старичок лакей, Фома Алексеич, клевал носом, сидя под лестницей с газетой на коленях, и гости, вытягивая шеи, прошли мимо, высматривая вперед, откуда неслись звуки фортепиано. Елена Владимировна, растворившаяся в волнах приятных звуков, не слышала осторожных шагов позади и громко вскрикнула, случайно повернувши головку к двери. Испугалась неожиданного появления незнакомых и странных физиономий с застывшими искательными улыбками. Еще больше испугались сами гости.
– И чего же вы, прекрасная дама, испугались? Я же арендатор вашей мамаши, а это – Моисей, мой собственный сын…
Елена Владимировна знала, что такой арендатор существует, и моментально сообразила: вероятно, привез бабушке деньги. Она состроила приветливую улыбку на лице и провела гостей на нижний балкон-терассу в сад, где всегда не сходил со стола самовар со всеми приложениями к чаепитию.
– Мама сейчас отдыхает. Она скоро проснется уже и тогда… Может быть, можно и без нее? Хотите чаю? Пожалуйста! Наши все разбрелись… Вам непременно надо саму маму? У нас теперь всем заведует управляющий…
Абрам Ильич уже освоился и, предвкушая утоление мучившей его жажды поданным ему красивой женщиной стаканом чая, по обыкновению, начал острить:
– Если бы нам был нужен мужчина, то можно бы поговорить и с управляющим, но мы хотим иметь крестную мамашу, и она у нас уже готова…
– Какая мамаша? – широко раскрывая глаза, спросила Елена Владимировна.
– Ну, ваша мамаша! Она же будет и мамашей моего Моисея. Княгиня дала уже свое благородное слово, и мы приехали не скажу чтобы креститься, а по этому важному делу…
– Ах да!
Елена Владимировна вспомнила мимолетно слышанный в доме разговор о том, что бабушка крестит еврея, и сразу сориентировалась в положении.
– Мама у нас давно уже прихварывает. Едва ли она согласится поехать в Алатырь: ей тяжело трястись в такую даль. Вот если бы была железная дорога, тогда другое дело…
– Что вы говорите? Разве мы осмелились бы трясти мамашу! Никогда! Вы думаете, что мы не понимаем, что княгине совсем неприлично смотреть на раздетого Моисея! Этого совсем не нужно.
Тут заговорил Моисей Абрамович русским культурным языком, деловито и без всяких остроумных шуток. Он объяснил, что от Анны Михайловны требуется лишь письменное согласие на имя священника Варсонофия, чтобы ее записать крестной матерью. Вот они и приехали, чтобы, во-первых, сделать визит будущей крестной матери, а затем получить письмо к отцу Варсонофию.
– Тогда придется подождать, когда проснется мама…
Вот тут-то и оказалась Елена Владимировна не на высоте своего призвания. Надо было занимать гостей приятным разговором, а она не находила подходящих тем, ибо совсем не думала, что Моисей Абрамович может говорить о чем угодно: и о политике, и о литературе, и о революции, и хлебном деле…
– Вы находите, что наша вера лучше вашей?
Моисей Абрамович смутился, даже как будто бы покраснел, а Абрам Ильич пожал одним плечом и засмеялся:
– Ну вера как вера. Разве не все равно Богу, как люди молятся? Бог же всегда был один – и ваш, и наш!
Елена Владимировна наивно спросила:
– А тогда зачем же менять веру? Никто вас не заставляет…
– Что такое вера? Человек думает, что если он вместо фуражки надел цилиндр, так он уже стал не тот же человек. А Бог смотрит на людей и смеется. Вот если бы я не надел цилиндр, то ваш мужик не пустил бы нас к вам… и мы не могли бы получить крестную мамашу!
Елена Владимировна весело смеялась, не углубляясь в сущность философии Абрама Ильича.
– Богу все равно, а только обидно людям. Ну, так я сказал: надо так, чтобы ни нам, ни вам не было обидно! Пусть я, как был, так и останусь, евреем, а ты, Моисей, будешь русским. Пополам! Он же все равно от своей веры отстал…
Послали девку на антресоли. Анна Михайловна встала. Елена оставила гостей и, побывавши на антресолях, сообщила, что мама просит к себе будущего крестника. Гости всполошились. Отошли в сторонку, и Абрам Ильич наскоро шепотом наставлял сына. Потом отряхнул с его пиджака приставшую ниточку и сунул в руку пачку денег:
– Аренда! За полгода… Возьми расписку! Скажи почтение от отца!
Девка повела Моисея Абрамовича на антресоли, а Елена Владимировна продолжала беседовать с его отцом.
– Мой Моисей готовится на зрелость…
Опять Елену Владимировну разобрал хохот:
– А не поздно? Вашему сыну сколько лет?
– Э!.. Ему только тридцать, а у него уже пять живых и два мертвых!
– Детей!
– И только один мальчик! Надо, чтобы человек был чем-нибудь приличным. Он очень способный человек. Я дам отсекнуть руку и ногу, если он не выдержит зрелость и не будет помощником присяжного поверенного! Он уже по наукам знает как профессор! Вы слышали новость? Уже разрешили железную дорогу, и весной приедут инженеры в Алатырь… Умный человек очень будет нужен. А есть такие дураки, которые боятся железной дороги! Я помню, что мужики боялись брать у помещиков землю, когда царь приказал дать им волю… Так много на свете дураков!..
Появился с письмом в руке Моисей Абрамович, весь красный и растерянный.
– Ну что? Она благословила?
Моисей Абрамович кивнул.
– Дай сюда расписку! Кланялся мамаше от меня?
– Ну, конечно.
– Почему же ты такой красный?
Моисей Абрамович поморщился и не ответил.
– Надо, папаша, торопиться…
Абрам Ильич наговорил Елене Владимировне кучу смешных комплиментов и пожеланий. Моисей Абрамович приложился к ручке, и гости радостно и поспешно нырнули в дверь, оставивши Елену Владимировну в смешливом настроении.
Не улеглась еще пыль от уехавшей плетушки с переодевшимися у ворот гостями, не угомонились еще дворовые собаки, как подкатили бегунки с Павлом Николаевичем и Алякринским.
Елена Владимировна во всех подробностях рассказала про уехавших гостей и про свой разговор с ними.
– Мать согласилась?
– Согласилась.
– И охота ей, – раздраженно бросая шляпу на диван, произнес Павел Николаевич.
А Алякринский насупился:
– Да я не только родниться с этим Абрашкой-жуликом не посоветовал бы тете Ане, а на порог пускать его!
– Ничего не поделаешь! Слабость своего рода.
Появилась тетя Маша:
– Разве мало крещеных жуликов? Ну, одним больше будет. Эка беда!
Алякринский проехался было вообще насчет «жидов», но Павел Николаевич поморщился и попросил очень деликатным тоном:
– Иван Степанович! В нашей семье слово «жид» не употреблялось до сих пор, и мне не хочется, чтобы оно употреблялось. Мы-то ничего, а вот дети… Народ это восприимчивый. Попрошу вас воздерживаться.
Глава V
Большую драму пережил Павел Николаевич в юности, когда жизнь, эта жестокая насмешница над всеми нашими увлечениями, вырвавши юношу из объятий мечтательного революционного романтизма, пихнула в свою неприглядную действительность и стала грубо срывать красивые одежды со всех богочтимых народнических идолов, обнажая топорно обделанное дерево. Теперь-то, вспоминая об этом далеком времени, Павел Николаевич лишь грустно улыбался, а были позади дни, когда он, приходя в отчаяние от разочарований, стоял на грани самоубийства. Попридержала его на этой грани только нечаянная встреча с девушкой, которая принесла ему новые очарования и обманы, в которых он потонул со всеми поверженными идолами. Тоска по ним тускнела и улетучивалась в образе плохих стихов, тетрадка которых до сей поры валяется в ящике письменного стола. В этой тетрадке между гимнами в честь Леночки Замураевой есть и «плач на стенах Вавилонских»:
У меня была книга заветная,
Я в ней правду святую читал.
На страницах ее чистых, искренних,
Я усталой душой отдыхал…
Чьи-то грубые руки коснулися
Этих чистых заветных страниц:
Перепачкали грязью и выдрали,
Не щадя ни идеи, ни лиц.
И теперь заблудившимся путником,
Как в лесу без компаса, бреду,
Ни дороги, ни сладкого отдыха
Я в той книге святой не найду…
Почему же храню эту книгу я?
Что к ней душу больную влечет?
Брось в огонь! От былого заветного
Сохранился один переплет…
Как-то вечером, разбирая бумаги в письменном столе, Павел Николаевич наткнулся на пожелтевшую от времени тетрадь со стихами и увлекся собственными юношескими произведениями. Прочитал и это стихотворение с оглавлением «Заветная книга». Вздохнул и печально улыбнулся. Подумал: «Не столь хорошо, сколь правдиво!.. И даже современно. А еще говорят, что не бывает пророков в отечестве своем!»
Трое пойманных на Невском студентов с метательными снарядами и четверо повешенных с Александром Ульяновым во главе, да неудачная попытка сорганизовать снова партию народников, повлекшая к гуртовым арестам на всей Волге, что произошли в 1887 и 1888 годах, было последнею тучей рассеянной бури. Над Россией всплыло солнышко с кроткими лениво-сонными небесами установившейся надолго мирной тишины и спокойствия. Потянулись безоблачные и безветренные дни и звездомерцательные ночи, торжественное молчание которых нарушали лишь одинокие лаявшие на луну собаки, верные спутники жизни мирного населения, занявшего одну шестую земного шара…
Антон Чехов начал писать «сумеречные рассказы» и «скучные истории» и не находил одобрения в «Русском богатстве», которое читалось в Никудышевке.
Здесь по-прежнему оставались верны как «Русскому богатству», так и «Русским ведомостям», как в Замураеве – «Русскому вестнику» и «Московским ведомостям». Заветные книги двух главных лагерей во всей России, а в том числе и среди Симбирского столбового дворянства.
Храм народничества был разрушен. Но «храм разрушенный – все ж храм, кумир поверженный – все ж бог».
Уже не было священного алтаря, на котором так недавно еще свершались обильные жертвоприношения, но «отцы» продолжали по инерции молиться старым богам и держались за старую веру, яростно борясь с разраставшейся «толстовской ересью», как некогда боролся простой народ с никонианством. Хотя толстовская ересь и оставила в кумирах по-прежнему «мужика», но облекла его в новые ризы: народники почитали его природным социалистом, от рождения предназначенным к устройству земного рая во всей подлунной, а толстовцы открыли в нем специального и исключительного носителя и хранителя «Божьей правды», что внушало «отцам» опасение за судьбу революции, ибо какая же революция, когда проповедуется непротивление злу насилием? Какая же революция бывает без насилия? И какой русский интеллигент, спросим, перефразируя Гоголя, не любит быстрой революции?
Не успели «отцы» искоренить эту чисто домашнюю ересь, как появилась новая, еще более опасная, заграничная. Эта новая отодвигала революцию на задний план вместе с возлюбленным мужиком, предлагая самим пойти на выучку к капитализму Западной Европы, а мужика-дурака выварить в фабричном котле. Когда, спрашивается, их вываришь, восемьдесят миллионов-то дураков?.. На место спихнутого с пьедестала мужика новая ересь ставила рабочего: вот кому молитесь! Вот кто – прирожденный социалист! И что казалось отцам особенно возмутительным, новая ересь утверждалась скрывшимися за границей бывшими же народниками, рекомендовавшими русской интеллигенции бросить толчение воды в ступе: мужика, либералов, террор, – и заняться созданием по примеру Германии своей социал-демократической партии.
Егорушка Алякринский привез в Никудышевку из Казани номер органа заграничных еретиков, названный «Освобождением труда».
Таким путем впервые в Никудышевке узнали, что бродившие среди провинциальной передовой интеллигенции слухи о какой-то «новой вере» среди студенческой молодежи имеют свое основание…
Конечно, в Никудышевке, когда туда заезжали друзья освежиться умными разговорами, новая ересь была поднята на штыки логики и здравого смысла.
– Идиоты! У нас сто миллионов мужиков, а фабричных рабочих – горсточка.
– Да и котлов фабричных два-три да и обчелся, где же будем вываривать-то?
– И что значит – пойти на выучку к капитализму? Искусственно создавать голоштанный пролетариат? Обезземеливать крестьянство в пользу Тыркиных и Ананькиных?.. Извините, Ваня! Из песни, как говорится, слова не выкинешь, – спохватился Павел Николаевич, увидя широкую улыбку на лице добродушного Вани Ананькина.
– Я ничего… Валяйте! Брань на вороту не виснет…
– Я не хотел обидеть вашего батюшку… Я, так сказать, символически…
– На то и щука в море, чтобы карась не дремал, – произнес Ваня безобидно и весело, возбудив хохот окружающих.
Разговор шел в библиотечной комнате, куда собрались и «свои», и заезжие гости перед обедом. Земский врач Сергей Васильевич Миляев, заматеревший в народничестве лохматый очкастый интеллигент лет под сорок, принял новую веру за личное оскорбление, и злость, и раздражение мешали ему говорить, а голос срывался на высоких истерических нотках:
– Значит, все насмарку?! Все жертвы, весь тернистый путь? Дайте мне в руки эту паршивую газетку! Не за границей она выпущена, а департаментом полиции! Я… я не могу поверить… допустить… У нас не Германия! У нас надо сперва добиться парламента и признания политических партий… Ведь… ведь это подслуживанье капиталистам только на руку правительству!
– Ничего не понимаю… Или я от старости отупел, или… – говорил бывший мировой посредник, шестидесятник Иван Степанович Алякринский и, покосившись на сына как на источник этой непонятной новости, подозрительно спросил: – Да ты сам-то, Егор, как? Не спутался с этими дураками?
Егорушка уклонился от прямого ответа:
– Я просто интересуюсь… как очень многие…
– Да неужто можно этому поверить и…
– Есть такие, которые соглашаются… разделяют… надо во что-то верить…
– Но послушай, Егор! Если бросить веру в свой народ, то что же остается?
– В самого себя! – вставил весело Ваня Ананькин, и снова все засмеялись.
– Идем обедать… Дайте руку!
Зиночка улыбнулась Ване, и тот сделал руку кренделем.
– Господа! Бросьте толочь воду в ступе! Обедать зовут! – крикнул Ваня, уводя из библиотеки свою повелительницу.
Все гурьбой потянулись на веранду, а Егорушка с Елевферием остались и продолжали говорить о новой вере. Егорушка получил в наследие от отцов любовь к народу и жажду подвига, но безвременье томило его, ибо некуда было эту любовь расходовать и нечем утолить жажду. Хотелось найти точку приложения, а ее не было. Елевферий горячился:
– Боже мой! Господи помилуй! Как нечего делать? На каждом нашем шагу требуется и любовь, и подвиг… А вы теперь врач, будете служить народу. Кроме веры в Бога никакой другой веры не требуется. Все вот такие веры не от Бога, а от дьявола: не в Град Незримый тащат народ, а к Антихристу. В Бога-то верите?
– Хочется верить, но… сомнения есть… – сконфуженно произнес Егорушка.
– Верьте в Бога и в Божественную революцию! А все прочее бесовщина. Достоевского «Бесов» читали?
Егорушка окончательно сконфузился. Кое-что читал, но вообще-то мало интересовался Достоевским: этот великий писатель почитался среди передовой интеллигенции вредным, ретроградным, его называли за «Бесов» «пасквилянтом», и не принято было читать его.
– «Бесов»? Говорят, это пасквиль на наших революционеров…
– Плюньте тому в морду, кто вам сказал это! А что касается народа и интеллигенции, так вот вам схема моего сочинения…
Пришла девка и кликнула: «Обедать велели!»
– Ну, потом поговорим… Берегитесь стада бесовского!..
За обедом Елевферий опять заговорил о «Бесах» Достоевского, и начался спор: одни называли Достоевского писателем гениальным, другие – вредным ретроградом, третьи – пасквилянтом, оболгавшим всех передовых людей. Защищали немногие: тетя Маша с мужем (они всегда и во всем были согласны друг с другом), Елевферий, Зиночка и Ваня Ананькин. Остальные злобно нападали, кроме Сашеньки, которая слушала и молчала. Особенную злобу проявляли Павел Николаевич и земский врач Миляев:
– У него сплошной сумасшедший дом даже в лучших романах! У него самый лучший, положительный тип – идиот! Чем читать Достоевского, лучше побывать в клинике душевнобольных. Это, конечно, имеет свой интерес, особенно для нас, медиков, но при чем тут изящная литература?
– Он психолог! – упрямилась тетя Маша.
– Отлично. Пусть будет психолог, а вернее – психиатр. Но, во-первых, литература – не клиника для душевнобольных, а во-вторых, всякий психиатр, проживший долго со своими больными, сам делается сумасшедшим, и во всяком случае не ему делать оценку крупных и сложных общественных явлений политического характера. Типы свихнувшихся людей – неподходящий аршин для их оценки…
– Я к этому добавлю, – кричал Павел Николаевич, – что Достоевский умышленный пасквилянт: он напакостил из личной мести Ивану Сергеевичу Тургеневу, изобразив его в своем Кармазинове, напакостил знаменитому профессору Грановскому, а в «Бесах», которых вы, Елевферий Митрофанович, так рекомендуете молодежи, опоганил все святое русского освободительного движения. Я считаю Достоевского более вредным, чем даже Лев Толстой с его глупым рабским «непротивлением»…
– Истинный христианин! Истинный! – возглашал Елевферий в защиту Толстого.
– Даже и тут неверно: если Достоевский пытался, но не смог и струсил перескочить через Христа, спрятавшись за спину Великого инквизитора, то Лев Толстой перескочил через Христа, потому что признал в нем не Сына Божия, а лишь социального реформатора. Какой же он христианин?
– Я называю его истинным христианином постольку, поскольку он отверг все историческо-религиозные сделки с совестью современных людей, именующих себя христианами, вот таких, как мы с вами, Павел Николаевич, и преподнес нам учение Христа в чистом виде. Не убий – так не убий! Не суди – так не суди! Не противься злу насилием – так не противься! Противься честным словом и честным поведением! Добрыми делами противься!
– Вон наш Григорий не противился, а в тюрьму и ссылку все-таки попал.
– Неверно-с! Григорий Николаевич только насилием не противился, а всей душой, словом и поступками всегда противился. А произведенное над ним насилие, как он сам мне написал недавно, послужило ему лишь в утвержение истины, а не в поругание… А вот взявший меч погибает если не от меча, так от веревки!
Обед уже кончился, а все продолжали сидеть в ожидании очередного самовара и, вероятно, продолжали бы горячиться, если бы стоявшая у перил веранды и смотревшая через ограду Сашенька не сказала, обернувшись:
– Кто-то приехал! На телеге!
Кто мог приехать на телеге? Все направили взоры на двор, к воротам. Сашенька узнала первой:
– Кажется, Владимир?
– Какой Владимир?
– Брат повешенного Ульянова…
Все притихли. Всех охватило странное беспокойство. Сашенька вспыхнула и метнулась с веранды в сад. Встала тетя Маша и, что-то непонятное буркнувши, торопливо ушла в комнаты.
– Маша, – шепнул ей вдогонку Иван Степанович и на цыпочках двинулся за женой.
Вспорхнула Зиночка; догоняя ее, исчез Ваня Ананькин.
– Куда же, господа, вы? – простирая руки, с укоризной произнес Елевферий, видя, что и Елена Владимировна сорвалась с места.
– Не хочу я… – бросила шепотом Елена Владимировна и тоже исчезла.
Павел Николаевич тоже немного растерялся: однажды обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Однако бежать постыдился. Да было уже и поздно: появился Фома Алексеич и, подавая визитную карточку, сказал почему-то виноватым тоном:
– Вас желают видеть.
– Проводи в кабинет! Подашь в кабинет два стакана чаю!
– Слушаюсь.
Павел Николаевич постоял, посмотрел на карточку: «Кандидат прав, Владимир Ильич Ульянов». Над текстом – корона, символ столбового дворянства. Павел Николаевич ухмыльнулся, поправил усы и решительно направился к кабинету.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.