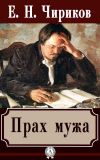Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 50 страниц)
Глава IX
Свирепы зимы в средней России, но зато как прекрасны весна и осень! И трудно сказать, что лучше: весна или осень… Отчий дом красивее осенью.
Прощальная ласка осеннего солнца, кроткое и покорное умирание земли, разлитая в природе грусть разлуки как-то больше гармонируют со старой барской усадьбой, с отошедшим в невозвратность дворянским «ампиром» и со всеми этими развалинами прошлого, чем буйно-радостная весна…
Осень точно сон или смутное воспоминание: вот дом с облупившимися колоннами, с безносыми львами у ворот, окруженный вековым парком, наряженным в старинную парчу осенних цветов – желтых, зеленых, ярко-красных…
Все обвеяно особенной нежной грустью, лирикой заброшенного кладбища, где спят непробудным сном все герои «Евгения Онегина»…
В этом году была исключительно приветливая и ласковая осень. И как-то особенно нежно и кротко и грустил отчий дом, погрузившийся после вылета Наташи из родного гнездышка в тихое и мудрое созерцание и сам похожий на бабушку, которая вылезала на балкон, садилась в любимое кресло предков, грела свои старые кости и сладко грезила о прожитой жизни.
Все давно покинули отчий дом. Пошумели, как пролетная стая галок, и исчезли. Остались только бабушка и тетя Маша с мужем. Старик с двумя старухами. Они не нарушали общего лирического настроения картины, а, напротив, усиливали его. Точно призраки старого «Дворянского гнезда»…
Бабушка осталась отдохнуть после исключительных хлопот и забот, потраченных на свадьбу и «ассамблею», погрустить о Наташе, привести в порядок свои мысли и чувства, пожить с двумя единственными теперь у нее верными друзьями: сестрицей, тетей Машей, и с Никитой.
Целую неделю бабушка отлеживалась и отсиживалась на веранде, где тетя Маша варила варенье на зиму. Маленько отдохнула и подумывала уже об отъезде в Алатырь, но как гром с неба – несчастье, особенно тяжелое после веселого брачного праздника: помер Никита…
Где стол был яств, там гроб стоит!
Для бабушки это было двойным ударом: Никиту бабушка любила особенной дворянской любовью, ибо в нем она чуяла старину патриархального золотого века с верными и преданными дворовыми слугами, а затем бабушка восприняла эту смерть не как простое несчастие, а как вещее дурное предзнаменование, чему способствовала внезапность Никитиной кончины.
Совсем недавно, дня три тому назад, бабушка видела его здоровым и даже отечески побранила его за то, что пахнуло от него водочкой:
– Опять выпил? И не стыдно тебе, старику, водку глотать?
– А ты погоди ругаться-то! Выслушай…
И Никита рассказал, что, когда он лошадей с водопоя вел (больше недели прошло уж), навстречу Ваня на своей «чертовой машине» ехал. Лошади испугались, рваться стали, и чалый мерин в брюхо его лягнул.
– Сперва очень больно было и вроде как лихоманка. А потом полегче. У меня, ваше сиятельство, одно лекарствие: выпьешь и здоров! Значит, не то чтобы я для греха выпил, а для здоровья!
Посмеялась бабушка, и добрые отношения восстановились.
И вдруг приходит утром девка из кухни и говорит, подавая самовар:
– Помер Никита-то!..
– Что?
– Никита, говорю, помер. Никто и не слыхал, как умирал…
– Как помер?
– Да так, помер.
Бабушка ушам не верила, а девке показалось, что бабушка рассердилась на Никиту.
– Без спроса люди-то помирают, барыня… С вечера жаловался, что внутрях горит и в голове мутится, поохал да покряхтел, а потом выпил водки и притих… Пора лошадей поить, а он не встает… Стала будить куфарка, а он холодный. Напугалась до смерти…
Бабушка побледнела, как полотно стала, и в обморок. Девка перепугалась и побежала во флигель к тете Маше:
– И старая барыня померла!
Напугала Алякринских до смерти. Опрометью кинулись старики через двор. По дороге оба вспомнили об акушерке и пожалели, что нет ее под рукой. Дело, однако, обошлось без клизмы: нашатырный спирт и валерьянка привели бабушку в сознание…
Хлопот наделал больших Никита. Поп отказался хоронить без докторского свидетельства: он мстил бабушке за то, что венчать Наташу она пригласила не его, а алатырского благочинного, отца Варсонофия. Получилось из Никиты «мертвое тело», подлежащие вскрытию. Вскрытие делали в каретнике. Опять событие, взволновавшее всю Никудышевку.
Тихий ужас, казалось, повис над отчим домом. Бабушка, конечно, заболела, и Никиту хоронили тетя Маша с мужем. Бабушка дала сто рублей на похороны и спряталась.
И опять поползли по деревне злые слухи, обвиняющие господ в смерти Никиты:
– Все из-за них. Им что свинья, что мужик…
Дворовая девка пугала бабушку: покойник Никита, померший без покаяния, бродит по ночам по двору, навещает конюшню, заплетает хвосты лошадям и постукивает в окошко кухни:
– Вот лопни мои глазоньки – не вру, барыня! Вчерась ночью проснулась я и слышу, – кто-то потихоньку под окном постукивает. Кто там? – спрашиваю. Стихло. Только стала засыпать – опять: тук-тук, тук-тук. Я метнулась глазами-то на окно, а за ним Никита стоит и рукой меня приманивает… Как я завизжу – все проснулись…
– Приснилось тебе, дуре…
– Как это, барыня, приснилось, когда я глядела… А ночь-то была светлая, месяц на небе стоял… Как живого видела! Надо молебствие отслужить, барыня…
– И опять – дура: не молебствие, а панихиду!
– Ну панифиду, что ли… От конюшни-то, видишь, беспокаянная душенька его оторваться не может…
Неприятно и страшно стало бабушке по ночам. Не спалось, и чудилось, что кто-то в окошко где-то внизу постукивает. В голову лезли воспоминания о всех родных покойниках, потому что вся жизнь, от далекого детства до старости, в этих воспоминаниях была связана теперь только с покойниками!..
Вот и Никиты не стало! Точно последняя ниточка с прошлым порвалась…
– Подай, Господи, в мире и покаянии скончати живот свой… и о добром ответе на страшном судилище Твоем!..
Чуялся неизбежный «конец» бабушке, более страшный и пугающий, чем сама смерть. Предки помирали спокойно, в крепкой уверенности, что земной дом их передается в надежные руки, что и после смерти они будут жить в потомках своих. Этакое родовое бессмертие и ненарушимость бытия земного, порядка всякого ощущалась. Все дела по хозяйству устроены, завещанием закреплены на веки веков, грехи покаянием очищены – значит, можно спокойно умереть. Теперь не так… Неизвестно, что будет и случится впереди… Точно вся земля и все люди в тревоге ждут чего-то, конца какого-то…
А тут еще изредка заезжал к бабушке генерал Замураев и, точно зловещий ворон, каркал прямо в душу.
– Ну и времена! И чем все это кончится – одному Богу известно… – каркал этот зловещий ворон.
Как предводитель местного дворянства и председатель комитета «Особого совещания» генерал больше жил теперь в городе Алатыре, но изредка наезжал по хозяйственным делам в свое имение и тогда считал долгом проведать своего старого друга и единомышленника в лице бабушки…
И всякий раз он надолго расстраивал старуху, бередил все, даже поджившие уже, раны души ее.
Генерал всегда приезжал к бабушке как бы заряженным злободневными новостями и происшествиями и разрешался от их бремени в Никудышевке. Старики Алякринские, тетя Маша и Иван Степанович, чувствовавшие себя теперь как бы на необитаемом острове и потому скучавшие, приползали из своего флигеля, чтобы узнать, что делается на белом свете. Хотя старики Алякринские, как шестидесятники, к «опоре трона» не принадлежали, но никогда генералу не перечили. Иван Степанович втайне думал: «Мели, Емеля, – твоя неделя», – но покорно слушал генерала и даже как бы поощрял молчаливыми киваниями головой. Генерал принимал это за единомыслие и потому с полной откровенностью за обедом или самоваром изливал перед слушателями все сокровенное своей души.
Это было уже после Курских маневров, во время которых царь так просто разрешил «крестьянский вопрос», а потому генерал, с одной стороны, был полон возмущения, а с другой – победоносной радости.
– Да, были хуже времена, но не было подлей! – сказал поэт Некрасов. А что сказать про наши времена, когда крамола влезла в среду столбового дворянства и помогает жидам и революционерам все вековые устои государства Российского подвергать колебанию? Это выйдет не особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а праздник жидов и революционеров! Хорошую ловушку для правительства устроил жидовский ставленник Витте!
– Разве он жид? – сочувственным тоном спрашивал Иван Степанович.
– Если даже сам он и числится по документам дворянином, но, скажите, кто не пролез в наше дворянство? Положительно пока установлено, что жена Витте еврейского происхождения, и недаром этот Витте, как говорят, хлопочет о жидовском равноправии… И вы посмотрите, сколько этот жидовский ставленник собрал себе помощников среди дворянства, в земстве и, к нашему ужасу, даже среди администраторов… Вы думаете, что среди губернаторов и даже предводителей дворянства нет тайных друзей Витте? Имеются! Побывайте сейчас в алатырском клубе и послушайте! Правда, пока разговаривают у нас шепотом, но ни для кого не секрет, что либералы земства мечтают о передаче мужикам помещичьей земли. Конечно, об этом хлопочут те дворяне, которые сами никакой земли не имеют… Они называют этот грабеж земельной реформой!
Генерал вскочил с места и взволнованно походил взад и вперед по комнатам, а после паузы решился огорчить Анну Михайловну:
– Должен сказать вам, глубокоуважаемая Анна Михайловна, что и мой зять, а ваш сынок, потомственный дворянин из рода именитых князей Кудышевых, оказался в этом жидовском лагере…
– Да неужели ты говоришь правду?
– Шила в мешке, матушка Анна Михайловна, не утаишь. Мне известно, что такой доклад стряпают земцы при ближайшем участии Павла Николаевича и в вашем родовом алатырском доме…
Снова тяжелая пауза.
– Мы все боимся мужика, а враг-то опасный – среди нас же, дворян. Мужик что? Его выпорют, он и замолчит. А ведь таких не выпорешь: вся Европа закричит… Между прочим… Какая глупость! Слышали вы, что в Черниговской губернии мужики убили помещика Владимирова и выпороли розгами князя Урусова? Знаете, что в Рязанской губернии мужики ранили князя Гагарина и сожгли его усадьбу?
– Какие ужасы! – шептала Анна Михайловна и удивлялась, как же это допустили власти.
– Успокойтесь! Новый министр внутренних дел разрешил по-своему крестьянский вопрос: военной силой и всероссийской поркой. Сейчас везде притихли и только в Саратовской губернии еще неспокойно. Там давно гнездятся революционеры. Как клопы в щелях. Балмашев-то, убивший министра Сипягина, оттуда же…
Излив возмущение, генерал начинал успокаивать взволнованных слушателей:
– Бог не выдаст, Витте не съест! Государь на Курских маневрах всех поставил на свое место… Не так страшен черт, как его малюют либералы с революционерами. Плеве-то тоже не любит шутить. Он им покажет освободительные реформы! Пусть пошумят и поболтают – виднее будет, как наши конюшни почистить… Одно меня удивляет. Наш новый губернатор Ржевский! Я запросил его о своих правах председателя: могу ли я своей единоличной властью зажимать рот революционным болтунам и снимать с очереди возмутительные доклады в полной надежде, что после Курских маневров встречу полную поддержку… И представьте себе мое удивление: получил напоминание, что назначенный волей Государя представитель «Особого совещания», министр финансов своим циркулярным письмом местным комитетам предоставил полный простор в изложении суждений о современном положении!
Впрочем, возможно, что это просто ловушка, оставленная министром Плеве для наших революционеров… Мышеловка, а в ней – кусочек сальца свиного… Ох, боюсь, матушка Анна Михайловна, я за своего зятька, а вашего сына, чтобы он не попался в эту мышеловку! Попробовал я с ним как-то осторожненько, чисто из родственных соображений поговорить и дружеский совет подать – ничего, кроме неприятности, не вышло. Попробуйте вы, как мать, повлиять на него! Ведь только подумать: родной сын принимает участие в реформе, которая должна ограбить родную мать!
– Насколько я слышал, проектируется принудительное отчуждение помещичьей земли по справедливой оценке? – робко замечал Иван Степанович.
– Это ширма для дураков-помещиков, тоже мышеловка…
Совершенно расстроив бабушку, сам генерал уезжал в победно-воинственном настроении:
– Вы, матушка Анна Михайловна, как будто бы загрустили?
– Как же, батюшка мой, не загрустить! Ничего приятного не предвидится…
– Не следует падать духом. Будем памятовать, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Государю уже раскрыли глаза на ту пропасть, в которую его толкает жидовский министр, и надо ждать скорых утешительных известий… Ах да! Совсем из ума вон… Могу поделиться и приятной новостью: моего сына оценили, наконец, по достоинству и заслугам – предложили место чиновника особых поручений при Воронежском губернаторе. Губерния паршивая: все время мужики бунтуют, да и среди дворянства очень уж интеллигентных умников много. Поблагодарили и отказались мы от этой чести и взамен попросили вернуть его на старый участок, откуда он вылетел, кажется, при участии вашего сынка и моего зятюшки… Времена, знаете! Брат на брата, сын – на родную мать… И ведь все это на собственную голову. Когда у нас Николай земским начальником был, в народе не было такого хулиганства. Побаивались! А как назначили этого слюнявого интеллигента из дворян, Огородникова, – то поджоги, то потравы и порубки. Небось при моем Николае и вам, матушка Анна Михайловна, спокойнее было?
– Ну еще бы! Свой человек…
Как ни храбрился генерал Замураев, а на всякий случай взял себе на охрану свирепого черкеса, который всегда сопровождал теперь верхом на коне предводителя дворянства.
– Что же, батюшка, ты зверя-то этого завел? – испугалась бабушка, провожая генерала. – Говоришь, бояться нечего, а сам…
– Береженого и Бог бережет! По ночам мне часто приходится теперь ездить, а слюнтяй наш, Огородников, по деревням много озорников развел.
Черкес с кинжалом на поясе и с нагайкой в руке гарцевал на коне, пока генерал усаживался в тарантас, и душа бабушки наполнялась еще большей тревогой и предчувствиями какого-то страшного «конца»…
Генерал уезжал и оставлял бабушку в совершенно разбитом душевном состоянии…
– Машенька! Ты ночуй сегодня со мной! Нехорошо мне что-то… Видно, надо уж на место, в Алатырь ехать. А кто повезет? Царствие тебе небесное, Никитушка! Видно, скоро свидимся…
Собиралась ехать, и вдруг письмо от Леночки с советом оставаться в Никудышевке:
У Малявочки каждый день сборища, споры, ночевальщики, табачный дым, шум и всякие неприятности. В вашей комнате – канцелярия. Теперь у нас как на постоялом дворе. У нас не отдохнете, а измучаетесь. Поживите подольше в Никудышевке…
Леночка писала правду: в Алатыре уже шла подготовка к бою, и бабушкин дом превратился в главный штаб передового лагеря с преобладанием революционно настроенного «третьего земского элемента»…
Бабушка обиделась:
– Никому не нужна!
Поплакала и осталась…
Одним утешением для бабушки были редкие письма и частые открытки с заграничными марками: есть еще на свете Наташа, чистая, милая, святая душа. А вокруг так тихо, ласково и грустно. Иногда бабушка пробует играть на рояле. Когда-то хорошо играла, а теперь плохо слушаются пальцы…
Пробует по Наташиным нотам сыграть вальс из «Евгения Онегина» – не выходит.
А бабушка так любит этот вальс. Бывало, как заиграет его Наташа, так и заноет сладкой тоской бабушкино сердце, а на глазах – слезы. Столько милого и близкого звучало в душе от этого вальса, и так рвалась она в невозвратность прошлого!
Вот то же переживала теперь бабушка и на прогулках в парке. Хорошо, но так грустно, что хочется заплакать. Тихо шумят деревья в осеннем уборе, плачут золотыми и красными листочками; каркают вороны, а ласковое солнышко играет золотистыми зайчиками и рисует кружева по песчаным аллеям. Печально вскрикивают птички в кустиках, пахнет грибами и гниющими яблоками. Тихо-тихо…
Присядет бабушка на любимую скамеечку и, закрыв под лаской солнышка глаза, погружается в сладкую дрему полусонных воспоминаний о чем-то милом и далеком. И вдруг из прикрытых глаз бабушки побегут слезы…
И кажется тогда, что это не парк, а старое кладбище, где зарыто бабушкино детство, отрочество, молодость и счастье… И сама бабушка – не гордая, похожая на императрицу Екатерину помещица в своих владениях, а несчастная старуха, пришедшая на безлюдное кладбище навестить забытых всеми, кроме нее, покойников…
Глава X
Не разгадать и не объяснить глубин души человеческой!..
Кажется, не было около бабушки более незначительного и незаметного человека, как мужик Никита. А вот подите ж! Умер этот Никита и произвел целый переворот в душе гордой старухи своей смертью. Вся дворянская гордость и спесь точно провалились куда-то, и осталась обнаженной человеческая душа, очищенная от всякой условной шелухи. Смерть стерла все перегородки: она тосковала по Никите, как по родному и близкому человеку, и что было для бабушки особенно тягостным – чувствовала себя в чем-то виноватой перед ним. В чем именно – и сама не знала. Может быть, в том, что мало ценила его преданность, мало заботилась о нем живом, до того мало, что не остановила своего внимания на нем, когда узнала, что лошадь лягнула его в живот, и только посмеялась, что Никита лечится водочкой, а не послала его в больницу…
Как это могло случиться, что в бабушкином сафьяновом поминальнике в отделе «за упокой», где числились родные и близкие покойники, все из дворянского рода, появился Никита? Даже никудышевский батюшка, хорошо знавший этот сафьяновый поминальник, немного запнулся, прежде чем произнес имя: «Никита»… Залетела ворона в барские хоромы!
Мертвый Никита сделался вдруг не мужиком, а человеком, и только человеком!
Как бы удивился и даже испугался Никита, если бы ожил и увидал себя в заупокойном списке, который начинался Государем-императором Александром-освободителем и им, Никитой, кончался!
Впрочем, Никита не мог бы этого увидать, потому что он был на земле неграмотным…
Да, много чудес натворил в бабушкиной душе покойник Никита!
И вот еще одно из таких чудес: гуляя однажды в парке, бабушка заметила через поредевшую листву деревьев крышу хутора и вдруг почувствовала себя виноватой перед Гришенькой. Обидела их с Ларисой: не позвала на свадьбу Наташину. Почему? Стыдно как-то было вытаскивать на «ассамблею», на посмешище людей, опростившегося Григория с его «бабой». Что за радость свои болячки посторонним показывать? Только в неудобное положение всех ставить: и Григория с Ларисой, и гостей, и самое себя. Когда Наташа заметила отсутствие за столом дяди Гриши и спросила бабушку, позвала ли она его с женой, бабушка соврала:
– Батюшки! Какая память-то стала: забыла ведь позвать-то!
Только после ужина Наташа послала записочку на хутор, но Григорий с Ларисой не пришли.
Тогда было стыдно позвать, а теперь стало стыдно, что не позвала.
За что обидела? Кого только Павел Николаевич ни пригласил на свадьбу! Кабы знала, что так выйдет, – не постеснялась бы Гришеньку с Ларисой за стол посадить: даже арендатор мельницы, Абрам Моисеевич, очутился в званых и, сидя за браным столом, называл Анну Михайловну «мамашей»!
А родного сына не было…
– Господи, Господи! Прости мои прегрешения!
Посидела на лавочке в глубоком раздумье, вздохнула несколько раз и медленно поползла на хутор…
В первый раз!
Поразила тетю Машу с мужем, а всего больше Ларису с Григорием.
– Куда ты, Анюта, пошла?
– Да вот… Никогда на хуторе у Гришеньки не бывала. Туда хочу…
Иван Степанович вздумал проводить:
– Нет, не ходи! Я одна…
Подивились тетя Маша с мужем: что-то небывалое… А на хуторе не только удивились, а прямо испугались. Выбежала Лариса на звонок и лай собаки к воротам, отворила калитку и глазам своим не верит.
– Что? Не узнаешь, что ли?
– Пожалуйте, просим милости!.. А я в чем была – выбегла, извините уж…
Опередила бабушку и опрометью кинулась вперед:
– Григорий Миколаич! Барыня сама, мамаша ваша, идет! – задыхаясь от волнения, крикнула в дверь и вернулась, чтобы помочь старухе подняться на крылечко. Не упала бы еще! А потом в кухню – самовар поскорее наладить.
– Здравствуйте, мамаша! Все ли благополучно? – тревожно спросил Григорий.
Он думал, что появление матери связано с каким-нибудь исключительным и неприятным происшествием.
– Слава богу, Гришенька! Про Никиту-то знаешь, а больше покуда ничего такого не случилось… Зашла проведать, посмотреть, как живете…
– Живем себе помаленьку…
– Что вас не видно? Даже и на свадьбу не пришли… Неужели особого приглашения ждали? Чай, свои люди-то… Обиделись, что ли? Головушка-то моя кругом шла от хлопот да суеты…
– Что вы, мамаша! Какие там обиды по пустякам… Если бы и приглашение прислали, не пошли бы все-таки…
– Почему же так?
– Да как сказать, мамаша? Чертог Твой вижду украшенным, но одежды не имам, да внийду в он! – сказал Григорий без всякой обиды в голосе.
– Всякие были: и во фраках, и в пиджачках, одни нарядные, а другие по-домашнему…
– Да я, мамаша, не про одежу говорю, а иносказательно. Только вас бы, мамаша, мы с Ларисой сконфузили да гостей ваших насмешили… В разных мирах, мамаша, живем! – прибавил, вздохнувши.
– В каких там разных мирах! На одной земле все живем и в одну землю нисходим, Гришенька.
– Это верно, мамаша… Я о путях жизни…
– Все дороги, Гришенька, в могилу…
Кротко, ласково и мудро говорит мать. Изумленными глазами останавливается Григорий на лице матери: точно новый человек в ее образе заговорил.
– Ну, как ваш приемыш?
– Ваня-то? Хороший мальчишка, только на улице парнишки обижают больно: китайцем дразнят. Ваня, подь сюда!.. Боишься? Э, глупый какой…
Григорий вытянул в дверь «якутенка». Волчонком смотрит на бабушку.
– Ну, подойди поближе! Я тебя не съем… Я гостинца тебе принесла… На-ка вот, возьми!
Подарила пластинку шоколада, погладила мальчика по жестким волосам. Пропала в бабушке прежняя брезгливость к этому «незаконному приплоду» в роде дворян Кудышевых, и бабушка уже не злилась, а ласково улыбалась, когда мальчик на вопрос: «Кто ты такой?» – ответил осипшим альтом: «Иван Дмитрии Кудышев».
– Читать и писать обучаемся! – похвастался Григорий.
И снова стыдно сделалось бабушке, и почувствовала она себя виноватой перед этим «якутенком»:
– Если мальчик неглупый и сметливый, можно в гимназию определить…
– Мальчик способный…
– Что это, Гришенька? Никак у тебя седые волосы появились на висках?
– Маленько есть…
– Рано уже больно…
– Жизнь-то, мамаша, бежит… да свои следы оставляет на человеке…
Принарядившаяся в экстренном порядке Лариса вскипевший самовар принесла и стала на стол разные угощения выкладывать. Запела своим громким голосом слова приветливые, стараясь выражаться как можно замысловатее. Очень уж польстило ей, что бабушка неожиданно пожаловала. И никак она не могла понять, с какими это целями?
– Мы завсегда, чем только можем, готовы услужить вам, Анна Михайловна. Кушайте-ка с медком липовым. С нашего пчельника. Очень уж духовитый медок-то. Позвольте, я пчелку-то ложечкой выну!
И на Ларису бабушка смотрит ласково.
– Вот ты, Гришенька, постарел и подурнел, а Лариса Петровна все хорошеет.
– Да что вы это говорите! Уж какая моя красота!
Целый час просидела бабушка и удивила и Григория, и Ларису своей простотой и приветливостью. Григорий пошел проводить ее до дому, и, когда прощался, мать сказала:
– Заходите ко мне… Теперь я одна, стесняться вам некого. Скучно мне что-то, Гришенька… Жить я, милый, устала… Недолго уж, видно…
– Господь с вами, мамаша…
– Ну, поцелуй меня, грешную…
Григорий даже опешил. Сбросил шляпу и, как к иконе, приложился к матери.
Лариса ждала с нетерпением Григория, хотелось узнать, в чем дело…
– Ну, что? Зачем она к нам приходила?
– Да так. Без всякого дела…
– Что-нибудь неспроста… Потом обнаружится… Нужен ты ей стал. Не иначе.
– Нет, Лариса. Тут другое… Прозревать старуха начала «правду Божию»… Шкура-то звериная у нас под старость линяет, а новый-то волос уже не растет. Вот человеческое-то и видать делается… Поцеловала она меня, да крепко так, с любовью. К себе нас звала…
Погладила бабушка «якутенка» по головке жесткой и теперь вот уже несколько дней непрестанно думает о Мите. Видит его во сне, смотрит в семейном альбоме фотографические карточки, на которых блудный сын запечатлен в разном возрасте, начиная с трехлетнего ребенка и кончая лохматым, красивым студентом, роется в шкатулке с письмами и выбирает Митины. «Дорогая милая мамочка!» – начинаются эти письма, а кончаются: «Любящий тебя сын Дмитрий Кудышев»… Дорогая, милая мамочка! Где ты и что с тобой? Так и помрешь, видно, не простившись… Какие бы ни были, а все дети!
И рождается в душе матери самоупрек: всего больше она сердилась на Митю, чуть только не прокляла его за участие в страшном преступлении, за которое повесили Сашеньку Ульянова, старалась выбросить его из души и памяти. Не хватало силы прощения…
А теперь, роняя слезы на Митины письма, шепчет:
– Гордость мешала, Митенька, обида за позор имени… Прости меня, сынок, Христа ради!..
Какое странное совпадение!
Три дня неотступно думала и тосковала о Мите, а на четвертый получила о нем весточку.
Пришло письмо с заграничной маркой. Конечно, от Наташи! Даже руки трясутся от радости и строчки прыгают…
Миленькая, родненькая бабуся моя! Случилось и радостное, и печальное чудо. Поверишь ли, родная? Я видела и разговаривала с дядей Митей, но когда то было, я не знала, что это – дядя Митя, а он, наверное, и теперь этого не подозревает. Боже мой, как обидно и досадно! Я плакала от огорчения… Мы ехали на одном пароходе. На нем ехала компания русских. Мы хотя и познакомились и болтали, смеялись, но как-то не интересовались именами и фамилиями спутников. Да и фамилия моя новая ничего бы не открыла… Один слез с парохода раньше нас. Потом в этой компании упомянули фамилию Кудышева, и я начала расспрашивать, о ком говорят. Сказала, что у меня есть дядя, Дмитрий Павлович Кудышев… И вот оказалось, что он-то и слез с парохода. Я хотела вернуться, догнать, отыскать, но Адам убедил, что мы отыщем потом. А потом я нашла в Женеве его адрес и пошла… Ох, как билось, бабуся, мое сердце! Ведь я маленькой так любила дядю Митю, и он меня тоже. Я это помню, помню… И вот какое несчастье: на квартире мне сказали, что два дня тому назад дядя Митя уехал из Швейцарии… а куда – никто не мог сказать… И вот я расплакалась…
Тут бабушка выронила из рук письмо и тоже расплакалась и горькими и сладкими слезами…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.