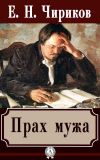Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
Глава XV
Притих, нахмурился, задумался старый бабушкин дом…
Бывало, и в нем, и около него жизнь кипит, мышиная суетня с утра до ночи. Ползут и едут люди, кто в дом, кто из дому. Около парадного крыльца – извозчичьи, почтовые пары, своя лошадь поджидает. Стемнеет, все окна в доме приветливыми огнями в темноту подмигивают и прохожих приманивают…
Теперь точно и люди в дом не ходят. Парадное крыльцо – на запоре. Все окна нижнего этажа ставнями закрыты и болтами приперты. В темноте только три окошка верхнего этажа светятся, один красноватым огоньком, – только поэтому и можно догадаться, что в доме живые люди есть.
Раз красный огонек видать, значит – лампадка горит, а если лампадка теплится, значит – старая Кудышиха не уехала…
Зимовать бабушка осталась. Захотелось около храмов Божиих да монастырей пожить, помолиться сокрушенно в одиночестве о всех несчастных детях, да и о своей грешной душе тоже, хорошего церковного пения и благолепного служения послушать.
Дом огромный, на свои вкусы предками строен: закоулочки да переулочки, площадки да лесенки. Заплутать можно. Разве натопишь его в холода? А старые кости тепло любят. Вот бабушка нижний этаж наглухо заперла, а сама наверх перебралась: там комнаты меньше, ниже, теплее и уютнее.
С бабушкой трое зимуют: глухой и дремотный верный слуга Фома Алексеич, оставленный бабушкой кучер Павла Николаевича, старый отставной солдат Ерофеич, да никудышевская старая баба, много лет служившая в доме и за кухарку, и за сторожа, когда дом пустовал, Нинила Фадевна. Люди болтают, что у Ерофеича с Нинилой Фадевной дело-то не совсем чисто… Не особенно верит бабушка этим слухам, однако на всякий случай Нинилу-то Фадевну в коридорчике около своей комнаты укладывает. Страшно мне – говорит. А может быть, и действительно страшно бабушке: опустевший дом, звонок стал, крысы простор почуяли, комоды да буфеты грызут по ночам… А осень злая, ветреная, в печных трубах точно волки воют…
А помимо того, все-таки живой человек женского пола эта Нинила Фадевна. Есть с кем словом обмолвиться. Нинила Фадевна даже в пасьянсах разбираться научилась и потом хорошо на картах гадает и сны объясняет. А бабушка все какие-то вещие сны стала видеть. Значит, и тем для разговоров у бабушки с Нинилой всегда достаточно. И тем еще Нинила хороша, что все новости, как сорока на хвосте, в дом приносит.
У нее везде знакомства: на базаре, в лавках, в полиции, в больнице. Нинила знает все, что вчера в городке случилось интересного, и доклады бабушке делает… Навещают изредка бабушку генерал Замураев, его сынок, земский начальник Коко, и городской голова Тыркин да отец Варсонофий. Сама бабушка только помолиться Господу из дома выезжает.
Тихо-тихо в доме, и тихо на душе. Удивляется бабушка: при Павле Николаевиче казалось, что и в городе, и на всем белом свете какое-то опасное волнение происходит и того гляди, что случится какая-то беда. Все стращал, что «все мы на бочке с порохом сидим». Очень запомнилось бабушке это выражение… Так оно и казалось тогда бабушке: точно на бочке с порохом. Бывало, чуть где сильно стукнут или уронят что, бабушка в ужас приходит. А теперь кажется, что и в доме, и в городе, и на всем белом свете – тихо все, и твердо, и неизменно, и никакой бочки с порохом нет вовсе…
В тихую и однообразную размеренную жизнь бабушки врывались изредка вестниками радости письма Наташи. Событие на целую неделю!
– Нинила Фадевна! Письмецо от нашей ласточки получила!..
Не с кем поделиться радостью, поневоле и Нинилу слушать заставляет…
Миленькая, родненькая бабуся! Уж так я по тебе соскучилась, что и сказать не умею. Адамчик предлагает весной поехать в Италию, а я не желаю. По-моему, нет ничего прекраснее на свете, как наша Никудышевка! Я хочу приехать на Пасху к тебе, и мы поедем в Никудышевку на все лето…
От Наташи пришла первая весточка и о высланных. Они останавливались проездом в Архангельск в Москве и пробыли у дочери три дня. Адамчик помог Павлу Николаевичу продать портрет предка одному московскому миллионеру за десять тысяч рублей.
– Десять тысяч рублей!
Бабушка протерла очки, оседлала нос и еще раз прочитала: да, за десять тысяч!
– Слышишь, Нинила Фадевна? Портрет-то, который из Никудышевки увезли, продали в Москве за десять тысяч!
– Да неужели?
– Небось все подсмеивались, бывало, над предками-то. А кто выручил?
Сколько у бабушки портретов? Еще семь осталось. Если за каждый по десяти тысяч дадут, ведь это семьдесят тысяч! Целый капитал… Задумалась бабушка, вздохнула и прошептала:
– Нет, нет… Как же можно продать?
…Адамчик так занят делами, что я мало его вижу. Все разъезжает и защищает, а я увлекаюсь Художественным театром. Бабушка! Не можешь себе представить, как мне захотелось быть актрисой!
– Ну, вот это уж напрасно… Сохрани, Господи, и помилуй!
Большая работа бабушке: написать такое письмо, чтобы выбросила из головы все эти глупости.
Пришло, наконец, письмо и от Леночки из Архангельска. Устроились хорошо. Жизнь очень дешевая. Живут весело. Много здесь интересных людей. У них по средам собирается сосланная интеллигенция на «буржуазные пироги». Устраиваются доклады, есть писатели и поэты. Женьку отдали в гимназию…
Все хорошо. Ничего страшного не оказалось. В конце письма приписка:
«Говорят, что и симбирского губернатора переводят сюда же. Малявочка в восторге».
– Про собак-то ничего не пишут? – спросила Нинила Фадевна.
– Про каких собак?
– А что, дескать, там на собаках люди ездят?
– Порядочные люди и там, матушка, на лошадях ездят…
И так тихо и мирно тянулись дни за днями.
Конечно, тут речь идет только о «бабушкиных днях», протекавших в родном доме. А в России все шло своим роковым порядком или, вернее сказать, – роковым беспорядком…
Ставка на «мужика» министра Витте снова бита. Ставка на «дворянина» выиграна. Все – как правые, так и левые – ждали, что побежденный и униженный председатель «Особого совещания» с его разгромленными комитетами должен будет уйти, а победитель Плеве решать судьбы России, но этого, к общему удивлению, не случилось. Оба противника и злейших врага остались на своих местах. Царь держался за одного, но на всякий случай не отпускал и другого.
Либералы, злобствуя, острили:
– У царя две руки: правая – Плеве, а левая – Витте, и правая рука не должна знать того, что делает левая… Одна рука мужика по головке гладит, а другая нагайками порет. Одна о европейском равноправии печется, а другая Кишиневские погромы устраивает.
Или:
– Где Плеве не сможет, там Витте поможет! А где Витте не сможет, там Плеве поможет…
Вот что сказал по поводу этих острот симбирский купец Яков Иванович Ананькин, политик доморощенный, но человек простого здравого смысла и житейской мудрости:
– Эх, господа честные! Посади которого из вас на место царя, поглядел бы я, как он стал бы править… Скажем так – пожар в доме. Что делать: хватать пожарную кишку али разговаривать о том, как сделать, чтобы никогда больше пожаров в доме не случалось? Без пожарной кишки невозможно. Сперва пожарный требуется, а как пожар потушим, можно не торопясь и правила такие придумать, чтобы пожарной опасности не было. Говорите – две руки. Неправильно! Один вроде как пожарная кишка – революцию тушит, а другой изобретатель: как несгораемую постройку сделать… А стало быть, оба царю нужны: и Витте, и Плеве… Каждый на своем месте хорош…
– Так, значит, ты, Яков Иванович, думаешь, что у нас революция?
– А что же это такое: министров и губернаторов стреляют, везде забастовки, по всей России народ бунтует… А вам какой еще леварюции нужно?!
– Это еще так… предисловие…
– Так вот и надо вовремя прикончить! Пока еще дымит только, а огонь наружу не вырвался… А вы, господа хорошие, лучше сказали бы, как царю-то с нами, дураками, быть? Правды ему не сказывают, на все стороны тянут для корысти своей, а ему никого обижать неохота…
При всей своей неучености Яков Иванович был прав: революция уже гуляла на всех просторах необъятного царства, сверху донизу. Не видели этого только «бабушки» обоего пола, правительство, называющее ее беспорядками и нарушением государственной тишины и спокойствия, да передовая интеллигенция, представлявшая ее себе в картинах «Великой французской революции» с Маратами, Дантонами, Робеспьерами, Бастилией, трибуналом и прочим.
Царь уверовал в своего «пожарного»: всероссийская порка сделала свое дело – «мужик» повсеместно притих и примолк, и только в Саратовской и Пензенской губерниях продолжались еще усмирения. Помогла, впрочем, «пожарному» и приближающаяся зима: мужик, как медведь, полез в свою берлогу сосать собственную лапу. Тот же «пожарный» помог разогнать крамолу, скоплявшуюся вокруг зловредной затеи «красного министра», приведшей к тому, что беспочвенная интеллигенция заговорила о Всероссийском земском соборе… Ну а с профессиональными революционерами такой решительный укротитель и подавно справится, имея в своем распоряжении такой прекрасный усовершенствованный аппарат, как Департамент полиции с Охранным отделением…
В недрах последнего вот уже года три, как народился мудрец и изобретатель, открывший совершенно новый способ борьбы и искоренения из фабричных рабочих масс всяких социалистических утопий. Имя ему Зубатов. Когда-то он сам был социалистом и революционером, а потому ему хорошо известны все методы и приемы социалистического подполья. Сей муж представил простой, как все великие открытия, способ обезвредить усилившуюся работу подпольной партии социал-демократов: для этого нужно взять рабочее движение под опеку Департамента полиции, то есть притвориться защитниками рабочих в их экономической борьбе с капиталистами. Для этого нужно подражать революционерам: устраивать рабочие организации, кассы взаимопомощи, рабочие школы, лекции и побольше кричать там о защите интересов рабочих. И, конечно, не жалеть при этом казенных денег… Не большая беда, если для укрепления своего влияния в рабочих массах придется иногда поддержать забастовку, произвести давление на фабриканта. Надо наглядно показать рабочим, что для них тут выгоднее, чем в нелегальной партии.
Эта идея пленила великого князя Сергея Александровича, и Зубатов оказался, в конце концов, во главе Охранного отделения. На первых порах надо было ярче рекламировать себя в рабочих массах, и потому сразу возроптали все крупные фабриканты и промышленники. Конечно, они обратились к министру Витте как творцу русской промышленности:
– Помилуйте! Да ведь что же это выходит? Министерство внутренних дел своими руками революцию поддерживает!
Министр финансов Витте начал воевать с министром внутренних дел. Но и тут неудача: поперек дороги встал великий князь Сергей Александрович. Плеве должен был согласиться, что не все тут благополучно, но распустить зубатовские организации не решился. Он только усовершенствовал их: полицейские чины, фабричная инспекция и духовенство должны приниматься в эти организации членами-соревнователями…
Так появился на государственной сцене знаменитый впоследствии священник Гапон как «член-соревнователь» в петербургских организациях полицейского социализма…
Так правительство обезвреживало революционную работу нелегальной партии социал-демократов.
По отношению к другой нелегальной партии, социалистов-революционеров, возобновивших террористические покушения и убийства, ничего нового никто не изобрел, но тут просто посчастливилось: Охранному отделению удалось посадить своего шпиона в самое сердце партии и сделать его революционным генералом самой Боевой организации. Имя ему – Евно Азеф.
Но не будем забегать вперед и вернемся в родные Палестины отчего дома.
Глава XVI
…Ну, вот и до новой весны дожили!..
Эх, как ласково солнышко вешнее! Всем светит, никакую тварь Божию не обижает: всем радость с голубых небес посылает… И богатым и бедным, здоровым и убогим, молодым и старым…
И что только делает это вешнее солнышко! Сколько раз помирать бабушка за зиму собиралась, о могиле своей подумывала, завещание свое пересматривала (ведь уже восемьдесят три весны пережила бабушка!), а как пришел Водолей да начал землю-матушку ко Христову Воскресению вешними водами обмывать, как поломала Сура ледяные оковы и понесла их в Волгу-матушку – опять помирать не хочется.
Нинила Фадевна зимние рамы уже кое-где выставила. Ерофеич санки убрал, тарантас моет и подмазывает. Глухой Фома Алексеич воду со двора на улицу спускает. Цепной пес сладко потягивается. В саду птичья трескотня да грачиный гомон… Скворчик прилетел и радостно булькает, сидя у скворечницы. Куры кудахчут, и петухи кричат. И весь городок точно живой водой волшебник спрыснул: все жители ожили, с утра до вечера на улицах, идут, бегут, на шумливых колесах по мокрым мостовым извозчики и телеги громыхают, пароходы на Суре посвистывают, на пристанях народ копошится…
Грохот, шум радостный по земле идет, точно вся земля зашевелилась, радостными голосами закричала и побежала навстречу Светлому Воскресению Христову…
Страстная неделя. Великопостные колокола о великих страстях Господних напоминают. Сокрушаться бы надо… Бабушка каждый день дважды в храме молится, пост строго держит, псалмы Давидовы читает, а радость пугливая все не уходит, спряталась в уголке старой души и пугливо выглядывает…
Да ведь куда ее, радость-то, денешь, если на Страстной неделе Наташа приедет?
Наташа приедет! Наташа, Наташа, Наташа, Наташа!..
Грешно бы в такие страшные дни радоваться-то, а, видно, нету человека власти над душой своей…
Кипит уборка в доме. Все в этой работе. А тут бабушка от вешней радости и по случаю приезда Наташи вздумала и снаружи старый дом в праздничный вид привести… Маляры с домом покончили и теперь ограду палисадника и заборы докрашивают…
Ну и нарядился же бабушкин дом к праздничкам! Кто ни пройдет, кто ни проедет – все оглядываются и приятно улыбаются. Прямо не узнаешь…
Точно старая барыня вторую молодость переживает: оделась не полетам, попудрилась, подрумянилась и набелилась. Стены мелом с охрой покрашены, и от этого дом точно в легком золотистом платье толстая барыня выглядит. Наличники у окон – шоколадного цвета – точно глаза подведенные. А зеленая крыша с трубами, флюгерами и с нависшими над ней ветвями запушившейся развертывающимися почками березы – точно модная дамская шляпа со страусовым пером и разными финтифлюшками…
Великий пост, а в доме все скоромные вкусные острые запахи: копченой ветчиной, топленым маслом, сдобным тестом, сметаной пахнет.
Хлопот полон рот у бабушки: и грехи отмаливать, и дом прибирать, и пасхальный стол приготовить. А бес, конечно, этим и пользуется.
Господи, Владыко живота моего!
Губы шепчут: «И не осуждати брата моего!» – а в мыслях: «Опять плут Ерофеич сдачи пятачок недодал! Я тебя выведу на чистую воду!»
Недолюбливает Ерофеича бабушка. И не потому, чтобы Ерофеич был человек нехороший, а просто как увидит Ерофеича, так и вспомнит покойника Никиту, – сразу рассердится, точно Ерофеич виноват в том, что Никита помер.
– Прости, Господи, мое согрешение! Осудила брата моего…
«Заботы наши, как мыши ночью, душу человеческую грызут», – подумала бабушка, и тут опять неподходящее в мысли полезло: вспомнила, что по ночам крысы в комнатах нижних бегают, как кошки, и грызут комоды и буфеты разные. Надо Ерофеича к арендатору Абраму Ильичу послать: нет ли у него какого-нибудь средства от крыс и мышей?
Вернулась от вечерни, побранила Ерофеича за недоданный пятачок и послала к Абраму Ильичу.
И этим воспользовался лукавый. Большая неприятность вышла.
Пришел Абрам Ильич. Хмурый, недовольный чем-то. Поздоровались.
– Ну, какое у вас до меня дело, мамаша?
– А ты что сердитый такой?
Абрам Ильич пожал плечом, погладил бороду:
– У меня, мамаша, большая неприятность… Что вы от меня хотите?
– Да вот, родной мой, крысы нас одолевают. Покою по ночам не дают. Не знаешь ли какого-нибудь средства!
– Э! Что может, мамаша, человеку сделать крыса?
– У тебя на мельнице тоже есть крысы. Как ты их выводишь?
– Э, мамаша! Я не мешаю, мамаша, крысам. Надо как-нибудь жить и крысам… А вот скажите, мамаша, как жить нам, евреям, для которых уже придумали такое средство, какое хочет мамаша…
– Говори толком! Ничего не понимаю…
Абрам Ильич рассказал про Кишиневский погром, вынул клетчатый платок и отер слезу: у него убили в Кишиневе сестру и ее грудного ребенка. А сейчас он узнал, что умер в больнице его торговый компаньон, и теперь тот не может заплатить ему большие деньги: его лавку разграбили и семейство – нищие. Власти не хотели помешать: смотрели себе, как евреев грабили и убивали.
– А вы пожаловались бы своему Витте: он ведь стоит за вас, за жидов!
– Что, мамаша, значит Витте, когда уже есть Плеве? Вы знаете, мамаша, что сказал этот министр нашей депутации после Кишиневского погрома? Он сказал: пусть ваши дети прекратят революцию, и я прекращу погромы!
– А разве это не правда? Все говорят, что у нас жиды делают революцию…
– Мы делаем революцию? Разве ваши дети, мамаша, жиды? А где ваши дети? Почему два были в Сибири, а почтенный такой Павел Николаевич должен был поселиться в Архангельске? Если, мамаша, ваши дети делают революцию, а наши помогают, так за это можно вас, мамаша, убить и ограбить? И ваши, и наши дети вместе делают это дело, почему же не убить не ограбить не одного меня, а нас вместе, мамаша?
Трудно сказать, что оскорбило бабушку. То ли что Абрам Ильич попрекнул ее детьми-революционерами, то ли употребленный им сравнительный метод, при котором и она, бабушка, очутилась в таком же правовом положении, как и этот «жидок», но бабушка даже побледнела от этой дерзости суждений Фишмана и, задыхаясь от гнева, сказала:
– Вот что… Поди вон! Вон отсюда! Чтобы жидовским запахом не пахло!
Абрам Ильич пожал плечом и смущенно вышел, а бабушка с тяжелым дыханием осталась в кресле и выбрасывала кусочки негодования:
– Ах, нахал! А? Вот до чего… обнаглели как… генерал правду сказал… Ух! Нинилушка… дай стакан водицы!
– Что случилось, матушка барыня? Что он, жидюга?..
– И меня, видишь ли, надо убить и ограбить…
Потом бабушка, успокоившись маленько, начала припоминать весь этот неприятный разговор и сама не могла найти возмутившее ее преступление Абрама Ильича. Ведь он сказал только, что за преступление детей нельзя наказывать родителей! Дерзко как-то сказал это, а подумаешь, так оно, конечно, верно… Напрасно погорячилась и выгнала Абрашку!
Исповедуясь, бабушка рассказала все отцу Варсонофию, покаялась и сняла этот грех с души своей.
В Великий четверг приехала Наташа. Целовались и плакали обе от радости. Пристально смотрели в лица друг другу, точно не могли наглядеться…
– Вот ты какая стала!
– А ты, бабушка, ни капельки не постарела!
Точно ласточка в доме завелась: летает по всему дому, веселая, говорливая, непоседливая. Все ей надо посмотреть: как было и как стало? Все разузнать: что с кем случилось? Что-то переменилось в Наташе: она новой меркой стала мерить все окружающее. Рвалась назад к недавнему прошлому и во всем точно разочаровывалась. Все теперь не таким ей кажется – погуляла по улицам городка и вернулась недовольная:
– По-моему, лучше жить в деревне, чем в таком городе. Ходят люди, как сонные мухи. Даже смотреть скучно на них… Выгорел он, что ли? Раньше больше был…
– Побывала за границами да в столицах, вот и не нравится теперь Алатырь. Люди как люди!
– Смешные какие-то. Точно все притворяются большими, а на самом деле – маленькие…
– Должно быть, сама выросла больно…
Уж как дружила Наташа с Людочкой Тыркиной, а повидалась и разочаровалась в своей бывшей подруге:
– А все-таки, бабушка, она не умная!
– Верно, сама больно умна стала… Где уж нам, провинциалам, с тобой равняться…
Бабушку и обижала, и пугала какая-то перемена в Наташе. «Это уж московское в ней», – думала бабушка, но что именно разумела под «московским», и для самой было неясно. Гордость, что ли, особенная, столичная…
В церковь ездит с бабушкой охотно и молится Богу хорошо, как прежде: вся в молитву уходит, а приедет домой – к роялю и романс разучивает.
– Наташа! Пост великий, а ты песенки поешь!
– Неужели, бабуся, ты думаешь, что Бог будет сердиться, если где-то в Алатыре в посту на рояле играют? Вот ты любишь псалмы Давидовы читать, а Давид их пел под аккомпанемент арфы. Бог любит музыку…
– Набралась уж в Москве всяких глупостей…
То очень уж весела и бойка на слово, то точно увянет вдруг и сделается грустной и задумчивой.
– Что ты, по мужу соскучилась? Скоро же!
– Я? Нет. Так… Мой Адамчик не такой веселый, чтобы без него скучать…
– Адамчик? Это ты мужа своего так окрестила? Точно мальчика называешь…
Конечно, бабушку больше всего беспокоил вопрос: счастлива ли Наташа в семейной жизни? Странно, что не говорит о нем.
– Невеселый, говоришь, Адам-то Брониславин?
– Не очень.
– Это не мешает человеку быть верным и любящим мужем… Не может же человек в его возрасте и положении козлом около тебя прыгать!
Наташа звонко и весело расхохоталась. Вся грусть в ней сразу прошла…
И снова за роялем, напевает: «Я вас ждала, но вы, вы не пришли!» Тут уж бабушка вскипела. Прогнала от рояля и крышкой хлопнула:
– Страсти Господни скоро читать будут, а у нас музыка… Нет уж… В чужой монастырь со своим уставом не ходят, Наташа. У вас в Москве по-своему, а у нас в Алатыре – по-своему…
Наташа не обиделась, а повисла на бабушке и давай ее целовать… Слезы из глаз прыгают, целует и шепчет:
– Я, бабуся, скверная стала… Прости меня, не сердись!..
Чует бабушка, что не все тут благополучно, но в чем дело – понять не может. Спят они вместе в бабушкиной комнате. Перед сном потихоньку разговаривают. Вот бабушка и старается выпытать тайну…
– Ты писала мне, что театрами увлекаешься?
Стоило только заговорить про театр, как Наташа загорелась, села в постели: глаза большие, щеки пылают, голосок захлебывается:
– Я всего больше на свете люблю театр, бабуся! Я настоящую жизнь не люблю, а люблю выдуманную. Настоящая жизнь… противная! Ну да! А в театре даже на злого и скверного человека интересно смотреть. Ах, если бы ты, бабуся, побывала в нашем Художественном театре! Вот, например, «Три сестры» или… «Вишневый сад»… Я всегда плачу в театре, бабуся! Смеюсь и плачу…
– Что же, с мужем вместе ходите по театрам-то?
– Ему некогда! И он ничего не понимает. Он и музыку не любит. Он всего больше любит государственных преступников… Он все разъезжает…
– Муж разъезжает, а ты – по театрам? С кем же по театрам-то путешествуешь? Провожает, что ли, кто? Неужели одна по ночам по улицам ходишь?
– Ну, провожатые всегда найдутся… А если без провожатого, так на извозчике.
– А гости у вас бывают? Много знакомых-то?
– Бывают… У меня – свои знакомые, русские… Знаешь, бабуся, что? Я не особенно люблю поляков. Когда у нас собираются гости Адамчика – мне неприятно. Я – как чужая…
– Даже и гости разные!
– Мне кажется, что они ненавидят и Россию, и нас, русских… Знаешь, бабуся, что я думаю?
– Ну!
– По-моему, любить по-настоящему можно только поляку – польку, а русскому – русскую…
– Вот тебе раз! Да ведь вот вы любите же друг друга?!
Наташа ответила с маленьким промедлением:
– Не знаю, бабуся… Я не так представляла себе любовь… Адамчик очень умный, но мне с ним… ну, холодно как-то… Он всегда хитрит, всегда прячется как-то…
– Прячется?
– Душой прячется. Понимаешь? Ну, и я не могу с ним…
Наташа уткнулась в подушки и примолкла. Попробовала бабушка снова заговорить – не отвечает. Притворилась, что заснула…
А бабушке не спится. Думает она: ей с ним холодно, нет ли уж и такого, с которым – тепло? Неладно что-то: не так бывает в счастливых браках! Как же это настоящую жизнь не любить? Муж-то ведь настоящий, а не театральный…
Пытливо посматривает бабушка на любимую внучку. Удивляет вот что: кабы печальна была всегда Наташа, так оно понятно: мало муж любит. Но она то печальна, то очень уж весела, совсем мужа не вспоминает. Принес почтальон письмо, вырвала и убежала читать куда-то…
– От Адама Брониславовича письмо-то получила?
– Нет. От одного знакомого…
Вот она, разгадка! «Один знакомый»… И смутилась маленько. Надо допытаться, кто этот «один знакомый». Когда Наташа вышла из дому, бабушка поискала письмо, как бывало делала раньше, но письма нигде не нашла. Значит, с собой носит. Но в маленьком чемоданчике нашла в почтовой бумаге портрет какого-то мужчины. Ну вот, видно, он и есть, этот один знакомый!.. С неприязнью рассматривала бабушка этот портрет, не подозревая, что это – известный всей России писатель Антон Павлович Чехов, покачивала головой и шептала:
– Ну, добро бы молодой, красивый, а этот тоже в летах и ничего особенного…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.