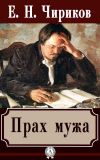Текст книги "Отчий дом"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 50 страниц)
Глава X
Товарищ Крупская как внезапно появилась, так внезапно же и скрылась с никудышевского горизонта, но вызванное ею в отчем доме возбуждение умов продолжалось. В «акушерком штате» еще долго шла идеологическая грызня, и ее отголоски нередко раздавались на буржуазной террасе главного дома за вечерним чаепитием, когда сюда стягивались все кадры разнопрограммной революционно настроенной публики.
Однажды начавшись перестрелкой между молодежью, это возбуждение разгорелось в настоящий общий бой, захвативший даже Машиного мужа и Павла Николаевича. Сашенька явилась с томом сочинений Н. Михайловского, а Костя Гаврилов, перелистывая эту книгу, случайно наткнулся в «Литературных заметках» автора на такое место, которым удобно было пырнуть Сашеньку и собственного брата, отстаивавших во время диспута с Крупской возможность совмещения национализма и патриотизма с социализмом. Конечно, Костя сейчас же прочитал вслух это каверзное место: «Что такое отечество? Это не просто известная страна… это – сумма географических, экономических, юридических и политических фактов и идей, завещанных отцами, совокупность предрассудков и установившихся идей, которых не может принять все человечество. Культ слов, дающий возможность надувать не только других, но и самих себя!» Вот что сказал ваш же Михайловский!
С этого и началось. Бабушки не было, а потому воцарилась полная свобода слова. Сашенька с мужем начали огрызаться:
– Смотришь в книгу, а видишь фигу! Михайловский пишет тут о наших черносотенцах, превративших отечество в корыто для собственного кормления!
Стрельнула Ольга Ивановна:
– Любовь к отечеству и своей национальности есть любовь к собственным болячкам!
– А вы, сударыня, без этих болячек? – спросил хмуро Машин муж.
– Мы? Нас не надуешь тем, чем надувал Карамзин наших дедов!
– Какую же мазь, сударыня, вы употребляли для излечения этих болячек?
– Марксистскую! – выстрелил в поддержку Ольги Скворешников.
– А! Понятно, понятно! Ваш Карл Маркс, как еврей, не имел отечества, вот поэтому эта мазь так успешно излечивает от любви к отечеству и национальной гордости… от веры в Бога, от законного бракосочетания, от любви к своему народу… Никаких болячек не оставляет.
Иван Степанович, продолжительное время молча слушавший спор молодежи, наконец не выдержал и прорвался:
– А вот сам-то он этой мазью, наверное, не мазался. Только другим эту вселенскую смазь делал! А вот мы, старики, гордимся этими болячками.
– Кто это «мы»?
– Отцы ваши!
Павел Николаевич громко заявил:
– Прошу меня из списков отцов вычеркнуть! Я не отношу себя к патриотам своего отечества!
– Может быть, ты не считаешь уже себя и русским? – спросила ехидно тетя Маша.
– Русским считаю.
– Слава Богу! А то я испугалась: не помазали ли уж и тебя этой мазью!
– Но я – не националист!
– Знаю, знаю… Ты признаешь все национальности, кроме русской!
– Мне никаких признаний не требуется… со стороны… защитников «самодержавия, православия и народности»…
Тетя Маша демонстративно удалилась. За ней ушел и Иван Степанович. Последовала продолжительная пауза неловкости.
Пенхержевский, по обыкновению, выручил:
– Это наша общая славянская черта: сражаться между собой больше, чем с общим нашим врагом.
– Они меня не поняли, – как бы оправдываясь, заговорил Павел Николаевич, – есть неприемлемый для меня национализм и есть национальное сознание. К сожалению, у нас культивируется главным образом национализм, национальный шовинизм, чувство звериной неприязни к другим национальностям.
Разговор временно перешел к «отцам», Павлу Николаевичу и Адаму Брониславовичу. Как будто бы и согласны они, но Адам Брониславович все делает маленькие оговорочки, поправочки и, наконец, очень деликатненько, с боязнью за разномыслие решается формулировать свое особое мнение:
– Я в этом вопросе стою на индивидуальной платформе, дорогой друг мой. Я полагаю, что культурный человек как бы в силу исторической психологической наследственности получает уже при рождении это шестое чувство – чувство национальности, как инстинкт национального самосохранения. Пока ничто не угрожает этому самосохранению, национальное чувство остается спокойным, бездейственным. Но как только общественный организм, частицей которого человек остается, как гражданин, подвергается опасности, так сейчас же это чувство начинает работать, и чем сильнее опасность, тем быстрее оно растет и превращается в то, что вы, дорогой друг, называете шовинизмом. Зло это? Я затрудняюсь ответить. Это как высокая температура при болезнях, как увеличенная селезенка при лихорадке. Возможно, что это совершенно нормальное явление при болезнях социального организма. Ну, флюс, что ли, сопровождающий часто болезнь зубов. Возможно, что для больного социального организма и этот шовинизм спасителен, как рычаг в борьбе за национальное самосохранение…
Павел Николаевич понял, что тут говорит оскорбленное национальное чувство поляка, и поторопился согласиться. Но прямолинейный марксист с трубкой не пожелал никаких компромиссов, и, облекшись в халат учености, позитивизма, дарвинизма и материализма, начал анатомировать понятие национальности:
– А позвольте вас спросить, что такое эта пресловутая национальность? Вот защитники ее утверждают, что содержанием этого понятия являются язык, религия, нравы и обычаи, территория. Вскроем!.. И что же мы увидим?.. Вы говорите – язык. Но язык дело преходящее, языки рождаются и умирают, подвергаются взаимодействию. Вывезите русского мальчика во Францию, и он утратит свой язык, хотя по национальности будет именоваться русским. Стало быть, язык не есть нечто неотделимое от национальности. Есть нация без языка – евреи. Вы говорите – религия… Но можно принять любую религию и остаться в своей национальности. Есть, например, болгары и сербы, исповедующие ислам, есть турки-христиане и т. д. О нравах и обычаях и говорить не стоит: они беспрерывно меняются и потому не могут составлять постоянной неотъемлемой от национальности величины… Наконец, территория… Но малайцы и папуасы живут на общей территории, а принадлежат к разным национальностям, евреи и цыгане совсем не имеют своей территории. Есть нации без общего языка и религии: швейцарцы и жители американских штатов…
Павел Николаевич улыбнулся и накинул еще пример:
– Вот и в наших никудышевских штатах нет общего языка, религии, морали…
Пенхержевский хитровато улыбнулся и обратился в сторону чувствующего себя победителем Скворешникова:
– Все, что вы утверждаете, можно было доказать еще проще. Возьмем русского глухонемого идиота! У него нет ни языка, ни религии, ни обычаев и нравов и на всякой территории он – идиот. Тем не менее он – русский, то есть не утратил своей национальности…
Пенхержевский произнес это тем же научным тоном, каким говорил Скворешников, и тот не понял: шутка это или просто издевательство со стороны Пенхержевского.
– Идиотов можно не принимать во внимание, – сердито буркнул он, покосившись на подозрительного единомышленника. – Я говорил не о дураках и идиотах.
Пенхержевский ухмыльнулся и ласково так бархатным голоском сказал:
– Не скажите! На свете больше дураков, чем умных, и при всеобщем голосовании, которого мы с ними добиваемся, придется очень и очень считаться и с дураками, и с идиотами. А кстати, еще одно замечание относительно власти национальности. Даже социализм не избег общей участи и получил печать национальности: у французов – синдикализм, у немцев – социал-демократизм, у англичан – тред-юнионизм, у русских – бунтарство… Было народническое бунтарство, а теперь, как мы узнали недавно, народилось бунтарство марксистское…
– Ленин никогда не был настоящим марксистом! – сердито возразил Скворешников.
– Да, по-моему, и над научным социализмом Маркса царит национализм: это еврейский социальный талмуд.
Скворешников поморщился и незаметно скрылся, ни с кем не простившись. Он окончательно разочаровался в Пенхержевском: не друг революции и не марксист, а самый злостный буржуй…
Плененная Пенхержевским Марья Ивановна не раскусила, как Скворешников, обворожительного человека и вернулась в свой флигель по-прежнему влюбленной. Она была удивлена и возмущена, когда Скворешников назвал Пенхержевского буржуем:
– У вас все, все, кроме вас самого, буржуи!
Слово за слово, и поругались. Скворешников закурил трубку, взял свой ручной чемоданчик с «Капиталом» Маркса, сменой белья и табаком и ушел. Не вернулся. И никто не пожалел об этом. Точно этого гостя тут и не было. Напротив, все как будто обрадовались этому исчезновению. Даже марксисты почувствовали душевное облегчение. Очень уж он надоел всем «прибавочной стоимостью» и «производственными отношениями», совершенно пренебрегая всякими иными, не исключая любовных. Всем мешал. Мешал смеяться, мешал радоваться солнцу, мешал играть в лото, в карты, в крокет, мешал пококетничать и поухаживать. Ушел, и словно гора с плеч! Ни одного доброго пожелания, ни одной грустной улыбочки не унес с собою этот блуждающий проповедник! Даже дети и собаки боялись этой фигуры с длинной трубкой в зубах! Зато сколько обидных прозвищ: «унтер Пришибеев», «дева престарелая», «очарованный странник», «чеховский хирург»…
Последнее прозвище дал Скворешникову Пенхержевский. Читали вслух чеховскую «Хирургию», много хохотали, а потом Пенхержевский и говорит:
– Вот так же расправлялся Скворешников с национальностью: У тебя что? Язык? Садись! Раз плюнуть! У тебя – религия?.. Садись! Раз плюнуть! У тебя – территория? Садись! Раз плюнуть! Берет «козью ножку», лезет в рот грязной рукой и ломает все зубы национальности. Настоящий чеховский «хирург»!
Говорят, что любимая книга вскрывает душу человека. Такой любимой книгой у Пенхержевского была «Книга великой скорби» Мицкевича. С ней он никогда не расставался. Привез ее и в Никудышевку. Это книга была для Пенхержевского как Евангелие для верующего. Однажды заговорили о партийной грызне русской интеллигенции. Пенхержевский перечитывал свою любимую книгу. Оторвался от нее и, вздохнув, сказал:
– Это наша общая славянская черта! Я как раз об этом же читаю…
Все заинтересовались книгой, но она на польском языке. В старинном кожаном переплете с золотым тиснением. Автограф. Наташа попросила жениха перевести автограф: «Дорогому любимому сыну Адаму от отца. Береги эту книгу; умирая, передай своим детям. Не забывай нас с матерью, но прежде всего свою несчастную Родину»…
Заинтересовался и Павел Николаевич. Он даже не подозревал о существовании этой книги.
– Хотите, я вам переведу одну притчу из этой книги, написанную для польской интеллигенции? У нас тоже грызлись, как теперь в России. Тема животрепещущая до сей поры…
– Да, да! Пожалуйста, Адам Брониславович!
Пенхержевский осторожно, с благоговейной почтительностью, как Евангелие, раскрыл книгу и прочитал по-русски: «Некая женщина впала в продолжительную летаргию. Сын созвал лучших врачей, но каждый из них дал свой диагноз и предлагал свой метод врачевания. Врачи спорили, и больная оставалась без помощи. Тогда сын стал умолять врачей, чтобы перестали спорить и пришли поскорее к согласию. Но те не соглашались, продолжая спорить между собой. Сын пришел в отчаяние и воскликнул:
– О несчастная мать моя!
И вот на голос страдающей любви сыновней больная женщина раскрыла очи свои и стряхнула смертный сон, воскреснув к жизни.
Есть люди в среде вашей, говорящие: пусть лучше Польша спит в неволе, чем пробудится на голос аристократии. И другие, говорящие: пусть лучше спит, нежели проснется по воле демократии! Есть и третьи, говорящие: пусть спит, лишь бы не проснулась в этих границах!
Все они – врачи, а не дети и не любят они матери, Отчизны своей. Истинно скажу вам: не доискивайтесь о том, какое будет правление в Польше! Довольно вам знать, что оно будет лучше всех бывших. И не загадывайте о границах, ибо они будут шире, чем когда-либо. Ибо каждый из вас носит в душе своей семя грядущего закона и меру будущих пределов».
Глава XI
Несколько раз Пенхержевский откладывал свой отъезд под перекрестным упрашиванием обитателей «бабушкиного штата», но вот пришла какая-то телеграмма, и жених и обворожительный гость должен был экстренно покинуть друзей и будущих родственников. Проводы были шумные, людные, с тройками, цветами, поцелуями… Накануне приехал из Симбирска тоскующий Ваня Ананькин с корзиной шампанского с целью новой попытки примирения с Зиночкой. На этот раз дело сладилось и потому устроился исключительный ужин, за которым отпраздновали сразу два радостных события: помолвку Наташи с Адамом Брониславовичем и примирение супругов Ананькиных. Гремели бокалы с шампанским, звучали поцелуи, говорились речи, устроили пляс… Всю ночь напролет пировали в барском доме. Так и не ложились. В тумане опьяненности провожали Пенхержевского, мчались целым поездом троек под музыку колокольчиков и песни, взбаламутили всю Никудышевку… А проводили – спали целые сутки, и отчий дом пребывал в таком молчании, точно исчезли все сразу его жители…
Приехал купец Ананькин с обещанным подарком для Анны Михайловны – с курским соловьем, и даже испугался: тишина и молчание! Что за оказия? Видно, случилось что-нибудь недоброе… Вспомнил давнишнее, про жандармов, и потихоньку – в людскую кухню – справиться:
– А что там, в доме-то? Благополучно?
– Пировали до утра, а теперь спят… Раньше ужина не подымутся… Есть захотят и проснутся…
– А мой Ванька здеся?
– Здеся! Вчерась со своей супругой в церкву молебствие служить ездили…
– Ну, слава Те Господи!
Яков Иванович поставил клетку и троекратно перекрестился двуперстием.
Посидел с полчасика, пить захотелось.
– Пойтить к Ларисе Петровне чайку попить… Не будить же их…
Забрал клетку с соловьем и пошел на хутор.
Точно другой мир там, за забором. Не малый барский и не великий крестьянский. Помесь двух миров и двух культур, сближенных между собою общим обоим мирам «правдоискательством» и «богоискательством» через «мужика-барина» Льва Толстого.
Тихий обнесенный высоким забором двор с усадьбой под покровом плакучих берез, крест на коньке крыши и особый ласковый и скромный уют напоминают тайную сектантскую обитель, какие строились когда-то в лесах на реке Керженце, укрывавшимися от религиозных гонений раскольниками.
Кузницы уже нет! Сплошной высокий забор, а на месте бывшей кузницы – ворота с навесом и калиточка, а в калиточке – кругленькая дырка, чтобы сперва посмотреть, кто стучит, а потом уже отпирать. Через кузницу много неприятностей выходило: шпионов подсылали и становой, и поп: становой на революционеров охотился, а поп – на еретиков. А в кузнице всегда всякий проезжий народ толчется и всякие разговоры. Мысль-то у людей вольная, язык на веревочку не привяжешь. Вот и бросили, сломали кузницу. Довольно и сапожного ремесла да земледелия. Хозяйство налажено. Живется без нужды. Есть время и «правде Божией» послужить: о путях праведных поговорить, заблудших наставить, в беде ближнему помочь, словом и делом направить. Григорий Николаевич третий год мудрое сочинение пишет: «О путях ко Граду Незримому». По-разному жизнь-то людями распоряжается. Григорий с годами все больше духовной жаждой томится, все сильнее ищет незримого. А вот Лариса Петровна плотью все ярче цветет, а Святым Духом слабеет. Привычка к Божественному прежняя, а горения-то настоящего маловато стало. Оба за пять лет изменились. Григорий бородищу отпустил, глаза глубже упали, горят, как фонари в нощи, похудел, ссутулился, голос у него погрубел, речь омужичилась, руки в мозолях – не отмоешь, а все похож на переодетого барина. А Лариса Петровна, как земля жарким летом, когда хлеба зреют, зерно наливают, тяжелый колос к земле клонят…
Она на стук Якова Ивановича калитку отпереть вышла; глазом через дырочку с глазом гостя встретилась – вздрогнул даже Яков Иванович от этого лукавого огненного глаза! Сразу бес взыграл. Дело прошлое. Яков Иванович однажды поборол Лукавого, который начал его через эту женщину к греху блудному в помыслах склонять. Измором тогда грех вытравил: целый год от встреч с этой женщиной уклонялся. Отошел от зла и сотворил благо. Успокоился. Думал – начисто, безвозвратно победил, а вот как отворилась калитка да предстало это зло в наряде праздничном, так сразу блудомыслие зашевелилось. Поздоровались: рука у нее горячая, мягкая, выпустить неохота. И хорошо помнит старое, что большое беспокойство этому степенному человеку сделала.
– Уж какими ветрами тебя, купец, к нам занесло? Два года не бывал…
– Попутным ветром, Лариса Петровна! Эх, как ты раздобрела от святости-то!
– А что сделаешь? И пощуся, и работаю до устали, природа, видно, такая… Не тебе бы только попрекать меня: у самого брюхо-то в два обхвата!
– А ты бы смерила: может, и в один обхват окажется…
Вот и словоблудие сразу! Спросила, что за птица в клетке и для какой надобности:
– Соловей-птица. Волшебная. Пойду к ночи в лес, повешу на дерево, она запоет и милую приманит… Хочу попытать, как с тобой выйдет…
– Не надейся! Зря прождешь.
Улыбочка на красных губах, смех в глазах искрится. Привела в комнату Григория, попросила тут посидеть, а сама вышла. Где-то люди говорят. Видно, гости. Огляделся Яков Иванович, потом любопытствовать стал: не то мужик, не то барин квартирует – по стенам лавки, как в мужицкой избе, а на стене господские картины, в одном углу – вроде как сапожник, в другом – лопаты, кирки, скребки; на вешалке мужицкий кафтан, а рядом спинжак господский. Под лавкой – лапти и башмаки господские рядышком; у стола – барское кресло, а на столе – как в чулане: чего только нет! И семена огородные, и часы в починке, и банка какая-то вроде как для электричества, как при звонках ставятся, стекло увеличительное, книги, бумаги. Все вперемешку. Видно, что человек ученый живет. И опять же – эта самая фисгармония. Потыкал пальцем – не играет. Не такой, значит, механизм, как у них в симбирском доме – рояль. Пришел Григорий Николаевич. Поздоровались. То да се. Где-то люди разговаривают, а туда не зовут. Лариса Петровна на подносе стакан чаю со всеми припасами подала. Стеснение какое-то в обоих. Видно, что не вовремя пришел. Незваный гость хуже татарина. Опять про соловья заговорили, подарочек старой барыне по случаю примирения Ваньки с супругой.
– Что же, худой мир лучше доброй ссоры, – пропела Лариса Петровна. – А слыхали: Наталия Павловна у нас просватана? Осенью свадьбу играть будем…
– Хорошо это вышло: прямо ко дню ангела. Ванька-то мой скоро именинник!
– А мы нонче под Иванов-то день на Светлояр пойдем. Надо у Града Незримого Китежа побывать. Бывал ли ты, Яков Иваныч, когда там?
– Лет десять не бывал… А раньше каждогодно… В хлопотах и заботах где уж за Незримым угонишься, – вздохнувши, произнес Яков Иванович.
– И эту святыню попы к рукам прибрали, сказывают… В прошлом году водосвятие сделали церковники и свою часовню там поставили: свое проповедовать на Светлояре будут – словесную брань от церковного правительства, стало быть… Григорий Миколаич поратоборствовать собирается… А я говорю – лучше не связываться: им становые да урядники помогают.
– Так, так, так…
Лариса говорит, а Григорий молчит. Допил стакан чаю. Часы с кукушкой пробили. Яков Иванович опрокинул вверх дном допитый стакан, погладил бороду и:
– Благодарствую!
– Что уж это, выкушайте еще стаканчик!
– Много доволен! Поспешать надо…
Простился, забрал соловья и ушел… Лариса Петровна за ним калитку заперла.
Яков Иванович действительно пришел не вовремя. Пётр Трофимович Лугачёв с Еруслана не один приехал. Гостя редкого привез. Друга всех сектантов, ученого человека и революционера Владимира Дмитриевича, по фамилии Вронч-Вруевич, старого своего приятеля, который Ларису еще девушкой знал и которой когда-то очень понравился. Гость из таких, которых спокойнее посторонним людям не показывать, потому что у властей, у полиции и жандармов – на счету, как и хозяева хутора. Вот почему Яков Иванович и не встретил на сей раз обычной приветливости и гостеприимства со стороны Григория Николаевича с Ларисой. У них – «свои дела»…
Как видите, каждый никудышевский штат нынче был осчастливлен знаменитым и редким гостем: бабушкин штат – Пенхержевским, акушеркин штат – товарищем Крупской, Ларисин штат – Врончем, тоже «товарищем»…
И этот последний гость стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе. Молодой еще, рослый, крепко сколоченный блондин с рыжетцой, круглолицый, в очках, с вкрадчивым тенором, картавит по-аристократически. Из обрусевшего литовского рода. Когда-то народоволец, променявший свою веру на новую, марксистскую. Еще во времена народнические он узрел в нашем сектантстве значительную оппозиционную правительству силу, которую и решил использовать для грядущей революции. А вышло так, что не Вронч – сектантство, а сектантство Вронча использовало. Своеобразный и многообразный мир правдоискателей и богостроителей русского народа увлек революционера на путь научного исследования, и он написал несколько книг о сектантстве, получивших признание со стороны специалистов. Вронча стали приглашать в качестве научного эксперта на судебные процессы по борьбе с еретиками, зловредными для государственности, а так как Вронч, как революционер, всегда старался давать отзывы, благоприятные для обвиняемых, то его имя скоро сделалось популярным в среде сектантов, а это ему дало множество друзей и связей в сектантском мире. Из Вронча образовался «друг сектантства и революции»… Когда Вронч понял, что при старой народнической вере останешься за бортом революционного корабля, он, революционный карьерист, принял новую марксистскую веру. Пока жрецами ее оставались правоверные экономисты, они не только не ценили заслуг новообращенного, а подсмеивались над Врончем. Ведь народнический опыте хождением в сектанты потерпел крах, а главное, что новая вера совершенно упразднила всех богов, а потому и всяких богоискателей и богостроителей. «Глуповатый фантазер!» Но сметливый Ленин понял, что Вронч-Вруевич может быть очень полезен: если невозможно из многомиллионного сектантства сделать безбожников, то ими можно воспользоваться как силой, враждебной государственной церкви, именуемой сектантами «Блудницей Вавилонской», а власть царей – «властью Антихриста». Ленин говорил: «Самодержавие так тесно слито с православием, что, разрушая последнее, разрушаешь и самодержавие, а потому, товарищ Вронч, продолжайте свое дело». Вронч начал молиться на Ленина, лакействовать перед ним…
– С Богом воевать у нас преждевременно и опасно до захвата власти. Можно воевать только косвенным путем: с попами и православием… – поучал Ленин.
Вронч ручался, что сектантство пойдет за партией:
– Они ищут правды не только на небе, а и на земле… Вот вам и основание для смычки! Погодите, Владимир Ильич, они своим Христом вас объявят. Осторожненько только надо… Пусть думают, что мы с Блудницей Вавилонской сражаемся…
Надо сказать правду: этот елейный революционер не внушал особого доверия Ильичу – корыстен и жуликоват. Но Ильич смотрел на дело очень прозаично: каждого жулика можно в дело употребить, иногда даже с большим успехом, чем рыцаря чести.
– Организуйте ненависть к православию и попам!
И вот Вронч-Вруевич разъезжал по сектантским гнездам, вел дружеские беседы с вожаками и начетчиками антигосударственных сект. Тут он был неразборчив: даже скопцы и бегуны пригодятся!
Так через «правдоискательство» строился мост между народом и революционной интеллигенцией, а правительство своими гонениями на сектантов помогало строить этот мост.
Мягенький, добренький, елейный Вронч был подлинным волком в овечьей шкуре в стане правдоискателей русского народа…
В уютном, залитом солнышком зальце с геранью, занавесочками, с портретом протопопа Аввакума вместо образа пыхтит светло начищенный самовар. Лариса Петровна хозяйничает, дорогого гостя угощает и румянцами вспыхивает: старое вспомнилось, девичье. Пётр Трофимович Лугачёв дружески гостя по спине похлопывает. Григорий Николаевич с мужичком каким-то спорит о том, как толковать заповедь «Не убий». Можно ли воевать по приказу царя? Тут же акушерка, Марья Ивановна, все к Врончу жмется: старые знакомые, когда-то Вронч за ней ухаживал между делами революционными. Паренек деревенский сидит и почтительно слушает разговор Вронча с Петром Трофимовичем…
Странное на первый взгляд содружество!
Но ведь все стоят за бедных против богатых, все не признают православной церкви, все согласны, что нет на Руси правды, что этой правде не дают дохнуть становые, земские начальники, жандармы. Всех одинаково преследуют власти предержащие…
Складно поет Вронч медоречивый:
– Царская власть служит только богачам. Царь – первый барин и помещик. И вместе с попами вашу веру гонит, ваше христолюбивое воинство…
– Христовым воинством мы себя называем!
– Вот, вот!.. Христово воинство. Потому благодать Духа Свята не с православной церковью и попами, а с нами…
– Именно!
Пётр Трофимович проповедует «Христову коммуну» – общность имущества в своих сектантских кораблях, о «Христовом воинстве» говорит как о части человечества, стремящейся жить по заветам Евангелия, а Вронч подсовывает коммуну социалистическую и революционное воинство. Остается только «Единое стадо людей» подменить «единым классом», а «Единого Пастыря» – Лениным. Вронч, однако, избегал слова «социализм», а Ленина называл «Мессией правды Божией».
Потом Вронч попросил Ларису спеть любимую им духовную песню. Она покуражилась маленько, но после упрашиваний гостя и приказа отцовского сложила руки на животе и затянула, а Вронч и Пётр Трофимович стали подтягивать:
Трубите в трубы на Сионе святом!
Бейте тревогу по лицу всей земли!
Все готовьтесь: грядет Божий День.
Становитеся, люди, в ряды Божьих войск!
Духа мудрости приймите.
Ветхий разум обновите,
По стезе Правды ходите –
Грядет Божий День!
Заря Правды загорелася, пробуждается народ:
От Востока к людям Божьим муж Правды идет.
Муж тот, сильный и кроткий, возрожден во Христе,
Восстает Солнце Правды, озаряет бездны везде!
Сектанты, восторженно поющие свой гимн, разумеют под «Мужем Правды» ожидаемого ими духовного Водителя народа. Вронч начинает рассказывать про Ленина…
Подарочек он привез. Подарил Ларисе портрет протопопа Аввакума с напечатанными внизу выдержками из речей этого духоборца, первого борца с Вавилонской блудницей и Антихристом, завоевавшим Русь. Вот что было написано под портретом:
В коих правилах писано царю церковью владеть? От века несть слыхано, кто бы себя велел в лицо святым звать, разве Навуходоносор Вавилонский: Бог есмь Аз! Кто мне равен? Разве царь Небесный! За то и досталось ему, безумному: седмь лет быком проходил. Так-то и ныне близко тому. Ах ты, миленький, посмотри-тко за пазуху, царь христианский!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.