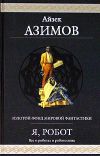Текст книги "Закон сохранения любви"

Автор книги: Евгений Шишкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Часть третья
1
Каждый год в середине августа Валентину осаждали приятные заботы – готовить старшую дочь к школе. Учебниками, книжками, контурными географическими картами заведовал Сан Саныч, это ему по профессии полагалось. Всем остальным: школьная форма, бантики, туфельки, цветные карандаши – занималась Валентина. В этом году предшкольной хлопотни много выросло: сыновья-близняшки тоже собирались в первый раз – в первый класс.
Сегодня Валентина повесила в шифоньер два одинаковых школьных костюмчика, которые рискованно купила с машины, на ярмарке, – без примерки, на глазок. Костюмчики, на радость, сыновьям оказались впору, с белыми рубашонками – просто на загляденье: парнишки – будто с картинки. Весь вечер Валентина провела в приподнятом духе. С легким сердцем и с легкой руки переделала кучу домашних дел. Хотя разве их все переделаешь, с тремя-то подрастающими детьми!
В доме стояла благостная тишина. Телевизор уже отгремел, отплескал чепухой. Дети уже улеглись – поздний час. Валентина заканчивала штопку «пятки» на колготках дочери. Сидела в расслабленности и мурлыкала песню. Она ведь когда-то в школьном хоре пела: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед…» Сестра Марина в рисовальный кружок ходила, «в танцы» бегала, а она – полюбила хором петь. Как грянут, бывало, сорок голосов: «Гайдар шагает впереди!» – так мурашки по спине.
Вдруг ровные мысли Валентины слегка всполошились. Куда ж Сан Саныч запропастился? Спать бы пора. Чего по двору лазит? Она прислушалась: легкое ширканье пилы доносилось из мастерской, которая была в пристрое к сеням. Точить чего-то к ночи надумал? Дня, что ли, не хватит? Ему завтра не на дежурство.
В мастерской Валентина застала мужа за разрушительным занятием. Ножовкой по металлу он распиливал пополам медную трубку-змеевик, служившую главным элементом самогонного аппарата. Рядом, у верстака с тисками, лежал покореженный, с глубокой вмятиной и без горловины, жестяной бак, в который заливалась брага для изготовления самопальной горилки.
– Ты чего? – щурясь на свет электрической лампы, спросила Валентина с опаской. – Какое-никакое, а считай, добро.
– Не добро это, – буркнул Сан Саныч. Оставил свое занятие, сел на чурбан. – Я сегодня, Валь, в роно ходил.
– В роно? – своим ушам не верила Валентина. Внутри у нее что-то радостно защемило, даже появилась перхота в горле, будто хочется сладко-сладко чихнуть.
– В школу я возвращаюсь. Опять – директором. В школе – одни бабы. Совсем без мужиков школа по уму существовать не может, не должна. Начальство сразу согласилось: выходи работать. – Сан Саныч говорил стыдливо, словно бы предавал заявленные прежде принципы. Все понимали, что эти принципы «невозвращения в образование» были взбалмошны, бунтарски-горячны, но и от них отказаться стоило сил. – Бесовщина в России может долго продлиться. Татарское иго двести лет жилы тянуло… Мне одна жизнь отмеряна. За год-другой всю демократию не пересидишь. Детей жалко! Они ж не виноваты, что их отцы так бездарно страной распорядились. Теперь нужно в кулак собраться, протрезветь от угара.
Он говорил оправдательным тоном, говорил простые, заведомые истины, но в душе Валентина ликовала. Примостившись у дверного косяка, она притихла и не смела прерывать мужа. Сколько мысленных уговоров она уже послала ему, чтоб возвращался в школу! Что ж это такое: учитель, директор школы, стал охранником, чужие машины стеречь? Пора выздоравливать! Хватит жулью подчиняться! Стоит шаг сделать, а там, считай, и другие потянутся. Не всем же тряпки по стране возить, на рынках перепродавать. Надо кому-то детей учить уму-разуму, их руки к труду готовить. Народ-то кругом простой, доверчивый. Он видит, что образованный человек скурвился, значит всякому такое позволено. На кого ж равняться-то, ежели директор школы самогонку принялся гнать? И уж соседи-алкаши прознали, повадились по ночам шастать: нельзя ль купить?
Сан Саныч, пряча от жены глаза, рассказывал о том, что за год его отлучки в школе краше не стало, что надо будет в первую очередь доделать ремонт в классах, и главное – кровля, ведь с того памятного весеннего урагана и ливней, так и течет… Валентина слушала его по-прежнему чутко.
В сенях колокольцем брякнул звонок. Кто-то на крыльце давил кнопку, заявлял о позднем визите. Сан Саныч и Валентина переглянулись. «Неужель накаркала? – испугалась Валентина. – Токо подумала – и какой-нибудь ханыга нарисовался. Ну, счас я его отчихвостю!»
– Сама открою. Ты оставайся. Делай дело-то, – сказала Валентина и, настроенная на ругачку с местным пропойцем, подалась в сени.
– Кто там? – резко выкрикнула она в дверь.
– Это я, теть Валь. Лена Кондратова.
Щеколда – в сторону. Дверь отворилась. Свет из сеней оплеснул желтым столпом худенькую племянницу, со вспотевшим раскрасневшимся лицом – видать, от быстрого хода. Глаза встревоженные, большие.
– Папы нет у вас? Нету?.. И не было?.. Я его ищу. Он еще вчера ушел. Маму избил и сам ушел. Мама сегодня целый день проревела. А папа совсем не появился. Поругались они сильно… Я, теть Валь, к вам. Мама мне сказала, чтоб я ничего никому не говорила. Но она сейчас уснула. А я – к вам. Надо папу все равно найти. Вы не знаете, где он может быть?
Валентина пристально смотрела на Ленку. С ее слов она как-то разом ощутила тяготу разлада в семейной жизни младшей сестры. Когда в сенях появился Сан Саныч и спросил:
– Чего стряслось-то?
Валентина задумчиво прошептала:
– Под каждой крышей – своё «Ой!»
* * *
Домой Ленка вернулась в сопровождении Валентины. За ночные путешествия досталось ей от матери по первое число.
– Ты ж недавно болела. Подыхала ведь! Я ночи не спала! Тебе мало? Тебе мало было? – выкрикивала Марина. – Куда ты поплелась? Кто тебя просил? Кто?
– Я записку оставила, – оправдывалась Ленка. – На самый вид положила. «Скоро приду».
– Записку? – на взвинченной ноте набросилась Марина, вытащила из кармана халата сложенный лист бумаги и порвала его в клочья. – Вот твоя писулька! Записку она, видишь ли, оставила… Я с ума схожу. Ночь. А она – поплелась! Сведете вы меня в могилу! Вот тебе за записку! – Не жгуче, всего лишь сухим кухонным полотенцем, Марина хлестанула несколько раз Ленку по заднице.
Ленка матери больше ни словечка впоперек, ни звука в защиту. Своего она добилась: заманила, привела в дом рассудительную тетю Валю. Тетя Валя разберется во всем, на всех найдет управу. Маму успокоит, чего-нибудь насоветует, папу – разыщет. Чтобы не распалять мать дальше, не нарываться на ее словесные наскоки и не получать ошлеин, пусть и безбольных, Ленка скрылась у себя в комнате. Здесь она в два счета разделась и юркнула под одеяло: спящую хлестать и ругать – нечестно, лежачего не бьют.
В комнату иногда доносились звуки голосов, но дом, весь дом, казалось, облегченно притих. У Ленки, которая недавно отхворала, было ощущение, что повсюду в доме спала температура, как спадает она у больного после приема жаропонижающих таблеток.
Две сестры, Марина и Валентина, сидели на кухне, затворясь наглухо дверью, вели непростой разговор.
Обстоятельства приперли Марину к стенке: пришлось во всем сознаваться сестре. Валентина ей, понятное дело, не прокурор – кровная родня, воспитательница заместо матери, но рассказывать ей всё, без уверток, было стыдней, чем перед какой-нибудь наперсницей.
– Да, да, да! Я обыкновенная, слабая женщина! – сквозь слезы, истеричным оборонительным голосом выкрикивала Марина, когда карты открылись. – Ветреная, если хочешь. Способная влюбиться, способная ошибиться. Да! Я сентиментальная. Я чувственная женщина! Я не машина, не деревяшка…
– Ну и чего ты орешь тогда? И нечего реветь и на меня наскакивать. Гордись и не реви! – парировала Валентина какие-то слышимые в голосе сестры упреки. – Ишь ты! Она у нас чувственная, влюбчивая женщина! А я с тремя ребенками, верная мужу, баба-дура?
Шумливый разговор то враз разгорался, будто в костер кидали сухой соломы, то скоро притухал, точно на тот же костер выплескивали ведро воды.
Марина утерла платком хлюпающий нос. Валентина громко вздохнула:
– Сунула я тебе эту проклятую путевку. Сколь раз пожалела! Но с другой стороны поглядеть: свинья везде грязи-то найдет.
Марина молчала, не отозвалась на оскорбительность сестриной пословицы.
– Да-а, – опять вздохнула Валентина. – Морду-то он тебе славно разукрасил. Неделю-то уж верняком не сойдет.
Марина встрепенулась, вероятно, хотела, окрыситься на сестру за «морду». Но вспышка гнева случилась только во взгляде. Опять утерла нос. Валентина жалостливо смотрела на нее: под обоими глазами у Марины – фиолетово-синё, одна щека припухла, верхнюю губу сбоку разнесло, так что при разговоре рот перекашивает.
– Тебе надо административный отпуск просить. Или со знакомой врачихой договориться, чтоб больничный состряпала. На люди с такой физией токо покажись. В лицо не скажут, а за глаза всяко осрамят.
За окном уже чернела полночь. Почему-то стало понятно, что Сергей в ближайшее время не переступит порог дома.
2
Местные жители считали, что хозяйка дома на окраине старого города, старуха годов восьмидесяти пяти, потонула на своей кровати в злополучные весенние ливни – якобы потоп залил горницу до высоты набалдашников кроватной спинки и с головой поглотил в шалой дождевой пучине одинокого человека. На самом деле старуха не утонула, она померла от немощи, еще в ночь до потопа. Просто вспомнили о ней и навестили ее дом спустя ураганные дни.
Близких родственников у старухи давным-давно не было, дальние – внучатый племянник из Нижнего Новгорода – на наследное хозяйство махнул рукой: дом накренился после ливней, маленький сад давно не плодоносил, огород порос лебедой, – словом, родственник обещался приехать на годины: «Чай, тогда и придумаю чего-нибудь. Хоть на дрова продам». Посему нынче дом облюбовали люди бездомные, разными путями оказавшиеся под открытым небом, которое – в этом они были единодушны и уверены – никто и никогда не сможет приватизировать и затмить в нем солнце своей алчностью.
Бродяга бродяге, впрочем, рознь, и здесь, в оккупированном старухином доме, выстроился свой уклад. Одну комнату с печью и маленькую кухоньку заняла, будто по законному ордеру, бывшая фрезеровщица Лиза со своим сыном Юркой; никто и не смел оспаривать преимущественное положение этой семьи, оказавшейся на улице. В другой комнате появлялся люд постоялый, временно чередующийся, как валеты и дамы в тасуемой колоде игральных карт.
Освободившиеся заключенные – и мужики, и бабы из ближней колонии, которым некуда было податься, и они подавались здесь в первый загул на свободе; чумазые малолетние беспризорники, оборвыши-беглецы из детдомов и приютов, согласные украсть и продать всё и вся, включая собственное тело; деревенская баба со стариком отцом с орденскими планками на засусоленном пиджаке, из какой-то глухой деревни, которую лесной пожар спалил вместе с тайгой, баба приехала вымаливать вспоможение у начальства да и примостилась навременно с отцом в здешней халупе, вроде бы до холодов или до получения начальственной милостыни; прикатывал сюда на велосипеде на ночлег и для времяпрепровождения мужчина в толстых очках на резинке, с грязным рюкзаком за плечами, с длинными черными сальными волосами и козлиной бородкой, похожий на постарелого хиппи; частенько наведывался и плотно прикипал к Лизе средних лет мужик, по кличке Моряк, вечно в тельняшке и с широким ремнем, на бляхе которого – морской якорь; волочился здесь, бывало, в сенцах худосочный, как жердь, весь блеклый и вялый парень с большими очумелыми глазами нюхача; его всё пыталась выловить мать и забрать домой, но он прятался от нее в репейнике, на краю одичалого огорода.
– Эх, велика страна Россия! – часто восклицал Моряк, слушая замысловатые и простецкие истории жизни появляющихся здесь, у этого вольного обиталища, людей.
Утром, гонимая голодом и жаждой опохмелки, вся, как правило, с вечера веселая здешняя публика разбредалась; опухлые и изодранные бичи и скитальцы шли на какую-то своеобычную работу. Кто-то возвращался сюда с нехитрой добычей, кто-то уходил навсегда, словно бы отправлялся в небытие, из которого выпал на время…
– О-он… На-а за-а-аводе рабо-отал. Инже-ене-ером. В на-а-ашем цехе. Хо-ороший па-а-арень, – рассказывала Лиза, устроившись на покосившемся крыльце с вязаньем в руках, – рассказывала сидевшему поблизости на корточках Моряку.
Моряк шерудил деревянной кочергой в костре, где пеклась картошка. Свежей картошечкой он разжился только что – накопал на колхозном поле. Костер горел поблизости от крыльца, в палисаднике.
– Все инженеры – люди путёвые. Они в институтах учились. Я когда-то тоже пробовал в институт поступать, – давясь дымом, отвечал Моряк. – Пусть живет.
– О-он четве-ертый день з-здесь. Ви-идать, за-апил. Жена-а из-з до-ома выгна-ала.
– Умный проспится, дурак – никогда, – сказал Моряк.
– Трясет его сильно, – вмешался в разговор Юрка, который тоже вертелся у костра, поджаривал на огне корочку черного хлеба, надетую на вичку.
– Бо-о-олеет… С по-охмелья. О-они вче-ера пи-ли «Т-трою». Во-он пузырьки ва-аляются.
– Не-е, они позавчера «Трою» пили. Вчера – «Фитоаромат», – уточнил Юрка.
– «Фитоаромат» – дрянь, хуже «Тройного» одеколона. «Троя» – тоже дрянь, с нее всегда колдобит, – сказал Моряк с чувством многоопытного питока. – «Боярышник» в сто раз вкусней! – Он причмокнул. – Юрка, подай-ка мне котомку.
Моряк порылся у себя в большой парусиновой сумке. Среди пластиковых пакетов и бутылок выудил пузырек из темного стекла с розоватой этикеткой.
– Отнеси ему, пусть похмелится. Худо с утра без опохмела, – сказал Моряк, протягивая пузырек Юрке.
– «Настойка боярышника», – вслух прочитал Юрка на этикетке. – Ему от этого хужее не будет?
– Не будет. Ты смолоду заруби: всё, что продают в аптеках, в пузырьках, пить позволяется. Вот ежели в хозтоварах «химия» – ее лучше не пробовать.
– По-огляди, е-если спит – не бу-уди-и его, – наказала сыну Лиза и подала красное яблоко. – Н-на, а-анис. Со-очное, за-акусит.
В эти минуты Сергей Кондратов не спал. Он лежал неподвижно, с закрытыми глазами на испревшем и вонючем матрасе на железной кровати возле распахнутого в палисадник окна. В изголовье у него сплющилась набитая сеном подушка, сверху его покрывала вдрызг изношенная доха, от которой отступилась даже моль. Он всё слышал, что говорили на улице у костра. Он отчетливо и обостренно слышал не только голоса, но и всё вокруг: чей-то храп у стены на полу, жужжание мух под потолком, шелест листьев на рябине за окном, даже глухое чаканье вязальных спиц Лизы. Истрепанный запоем, Сергей сейчас весь дрожал в лихоманке мелкой дрожью, а все органы чувств у него напряглись, стали словно обнаженные нервы, особенно – слух. Остро и пугливо Сергей воспринимал окружающие звуки. Во всех человеческих голосах он ждал какой-то угрозы, вслушивался в них. Но и болезненное восприятие звуков, и похмельная лихорадка, и голод были ничтожны, когда вдруг в темных, искривленных алкоголем лабиринтах сознания он натыкался голым сердцем на воспоминания о Марине. Они как шипы пронзали его насквозь… Хотелось кричать, словно и впрямь живые люди резали по живому. Хотелось куда-то бежать, от всех спрятаться или со всеми драться, в кровь, насмерть, до последнего вздоха, чтобы потом умереть, исчезнуть, враз избавиться от всего: от Марины, от себя, от голосов, от навязчивых, непрекращающихся звуков.
Как только Сергей услышал, что Юрка направился с улицы к нему, сразу открыл глаза. Перед собой он увидел грязный, закопченный бок большой русской печи, некогда белёной; поблизости, на полу вдоль стены, на разложенных картонных коробках, спали в обнимку мужчина и женщина, прикрытые ватным одеялом с черными обгорелыми островами. Одеяло было детское, маломерное, из-под одеяла, с краю, виднелись пара женских ног с синеватыми вздутыми венами и маленькими грязными ступнями и голые мужские волосатые ноги; на чашечках коленей синели татуированные звезды. Сергей сильнее почувствовал дрожь, словно сильнее леденило внутренности ознобом. Однако холодно в избе не было – дрожь подстегнули брезгливые обрывки воспоминаний. Вчера мужик со звездами на коленях принес какого-то спирта, отдающего резиной, его разводили зеленым тархуном из большой пластиковой тубы, а на закуску пошла жаренная на костре «дичь» – голуби. Потом женщина, его подруга, раздобыла какие-то пузырьки с ароматной жидкостью…
– Дядь! – негромко позвал Юрка.
Сергей перевел взгляд на пришедшего мальчишку.
– Ты выпей. Говорят, помогает. Мамка вот закуску послала. – Юрка засунул яблоко под мышку, потер о свою куртку и протянул его вслед за пузырьком. – Давай, дядь, я сам открою. У тебя руки сильно трясутся – разольешь. А выпьешь – трясун-то и пройдет, – приговаривал Юрка, сворачивая винтовую пробку с лекарственной настойки. – Моряк сказал: из аптеки, можно пить.
Сергей откинул с себя доху, опустил вниз ноги в ботинках, сел на кровати, глубоко провалясь к полу задом на растянутой железной сетке. Пиджак на нем оказался с чужого плеча; рубашка и брюки – свои, а пиджак чей-то неведомый, маловат, из рукавов далеко высунулись залоснелые обшлага.
– Из горлышка будешь, дядь, или стакан найти?
Вместо ответа Сергей обеими трясущимися руками потянулся к пузырьку, взял его и сразу поднес ко рту. Дрожащими губами он обхватил маленькое круглое горлышко пузырька и запрокинул голову. Горечью спирта с кисловатым ягодным уксусом обожгло язык и горло. Жгучая горечь все же приятна, вселяла предчувствие будущего тепла и расслабленности. Он с жадностью глотал из тесного отверстия ядучую, с крепким градусом настойку. Вдруг поперхнулся, закашлялся, чуть не выронил пузырек.
Пузырек вовремя успел подхватить Юрка.
– Тут еще, дядь, чуть-чуть осталось. – Он посмотрел на пузырек на просвет: – Чего добру пропадать! Я сам… – И сам лихо, в один глоток, допил остатки. Тут же хрустнул, закусывая, анисовым яблоком.
Сергей от яблока отказался, на закуску попросил осипшим голосом закурить. Юрка оглянулся по сторонам, прислушался. Воровски вытащил из кармана куртки пачку «Мальборо»:
– Мамка ругается, что курю. Ты не выдавай меня, дядь. – Юрка открыл пачку, выбрал оттуда самый большой чинарь, вытащил зажигалку. Прикурив окурок от зажигалки, раскочегарил его, усиленно зобая и демонстрируя, что умеет курить взатяжку, наконец протянул Сергею. – Окурок, дядь, потуши или в окно выбрось. Эти вон вчера как… Чуть не сгорели. – Он указал на пожженное ватное одеяло, под которым на полу спала парочка: мужик со звездами на коленях и баба с грязными пятками.
– Чего сейчас? – спросил Сергей. – Много времени?
– Еще до полудня не дошло. Можешь, дядь, еще спать. Мамка сказала, тебе не на работу, завод распустили…
Дрожь в теле Сергея плавно утихала, во все члены пробивалось смягчительное алкогольное тепло, табачный яд тоже сладко дурманил.
В простенке, наискосок от Сергея, висели цветные журнальные вырезки полунагих размалеванных девок и православный календарь с шафрановыми луковками куполов какого-то храма. В этом же простенке – два фотопортрета коммунистических вождей: Сталин в традиционном кителе, с трубкой в руке, и Ленин, согбенный над столом с листами рукописи. На портрете Ленина, прямо на его лбу, резало взгляд короткое матерное слово, наверное, написанное проказливой рукой беспризорника.
Вот оно как: портрет Ульянова попортили, а Джугашвили чист, побоялись, небось… Сергей сожалеюще глядел на фотографию Владимира Ильича. Зря испакостили дедушку Ленина. Этот человек нес высокую идею. Земля – крестьянам, заводы – рабочим! Что дурного в таком замысле? Теперь Ленина предали, дело его погубили. Каждого, кто посмеет желать равенства на земле, обязательно предадут. Вот и Христа предали, он тоже за равенство ратовал… А Ленин-то Христа не предавал, он просто его ученью не верил. Как же так, ученье Христово уж две тысячи лет существует, а равенства для людей нет? Не послали им сверху равенства… Ленин сам решил о человеке позаботиться, свернул башку эксплуататорам, научил народ, как от угнетенья отряхнуться. Спасибо дедушке Ленину за урок…
Спиртовая настойка действовала – Сергей пьянел, предаваясь хлипким, жалостливым мыслям. Портрет Сталина, однако, в нем никакой жалости и снисходительной пьяной простительности не вызывал.
Ленин с классовыми врагами боролся, буржуев выкашивал. А этот усатый деспот работных крестьян – в кандалы, пролетариев – в страх, соратников – в тюрьмы, преданных псов партии – и тех туда же… Хуже зверя правил. Страхом, как чумой, всех перезаразил. А на страхе ничего прочного не построить. Без желания, без души – всё поржавеет и рухнет. Так и вышло. Всё обвалилось… Коллективизация, тюрьмы, тридцать миллионов – плата за Победу. После Победы и то народ в тюрьмах гноил. Вот она власть грузинского изувера. Ни добра, ни любви. Даже от своего кровного сына отказался. В Бога не веровал. Церкви рушил. А что же человек стоит в России без Бога да без любви?
И вдруг сердце, которое сейчас было обманно усыплено спиртом, притихшее и готовое не всё в истории простить, но хотя бы всё принять, словно взорвалось, разлетелось в груди на части. От боли, от отчаяния в глазах – темно. Всё внутри трепещет от взрывной волны, а по обломкам сознания гадюкой стелются мысли про измену Марины.
Сергей закрыл глаза, долго сидел в остамелости. Позднее тронул его окликом Юрка:
– Дядь! Картохи печеные будешь? Соль и хлеб есть. Мамка завтракать зовет.
На улицу к костру, сладкий дым которого приносил в дом плутающий в ветвях рябины ветер, Сергей так и не выбрался. Новая волна опьянения – всё ж настойка крепка для истощенного организма – убаюкала Сергея, вновь принесла утешное беспамятство, умыкнула в сон.
* * *
Кто-то больно ткнул в бок. Сергей конвульсивно дернулся всем телом, очнулся.
– Ты кто? Документы есть? – спрашивали грубо и властно.
Перед ним стояли двое в милицейской форме. Один из них – с автоматом в руках, этот и ткнул Сергея дулом в подреберье. В дверях комнаты теснились Лиза и Моряк, меж ними совал голову Юрка.
– Он бо-оле-еет, – торопясь, а потому еще более растягивая слова, вымолвила Лиза.
– Документы, спрашиваю! – напирал один из милиционеров.
– Он в самом деле здешний. Отлеживается, подгулял маленько, – вступился Моряк.
Ему в подмогу зазвучал и детский голос:
– Он вместе с мамкой инженером на заводе работал. Институт кончил, он воровать не умеет.
– Да? Инженер воровать не умеет? – язвительно спросил милиционер с автоматом и зачем-то опять ткнул Сергея в бок. – На грабителя он в самом деле не похож. Откуда ты? Адрес свой помнишь?
– Оставь этого доходягу. С ним только время терять, – сказал другой милиционер. – Вот эти субчики – наши. Гляди, наколки зоновские.
Сергей не испытывал перед милиционерами страха, его просто опять начинало похмельно трясти, и хотелось спрятаться ото всех, даже от добродушного Юрки. Лишь только стражи порядка от него отступились и принялись разбираться с теми, кто спал на полу, Сергей укрылся с головой дерюжистой, пропрелой дохой.
Всё равно звуки оказались просеченно слышны: и скрип половиц, и возня на полу, и голоса.
– …Начальник, ты мне фуфло не гони. Я киоск не подламывал.
– Руки покажи! Вены!
– Да на, смотри! Я, в натуре, не ширяюсь!
– А эту шалаву где подцепил?
– Сами вы шалавы, менты поганые!
– На вокзале, начальник. Вокзальная она.
– Сам ты вокзальная, хренов папа!
– А-а, я тебя вспомнил. Это ты вместо баранины собаку продала.
– Хо-хо! Целых четыре кило! Жирная дворняжка была! Зажрались! Собачатину за мясо не считают!
– Заткнись! А тебе за киоск придется посидеть.
– Мало погулял. По документам: месяц назад из зоны откинулся.
– Ты меня на понт, начальник, не бери. Я вообще здесь проездом.
– Все вы здесь на свободе проездом…
– Поехали с нами оба! Штаны только наденьте!
Когда милицейский наряд и гастролер с вокзальной подругой отчалили по родному для тех и других адресу, Сергей поднялся со своей пахучей лежанки. На грязные половицы, просочившись меж рябиновых ветвей, падал луч солнца; в столпе света роилась густая пыльная взвесь. От вида этой пыли Сергею стало трудно дышать, ему почудилось, что еще недолго – и он может задохнуться здесь. Он быстро вышел на улицу, на крыльцо. В мозгу толкалась слепая, безвыходная мысль: надо бежать, бежать отсюда, больше здесь нельзя оставаться, здесь или его убьют, или он кого-то убьет с отчаяния. Но вокруг всё было мирно, много чистого воздуха, доброго солнечного света, и Сергей растерялся, утратил настрой побега и не знал, куда двинуться дальше.
– Ка-артошка оста-алась. По-окушай, – предложила доброжелательная Лиза, по-прежнему занятая вязанием на спицах.
– Не-е, не хочу. Не надо, – залепетал Сергей, оборачиваясь к ней.
Увидев Юрку, он кивнул ему и двумя пальцами показал: нет ли закурить?
– Нету, дядь. Уже кончилось, – по секрету отшептал ему Юрка.
Моряк, сидевший на траве и зашивающий длинной иглой свою котомку, заметил их жесты, посоветовал Сергею:
– Вдоль дороги походи. Там курево попадается. У мужиков стрельни. Или бутылок подсобери на остановке. Сейчас еще лето – самый урожай на пушнину, – широко улыбнулся Моряк, ласкательно назвав порожнюю тару теплым жаргонным словом «пушнина». – Чего? Водицы хочешь попить? Ступай к колодцу, там и напьешься.
За домом находился под щелястым навесом колодец. На его срубе стояло погнутое яйцеобразное ведро, цепью связанное с колодезным барабаном. Ведро оказалось вполовину наполненным водой. Сергей склонился над ним, приложил к нему руки, чтобы поднять. Вдруг замер. Он увидел свое отражение в воде – и замер. Он сперва не поверил своим глазам – он себя не узнал! Лохмы на голове вздыбились во все стороны, щетина на лице уже перестала быть щетиной – отросла в короткую торчливую бороду и усы; лицо незнакомо оплыло, веки набухлые, красные, глаза сузились. Сергей тряхнул головой, точно бы стараясь согнать с водяного зеркала идольский образ. Тут же с волос посыпалась какая-то труха, перхоть. В воду свалилась вошь. Маленькая, беленькая, паразитская живность, угодив в воду, тут же заперебирала лапками, забарахталась, ища себе спасения. Сергей ударил по ведру. Загремев цепью, оно свалилось на землю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.