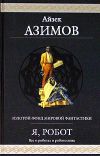Текст книги "Закон сохранения любви"

Автор книги: Евгений Шишкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
15
Владельцем старинного замка в пригороде Гамбурга на берегу моря была госпожа Хенкель. Ее финансовые дела шли не так успешно, как мечталось этой старой и несколько чопорной фрау, поэтому весь двухэтажный замок, построенный с готическими архитектурными потугами – с шестигранными башенками и шпилями на крыше, – ей содержать было накладно, и оба крыла она сдавала иностранцам. Один из флигелей занимала многодетная семья бизнесмена из Швеции, другой – семья богатого русского, который учил в местной «морской» школе своего единственного сына. Постояльцы между собой жили абсолютно автономно и в полной независимости от фрау Хенкель. Порой она не видела своих нанимателей целыми неделями, хотя знала, как у них обстоят дела. Всем хозяйством, обслугой и обустройством дома управлял ее родственник, уже немолодой, но безумно деятельный и подвижный господин Майер. Этот трудоголик не гнушался никакой работой, и не только потому, что ремонтные службы требовали расходов – просто он был так воспитан; он мог стричь газоны, чинить в мастерской автомобиль, лазить по стремянке и менять электролампочки, прокладывать новый водопровод, красить чугунную ограду замка, но при этом по праздникам надевал черный костюм и бабочку, становился очень гордым и немного похожим своей напускной важностью на фрау Хенкель: ведь он был не так уж и беден, этот сухощавый живчик управляющий.
Господин Майер и встретил первым у калитки Романа Каретникова, который выбрался из такси.
– Вы приехали так неожиданно, господин Каретников.
– Что нового, господин Майер? Как всегда – Ordnung?
– Ja, ja, Оrdnung, господин Каретников!
– Как здоровье фрау Хенкель?
Однако их обмен дежурными любезностями не продолжился. В окне гостиной первого этажа Роман увидел саму фрау Хенкель, которая в свою очередь смотрела на него: было не очень разумно расспрашивать о ее здоровье у господина Майера. Роман приветливо кивнул ему и пошел по брусчатке мимо лужайки с клумбой и деревянными садовыми диванами к парадному входу в замок – нанести визит вежливости хозяйке, по крайней мере поздороваться. Когда Роман раскланивался с управляющим, заметил некоторое волнение на его лице, как будто господин Майер собирался что-то ему сказать, но не осмелился или попросту не успел.
Разговор с фрау Хенкель был короток, вежлив и чуточку лицемерен.
– Как дела в России?
– Всё прекрасно, фрау Хенкель.
– Вы надолго на этот раз в Гамбург?
– Всё будет зависеть от обстоятельств.
– В России неприятности? Взрывы домов и опять война с Чечней?
– Злодеев скоро найдут и накажут. Россия слишком большая и разнородная страна, чтобы обойтись вовсе без неприятностей. К тому же это не война – локальная антитеррористическая операция. Всё скоро закончится.
Чтобы пройти на свою половину, Роман мог вернуться обратно на улицу и мимо отчаянно зеленой лужайки, которую засевали особо устойчивым к холодам сортом английской травы, идти вдоль фасада к своему входу. Но на свою половину Роман мог пробраться и через служебные помещения. На первом этаже находились кухня, прачечная, кладовки; мимо них можно было пройти в столовую, а через нее черным ходом – в свое крыло. Так было быстрее, чем возвращаться на улицу и совершать дополнительный крюк.
Отулыбавшись и расшаркавшись с фрау Хенкель, Роман пошел на свою половину, неся на плече сумку, а в руках поскрипывающий слюдой букет белых хризантем, которые любила Соня. В столовой, примыкавшей к холлу первого этажа, где и начиналась арендуемая его семьей территория, ему ударил в нос из соседствующей со столовой кухни острый и вкусный запах жареного мяса и пряностей. В этом запахе угадывалось что-то особенное, торжественное, словно бы Соня по случаю приезда мужа задумала праздничный семейный ужин. Но об этом приезде она не знала: Роман ей не позвонил. Он и сам не хотел отвечать себе на вопрос, почему не предупредил жену, что приедет сегодня; он решил поехать внезапно, без раздумий – пусть и для семьи это будет сюрпризом. Наверняка имелся и скрытый мужской лукавый мотив…
Роман вышел в холл и здесь почти нос к носу столкнулся с мужчиной, который вынырнул из дверей кухни. В одной руке он держал сковороду, откуда и источался этот вкусный предательский запах, в другой – соусник. Незнакомец был в белой рубашке с погонами, на которых золотились какие-то лычки, в синих брюках – по-видимому морской офицер, – а поверх на нем был надет Сонин фартук в горошек.
– Как вы сюда попали? – отрывистым голосом спросил незнакомец по-немецки.
– Хотелось бы мне знать, как вы сюда попали? – зловещим голосом ответил Роман на русском языке.
Всё вмиг стало ясно: и тот незнакомый красный «фольксваген», который стоял недалеко от калитки, и волнение на аскетичном лице управляющего, который, очевидно, знал, что у Сони гости, и некоторая надменность во взгляде фрау Хенкель, когда он направился на свою половину черным ходом.
Немая пауза между Романом и немецким морским офицером длилась недолго. Из гостиной в холл, услышав голоса, выбежала Соня, перепуганная, бледная и уже встрепанная переполохом. На ней было небудничное, длинное лиловое платье с отделкой по вороту и обшлагам из серебристой норки; черные волосы уложены в прическу блестевшими буклями, яркие черные глаза подведены, сочные полные губы накрашены. Оттого что она была встревожена, всё в ней проступило с еще большей живой привлекательностью. Взглянув на нее, Роман ядовито обжег себя восхищением: всякий кобель за такой куклой кинется!
– Пока я нахожусь здесь, этот человек приходить сюда не должен, – с расстановкой и угрозой сказал Роман, глядя на Соню.
– Почему ты приехал так… Что случилось? Рома, я всё тебе сейчас… – ринулась было в игру Соня, но Роман тут же пресек:
– Пока я нахожусь здесь, этот человек приходить сюда не должен!
Немец хлопал глазами, явно не разбирая русскую речь и явно понимая, что попал впросак и теперь надо поскорее уносить ноги.
– Извините! – коротко бросил он и быстро ушел в кухню.
– Где Илья? – непримиримо спросил Роман.
– Илюша сегодня останется со всеми одноклассниками на учебном фрегате. У них первый учебный поход в море. Я хотела… Рома, я тебе сейчас всё объясню.
– Пока я нахожусь здесь, этот человек приходить сюда не должен! – выкрикнул Роман, швырнул на диван букет белых хризантем, скрипнувших слюдяной упаковкой, и быстро стал подниматься по лестнице на второй этаж. Брезгливо морщился от острого вкусного запаха жареного мяса. Даже набегала слюна, которую хотелось смачно сплюнуть.
Северное и Балтийское моря, в отличие от морей южных, Черного и Средиземного, даже в благоприятную солнечную погоду хранят в себе глухой серый оттенок, какой-то тяжеловесный, мрачный; в этих морях мало тепла и мало цвета аквамарина. Поздней осенью Северное море и вовсе утрачивает синеву и как будто становится более солёным и мертвым. Роман стоял на балконе спальни и смотрел в сторону залива, на дальнее сталистое водополье.
Вечерело, но было еще светло. Над заливом поднимался большой оранжевый шар. Полнолуние. Свет от полной луны еще не чувствовался: луна только озарялась невидимым заходящим солнцем, но сама еще не лучилась фосфорическим огнем.
За оградой, опоясывающей замок, по одну сторону, за полем гольф-клуба с ровным травянистым ковром и сферическими от стрижки кустами, виднелось скопление дорогих яхт у морского причала. Мачты без парусов создавали прибрежный частокол. По другую сторону виднелись загородные дома бюргерской публики. Одна из крыш дома, которые фрагментами видел сейчас Роман с балкона, была желтой, черепичной, с крутым наклоном. В Европе очень красивые, чистые крыши. По крышам можно судить о жителях… А какие крыши были там, в Никольске, когда он смотрел на город с балкона гостиницы? И всё же нет, никто, никто в мире не знает, под какой крышей счастливее жить!
Легкое эхо донеслось из парковых ив – отдаляющийся шум двигателя. Должно быть, тот немец, «моряк со сковородой», уматывает на своем красном «фольксвагене». «Как жаль, что нет Илюшки!» – подосадовал Роман и вернулся в спальню.
Не снимая пальто, не скинув даже туфель, он лег на постель, на огромную кровать с шелковистыми розовыми подушками. Что, сегодня он занял чужое место? А что, что собственно, он хотел от Сони? Бесконечной собачьей преданности? Хотел, чтобы она вечно ждала его, как тогда, в жениховские годы, когда он назначил ей свидание в Александровском саду, а сам застрял на аспирантском экзамене в университете и опоздал на два часа, которые Соня вытерпела, меряя шагами садовую аллею у кремлевской стены? Такому больше не бывать! А впрочем, он ведь даже немного рад этому! Идиот со сковородой и он сам, Роман, – идиот с букетом. Зато теперь с него списывается всякая вина, всякий грех. Соня наверняка догадывалась о его отношениях с Жанной. Может быть, догадывалась и о другом… Чего ж ей тогда томиться? Он и сам был влюблен и счастлив без Сони! Ему стало немного стыдно, но он чувствовал, как в душу от таких всепрощающих мыслей прихлынуло облегчение.
Роман Каретников тихо хмыкнул и устало закрыл глаза.
16
Мгла и хрупкая тишина осеннего вечера наполнили комнаты, занимаемые в замке «новыми русскими эмигрантами», – так иногда называла Каретниковых фрау Хенкель. Жалостный свет от торшера мазался лишь по просторной гостиной на первом этаже, в остальных окнах – глухие потемки. Еще скудный огонек ночника теплился в коридоре у спальни возле картины с морским пейзажем в широком бронзовом багете. Соня уже несколько раз поднималась на второй этаж, подкрадывалась на цыпочках к дверям спальни и столько же раз ретировалась. Не смея зайти туда, она возвращалась в гостиную.
Белые хризантемы, гневно брошенные Романом на диван, обрели свое место в пузатой керамической вазе на громоздкой старинной тумбочке с кривыми ножками. Время от времени Соня бросала на цветы раздосадованный взгляд, краснела и в отчаянии мотала головой. Как скверно вышло! Эрик в фартуке и Роман… Почему он не предупредил о своем приезде? И Илюшки, как назло, не оказалось, он бы как-то сгладил… Соня, сидевшая на диване в повседневном махровом халате – не в платье для вечерних свиданий, резко выпрямилась, напрягла слух: ей показалось, что в коридоре скрипнула дверь спальни – шаги, вздох… Нет, похоже, ей только показалось. Ей очень хотелось этого, хотелось, чтобы Роман спустился к ней, заговорил с ней, выплеснулся. Вряд ли он сейчас спит. Он, конечно, не спит. Как скверно, скверно, скверно и гадко вышло! От беспомощности она сжимала кулачки и бесшумно стучала ими по мягкому дивану. «Папа, научи меня, подскажи мне, что нужно делать?» – будто вымаливая целебный заговор, прошептала Соня.
Отец Сони, виолончелист одного из музыкальных столичных театров, Зиновий Аронович жил незаметной жизнью музыканта-каторжника. Днем – репетиция, вечером – спектакль; днем – репетиция, вечером – спектакль; в выходные опять же: днем – прогон, вечером – спектакль. Иногда, редчайше, гастроли за границу, ведь при Советах театр в основном отправлялся летом гастролировать то в Ижевск, то в Череповец, в лучшем случае – в Кисловодск или Анапу, а нового времени Зиновий Аронович и не захватил, умер тогда, когда только распахивались горбачевские шлюзы. Страшная, неизлечимая болезнь скрутила его буквально в месяц, не оставляя медицинских лазеек к спасению.
На свою музыкантскую судьбу Зиновий Аронович не роптал, малое жалованье не считал пороком и обладал той удивительной мудростью, которая ценится выше всяких положений в социальной иерархии. Перед смертью, близкое присутствие которой воспринял с поразительным мужеством и рассудительностью, Зиновий Аронович призвал к себе по очереди старшего сына Марка и младшую, свою любимицу дочь, которую называл Софочкой.
Этот тихий отцовский голос, с мягкой картавостью, с прощальными напутными словами она запомнила навсегда:
– Софочка, милая моя дочка. Мои дни сочтены. Я скоро уйду от вас. Всю жизнь я честно работал и смотрел людям прямо в глаза. Потому что честно работал. Я не нажил никакого капитала, никаких драгоценностей. У тебя, Софочка, даже нет приданого, которое, наверное, есть у твоих подруг. Но никогда не завидуй им. Мы с матерью дали тебе другое приданое – красоту. Это великая сила, Софочка. Ты должна ею правильно распорядиться. Великая женская сила! – Зиновий Аронович расчувствовался, прослезился, некоторое время молчал. – Любовь, Софочка, штука сладкая и коварная. В любви можно обмануться, в ней можно запутаться. Любовь по молодости очень горяча и слепа. Только с возрастом понимаешь, что счастливая любовь возможна лишь к приличному человеку… Потому что приличный человек способен понять и простить. Он никогда не будет укорять или заниматься отмщением. Тебе, Софочка, тоже надо научиться понимать и прощать. Не надо зла. Жизнь дается один раз, и люди должны жить в мире и понимании. Потому что они живут один раз! Избегай дурных людей, Софочка, и выходи замуж за приличного человека. Это чрезвычайно важно для женщины.
Когда отец говорил, Соня, зная о его неминуемой скорой кончине, тихо глотала слезы, не смела перебивать его даже всхлипами. Несколькими неделями раньше, еще до известия о беспощадной болезни отца, она приводила в гости своего парня, университетского аспиранта Романа Каретникова; Соня и Роман бродили у измайловских прудов, их накрыл сильный ливень, они оказались без зонта и промокли, и Соня, стыдясь за свою убогонькую хрущевку на первом этаже в Измайлове, все же пригласила Романа на горячее чаепитие; так он и познакомился с ее отцом.
– Твой молодой человек мне понравился, – передохнув, заговорил Зиновий Аронович. – Он, Софочка, оставляет впечатление приличного человека. Ты говорила мне, что отец у него служит большим начальником в министерстве, что это человек с тяжелым характером. Таких людей, Софочка, никогда не надо осуждать. Их нужно просто сторониться. Вежливо, без осуждения отойди от них. Потому что они не наши… Помни, Софочка, о великой силе, которая у тебя есть. – Зиновий Аронович слабосильной рукой погладил руку дочери, улыбнулся. – Женская красота способна повернуть вспять даже водопады – не только реки.
Через несколько дней отец умер.
Отцовский наказ был пророческим перстом к семейному покою и счастью Сони. Теперь и покою, и счастью грозила опасность. Насколько велика эта опасность, она еще не определила: ведь случилась не просто обиходная размолвка с мужем. И развернись конфликт худшей стороной, пострадает и брат Марк, который сейчас ходил в первых компаньонах у Романа. «Папа, что же мне делать?» – спрашивала она мираж, но черпала всё из того же услышанного завещания отца житейскую мудрость.
В конце концов она ищет благополучия не исключительно для себя. Роман – отец ее сына! И он любит Илюшу! Илюша тоже обожает отца! Это превыше всего. Только ради этого можно согласиться на всё, вплоть до унижений. Но разве Роман способен унизить!
Соня поднялась с дивана, шагнула в сторону кухни. Роман еще не ужинал, он голодный. Может, приготовить ему гренки с сыром и его любимый какао со сливками? Нет, это лучше потом. Сейчас главное – разговорить его. Покаяться. Соня произнесла про себя слова, которые уже отшлифовала за этот вечер. «Умоляю тебя, никогда больше не вспоминай об этом человеке!» (Да, она вычеркнет Эрика из своей жизни! Не будет разговаривать с ним даже по телефону!) «На самом деле, Рома, у меня, кроме тебя и Илюшки, никого нет. И не может быть! Всё, кроме вас, глупости, о которых не стоит вспоминать… Завтра, Рома, мы пойдем с тобой к причалу и будем ждать, когда из моря вернется фрегат. Илюшка увидит нас еще с палубы. И никто не будет мешать радоваться нашему счастью».
Соня опять пошла на лестницу, ведущую на второй этаж, к спальне. Но к спальне, как прежде, подошла робко, на цыпочках, вслушиваясь в каждый шорох. «Папа, укрепи меня духом», – взмолилась она и пугливо потянула кулачок, чтобы постучаться в дверь.
17
Никольских контрактников на чеченскую кампанию отправляли через Москву. В одной из подмосковных воинских частей формировали подразделения, выдавали обмундирование и личное оружие, готовили экипировку и проводили необходимый инструктаж, вывозили на полигон на учебные стрельбы. Дальнейший путь новоиспеченным рекрутам был определен в Ингушетию, а там уж рукой подать до войны.
Все время перевалочной жизни Лёва Черных пребывал в состоянии возбужденно-веселом, словно подвыпивший именинник: травил анекдоты, безобидно вышучивал товарищей, азартно играл по вечерам с местными прапорщиками в «буру». Сергей Кондратов в Лёвины затеи не ввязывался, лишь однажды согласился поехать вместе с ним в качестве грузчика в Москву.
– Посмотрим, Серёга, на столицу! Прапор с вещевого склада просит помочь, барахлишко надо погрузить. Поехали, проветримся!
Военный трехосный «Урал», громоздкий и неловкий, неторопливо катил среди мелких, шныряющих мимо него легковушек. Сергей и Лёва сидели в затентованном кузове, поглядывали наружу из-под приподнятого над задним бортом брезента.
– Глянь, Серёга, опять банк. Во мошна-то! Здесь деньжищи со всей России загребают… А мусору все равно многовато. Урны битком набиты… Глянь-ка, Серёга, негр! Как уголёк! Шпарит, гордый такой, довольный. Как у себя по Африке. Сидел бы дома на пальме, порол бананы, так ведь нет, понесло к нам, задницу морозить… Ух ты! И опять банк! Кругом пункты обменные, валюта… Я вот тебе, Серёга, честно признаюсь. В школе я много исторических книжек прочитал и всё удивлялся. Коммунизм, социализм, большевики, Ленин – куда ни ткнись, продыху никакого нет, всюду партия. Неужели, думаю, это никогда не кончится? Ведь в истории всегда что-то кончалось. Иго татарское, реформы петровские, бироновщина. Неужели, думаю, Ленин – навсегда? А ведь не навсегда оказалось. Не навсегда! И вот это, – Лёва кивнул за борт машины, намекая на новый российский уклад, диктуемый Москвой, – не навсегда. – Немного помолчал. – А может, навсегда, Серёга? А?
Машина затормозила на тесном перекрестке, и Лёва вслух прочитал злаченую надпись таблички на одном из ближайших домов.
– «Центр современных инноваций и инвестиционных программ по развитию предпринимательства и малого бизнеса в сфере услуг». Во понакрутили! – рассмеялся он. – Ох, Россия-матушка, повкалываешь ты теперь на всю на эту камарилью! А главное, леший разберет, чем они тут занимаются и на какие шиши живут? А ведь, похоже, нехило живут!
– Каждому своя доля, – сухо отозвался Сергей.
– Да-а, бумажные крысята из таких центров наемниками в Чечню не пойдут… Глянь, Серёга! На плакате: мальчик с русским лицом и надпись: «Папа, не пей!» А вон подальше – девчушка, точно нерусская, и надпись: «Москва – мой город!» – Лёва вздохнул, повертел еще туда-сюда рыжим любопытным носом, вывел резолюцию: – Э-эх, Москва, Москва! Милая ты наша столица! И сама, поди, не заметила, как тебя, нашу голубу, обули и переобули. Подсунули лаковые туфельки. Да только в такой хлипкой обувке по русским-то дорогам не походишь. Надо было сперва дороги замостить.
Сергей не отозвался на мнение друга, равнодушно поглядывал на запруженные разномастными машинами улицы, на тяжеловесные, малоприветливые дома, которые хранили в своих фасадах детали сталинско-брежневской эпохи – потускнелые звезды, серпы и молоты, колосистые гербы – на магазины, которые уже напрочь перекроили на крикливый сытый манер. Он даже сожалел, что согласился выехать из части и оказался здесь, в Москве. Когда он бил Марину, узнав об измене, узнал и о другом: «Откуда он, твой хахаль?» – «Из Москвы», – отупевше пробормотала она разбитыми губами.
Подкатили к воротам швейной фабрики. Прапорщик-вещевик скрылся в здании с табличкой «отдел сбыта». Сергей и Лёва, выбравшись из кузова, оглядывали безынтересные окрестности – блочные серые дома, фабричный сквер с неприметным памятником Ленину. Прапорщик выскочил из отдела сбыта красный как рак, материл какую-то начальницу, но перед своими грузчиками извинительно почесал затылок, спихнув на лоб фуражку:
– Вот какое дело, мужики. Нам придется в часть возвращаться. Чтоб вас не трясти попусту, вы погуляйте по Москве. Недостача у нас в бумагах, документ забыли.
– Чего раньше-то репу свою не чесал? – с веселой издевкой спросил Лёва.
Прапорщик отозвался картежной пословицей:
– Знал бы прикуп, жил бы в Сочи… Тут недалече кафушка есть, перекусите. Вот с меня. – Он достал деньги, протянул Лёве. – Часа через четыре мы обернемся. Сюда подойдите. Только много, мужики, не закладывайте.
Мутно-зеленый «Урал», чем-то похожий на большого неповоротливого крокодила, стал разворачиваться среди понатыканных у фабрики легковушек, порожняком выруливал на обратную дорогу.
– Ничего, Серёга, живем. У меня тоже немного деньжат имеется. Я вчера у прапоров в карты надыбал. Пойдем в забегаловку – климат больно сопливый.
Погода стояла сырая, промозглая, всё небо беспросветно затянуло рыхлым ватином, температура колебалась около нуля. Выпить рюмку-другую в тепле, под пельмешки – ни один мужик не откажется, если не язвенник… Сергей и Лёва пошли в указанную прапорщиком сторону, попутно прочитывали на углах домов названия улиц, учреждений, оглядывали пивные батареи в витринах киосков.
На одном из домов висела вертикальная вывеска «Кафе», но ни эта вывеска, ни само кафе в первом этаже дома не бросились в глаза сразу – сразу в глаза им бросилась толпа, которая стояла через дорогу напротив, облепив лестницы крыльца и прилегающую территорию трехэтажного, судя по всему, административного дома. Толпа была не велика, но по подбору не случайна, не какое-нибудь скопление зевак или покупателей дефицитного товара по сходной уступчивой цене. Здесь бастовали, митинговали, чего-то или кого-то пикетировали.
– Похоже, ветераны прибавки к пенсии требуют, – прикинул Лёва, но тут же и опроверг прикидку: – Вон и помоложе люди толкутся. Потрепанные, правда, но до пенсионеров еще не доросли.
Сергей и Лёва остановились понаблюдать за собранием.
Люди стояли в основном разрозненными кучками: по трое, по четверо – и, казалось, без всякой заинтересованности слушали оратора, седого мужика с большой залысиной, который высоко задирал голову, вознося острый воинственный нос, и что-то гудел, направляя свой голос поверх толпы. Среди сборища шныряла невысокая коротконогая бабенка неопределенных лет в больших очках и в красной вязаной шапочке, из-под которой торчали соломенного цвета патлы. Она совала в руки собравшихся какие-то газеты или листовки, что-то при этом энергично говорила, ее пунцовые губы постоянно двигались, видать, за что-то агитировала и была похожа на активистку с какой-нибудь киношно-документальной маевки. В некоторых пожилых лицах и впрямь угадывались возмущение, решимость и желание бунта. Однако супротивной стороны, казалось, в досягаемой близости не было, и любые возгласы сыпались даром, в безразличный ко всем воздух.
Невдалеке от митингующих скучали двое милиционеров. Старший из них – тучный флегматичный подполковник, стоял боровом, набычившись, заложив за спину руки. Другой – чином поменьше, звезды на погонах мелкие, рассеянно посматривал по сторонам и слегка кривился от восклицаний оратора. Обстановка выглядела и мирной, и натянутой – непосвященному человеку невозможно было угадать, чего пришли отстаивать эти, на особинку скучковавшиеся люди.
– Про какой-то устав бубенит, про фонд, – сказал Лёва, поймав несколько слов трибуна с острым коршунским носом.
– Работы, может, хочет. У них тоже, наверно, остановка производства случается, – предположил Сергей.
– Эй, землячок! – окликнул Лёва стоящего поблизости сухощавого длинноволосого мужчину, который оказался в данный момент в одиночестве, отделился от своей тройки соратников. – Из-за чего сыр-бор? Кто эти люди?
Мужчина улыбнулся, поправил сумку на плече и сам подошел поближе к Сергею и Лёве.
– Это совесть народа. Это писатели. – И опять открытая улыбка осветила его голубоглазое лицо, которое не очень увязывалось с длинными светло-русыми волосами.
– Писатели? – изумился Лёва, и они подозрительно переглянулись с Сергеем. – Так много, и все живые? Я уж думал, их столько на свете нету.
– Толпа этих угрюмых мужиков в помятых пальто и есть совесть народа? Ты чего-то перегнул, земляк, – сказал Сергей.
Мужчина рассмеялся:
– Другой совести у нас нет! – По всему видать, имел он характер весьма открытый и общительный.
– Ты кто, тоже писатель? – спросил Лёва.
– Я стихи сочиняю.
– Значит, поэт?
– Да, поэт Игорь Киселев, – представился мужчина и улыбнулся.
Когда он улыбался, на лице у него появлялись мелкие морщины, эти морщины свидетельствовали, что он не так молод, что просто-напросто сохранил юношескую стать и длинную молодежно-битломанскую прическу, что десятка четыре годков по жизни уже отмотал и, видать, не всё по гладкой дорожке, но и по ныркам и канавам: пальтецо с его плеча можно бы отдать на разживу сирому бродяге.
– Выпить хочешь, поэт Игорь Киселев? – спросил Сергей.
– Не откажусь.
– Экий ты сговорчивый! – весело похвалил Лёва.
В полупустом кафе они заказали официантке в желтой кофте и синем фартуке бутылку водки, по салату из капусты, по порции пельменей. Когда выпили по первой стопке, Лёва стал донимать Игоря расспросами о диковинном стихослагательном ремесле и о бастующем народе за окнами кафе. Донимал с приколами, да и собеседник оказался остроумным и отзывчивым на шутейство.
– Чего бастуете? Вам-то кто работать не дает? – спрашивал Лёва. – Западные конкуренты ручки украли или бумага в стране кончилась?
– Партия дуба дала, а без ЦК совесть народная совсем прохудилась. Тут литераторы имущественный вопрос решить не могут. За писательские дачи глотки рвут, – со смешком отвечал Игорь. – Раньше КПСС писателя насквозь видела. Если кто-то начинал зажираться или свою линию гнуть, на бюро вызовут – накачают. Или в КГБ припугнут. А еще лучше – завербуют. Особо рьяным мозги в психушке поправят, чтобы лишнего не сочиняли. Кому-то – загранпоездку, кому-то – премию, гонорары опять же. И дачи знали как раздавать! Партия не давала народной совести скурвиться. Теперь партия – кирдык. – Он слегка прищелкнул языком. – Теперь кто наглее и пронырливее, тот и хапнул имущества, аренду к себе в карман жмет. А творческие порывы уже никого не интересуют: ни новых боссов, ни чиновников, ни народ.
– Да ты что! – воскликнул Лёва и напомнил нашумевшую строчку знаменитого литератора: – «Поэт в России больше, чем поэт!»
– Да! – шутливо подхватил Игорь. – Он еще и камер-юнкер при дворе… А вообще-то, понтяра всё это. Сказал один литературный фраер, другие, как попки, талдычат, – жаргонно заговорил Игорь. И тут перебил себя – стал читать стихи:
Поэт в России обречен быть одиноким,
И лишь божественный глагол – навечно брат…
Читал он несколько распевно, но все лицо, кроме губ, оставалось при этом неподвижным. Вся веселость и простодушие с лица спали. Взгляд был устремлен в одну точку, отрешен. Казалось, слушатели ему не нужны, возможно, он их и не видит, не чувствует, не признает.
У Музы евнухов полным-полно,
Грош славы у нее вымаливать готовы…
Чем дальше он читал, тем больше появлялось у него металлических ноток в голосе. Он высказывал свою правду, неугодную кому-то.
…Всё это евнухов сладкоголосый бред.
Поэт в России – он и есть поэт!
Спустя паузу Сергей кивнул в окно, без усмешливости спросил:
– Что, поэт Игорь Киселев, ты сюда пришел тоже дачу выбивать?
– Еще чего, – отмахнулся Игорь. – Я просто так пришел. Меня в писательской организации попросили, для числа.
– Что ж ты так? – упрекнул Сергей. – Русский поэт, а пришел для числа. Мы – для числа, ты – для числа, а горлопаны-то и рады числом управлять.
– Ты, Игорь, больше на митинги для числа не ходи, – наставлял Лёва. – А уж если пришел, разным долдонам спуску не давай!
Игорь от этого устыжения смешался, оправдываться не стал, скептически покосился на толпу собратьев за окном.
Митинг протекал между тем вяловато. Выступающих как бы не находилось: то ли всем всё было ясно, то ли говорунов пришло на мероприятие недостаточно. Бастующая толпа потихоньку рассасывалась, и милиционеры, наблюдатели пикета, совсем поскучнели. Только бабешка-активистка в красной шапочке по-прежнему мельтешила с какими-то прокламациями среди поредевших кучек.
– Почитай что-нибудь еще! – потребовал Лёва у поэта.
Игорь улыбнулся, помолчал, видать, что-то отобрал для нынешнего застолья с двумя случайными мужиками.
Ну что, мой друг? Опять по горькой чарке?
И разговоров, перетолков водопад?
И забегаловка всё та, что рядом с аркой…
Нет, в выборе судьбы никто не виноват!
Он читал так же, глядя в одну точку, – с напевной монотонностью в голосе и сосредоточенностью в лице. Он читал, а Сергей Кондратов становился всё мрачнее. Он становился всё мрачнее, потому что стихи – словно грустный мотив, пробуждали в душе тоску по дому, по Никольску, по Улузе, по дочке Ленке, и еще – по ней, про кого было больно напоминать себе… В иные минуты Сергею не верилось в окружающий его мир: как он здесь очутился, в Москве, в чистеньком кафе, напротив митинга каких-то странных людей, рядом с человеком, который читает распевные строчки, от которых становится почему-то жаль этого, с потертым обличьем человека и никак не верится: неужели он зарабатывает себе на жизнь только тем, что складывает такие рифмы?
Когда прикончили бутылку и закуску, Игорь достал из своей сумки парочку тощеньких малоформатных книжонок:
– Хочу вам книжки свои подарить, – улыбнулся он. – Они выглядят, конечно, не фонтан, но главное… – Он не договорил, склонился над книжкой, чтобы на обороте корочки оставить памятную надпись и автограф.
В этот момент к столу для расчета подошла официантка.
– Игорь, ты нам с Серёгой одну на двоих книжку подпиши. Другую – лучше девушке подари. Девчонки виршики любят. Тебя как звать, голубка?
– У меня на бейдже написано, – холодно ответила официантка; на форменном синем фартуке и впрямь висела белая заплатка с ее именем.
– Написано? – воззрился на официантку Лёва. – Глянь, на заборе вон чего про Ельцина написано, да он страной управляет. Хотелось бы, голубка, имя все-таки от тебя услышать. Наш известный русский поэт Игорь Киселев хочет тебе книжку презентовать.
– Катя, – наконец улыбнулась и оттаяла официантка.
– То-то же, – похвалил Лёва. – Будешь читать книжку, Катя. Там и про любовь есть. Так ведь, Игорь?
– Так, – зарделся поэт.
Трое посетителей, которых обслуживала официантка Катя, из кафе ушли. Кате выпал перерыв – новых посетителей пока не появилось. Она села на высокий табурет возле стойки бара, стала листать подаренную длинноволосым мужчиной книжку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.