Текст книги "История похода в Россию. Мемуары генерал-адьютанта"
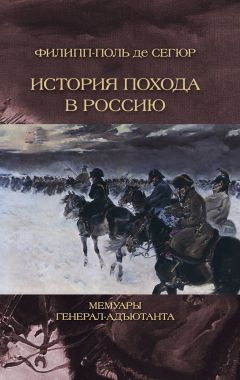
Автор книги: Филипп-Поль Сегюр
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Глава VI
Наполеон, погруженный в задумчивость, приехал в Верею, где его встретил Мортье. Но я пропустил один факт, достойный быть отмеченным; объясняется это быстрой сменой очень серьезных событий.
Двадцать третьего октября, в половине второго ночи, воздух был потрясен ужасным взрывом; обе армии сначала удивились, хотя все уже давно перестали удивляться, готовые ко всему.
Мортье выполнил предписание: Кремля больше не было; во все залы царского дворца были положены бочки с порохом, и сто восемьдесят три бочки – в дворцовые подвалы. Маршал с восемью тысячами человек оставался на этом вулкане, который мог взорваться от одной русской гранаты, – он прикрывал отступление армии к Калуге и различных пеших обозов к Можайску.
Из числа этих восьми тысяч человек было едва две тысячи, на которые Мортье мог рассчитывать; остальная часть – пешие кавалеристы, люди, собравшиеся из разных полков и разных стран, под командой новых начальников, не имевшие ни одинаковых привычек, ни одинаковых воспоминаний, не связанные, одним словом, никакой общностью интересов, – представляла собою скорее беспорядочную толпу, чем организованное войско; они неминуемо должны были рассеяться.
На Мортье смотрели как на человека, обреченного на гибель. Прочие полководцы, его старые товарищи по славе, расстались с ним со слезами на глазах, а император сказал, что рассчитывает на его счастье, но что, впрочем, на войне нужно быть готовым ко всему! Мортье повиновался без колебания. Ему был отдан приказ охранять Кремль, а потом, при выступлении, взорвать его и поджечь уцелевшие здания города. Эти последние распоряжения были посланы ему Наполеоном 21 октября из Красной Пахры. Выполнив их, Мортье должен был направиться к Верее и составить арьергард армии.
В этом письме Наполеон особенно настаивал, чтобы Мортье разместил в фургонах гвардии, а также во всех повозках, которые ему удастся достать, раненых, еще находившихся в госпиталях. Римляне, добавлял он, награждали почетными венками тех, кто спасал жизнь гражданам; герцог Тревизо заслужит столько венков, сколько он спасет солдат! Император уточнил, что будет доволен, если Мортье спасет пятьсот человек. Он должен начать с офицеров, затем с унтер-офицеров и отдавать предпочтение французам; пусть он созовет всех, генералов и офицеров, находящихся под его командованием, чтобы дать им понять всю важность этих мер, а также сказать им, что император никогда не забудет их заслуг, если они спасут пятьсот человек!
Между тем, по мере того как Великая армия выходила из Москвы, а Мортье удалился в Кремль, казаки проникали в ее предместья. Они состояли разведчиками у десяти тысяч русских, которыми командовал Винцингероде.
Этот иностранец, воспламененный ненавистью к Наполеону, обуреваемый желанием вернуть Москву и таким выдающимся геройским подвигом снискать себе в России новую родину, отделился от своего отряда; он бегом прошел грузинское поселение, устремился к Китай-городу и Кремлю, угодил на аванпосты, на которые он не обратил внимания, и попал в засаду; видя, что его самого захватили в городе, который он пришел отнимать, он внезапно переменил роль, замахал платком и объявил себя парламентером.
Его привели к Мортье. Здесь он стал дерзко восставать против совершенного над ним насилия. Маршал отвечал ему, что генерал-аншефа, являющегося таким образом, можно принять за слишком отважного человека, но никак не за парламентера, и что ему придется немедленно отдать свою шпагу. Тогда, не видя выхода, русский генерал покорился и признал свою неосторожность.
Наконец после четырех дней сопротивления французы навсегда покинули этот фатальный город. Они увезли с собой четыреста раненых; но, удаляясь, заложили в тайник искусно изготовленное вещество, которое уже пожирало медленное пламя, и был известен час, когда его огонь достигнет огромных куч пороха, скрытых в фундаменте этих обреченных на гибель дворцов. Мортье спешил убежать; а в то самое время, как он поспешно удалялся, жадные казаки и грязные мужики, привлеченные жаждой добычи, стали стекаться со всех сторон; ободрившись видимой тишиной, царившей в Кремле, они отважились туда проникнуть; их руки, искавшие добычи, уже протягивались к ней, как вдруг все они были уничтожены и подброшены на воздух вместе со стенами Кремля, который они шли грабить; затем, перемешавшись с обломками, оторванные части их тел падали на землю, подобно ужасному дождю.
Земля вздрогнула под ногами Мортье. На десять лье дальше, в Фоминском, император слышал этот взрыв и на следующий день в Боровске выпустил прокламацию. Она была составлена в раздражительном тоне, которым он иногда обращался к Европе: «Кремль, арсенал, склады – всё было разрушено; эта древняя цитадель, которая стоит со времен основания монархии, и первое обиталище царей, более не существует; теперь Москва – не более чем груда руин, грязная и нездоровая клоака, не имеющая политического либо военного значения. Я оставил ее русским беднякам и грабителям и иду на Кутузова, чтобы атаковать левый фланг этого генерала, отбросить его и спокойно продолжить движение к берегам Двины, где собираюсь расположиться на зимние квартиры». Затем, опасаясь, как бы не подумали, что он отступает, он добавил: «Оттуда не более восьмидесяти лье до Вильны и Петербурга, двойное преимущество, то есть на двадцать переходов ближе к его средствам и цели». Этим замечанием он надеялся придать своему отступлению вид наступательного марша.
Тогда же Наполеон объявил, что отказывается отдавать приказы о разрушении всей страны, которую покидает; ему отвратительна мысль о том, что он заставит жителей страдать еще больше. Для того чтобы наказать русских поджигателей и сотню негодяев, которые ведут войну, подобно татарам, он не станет разорять девять тысяч хозяев и не хочет обездолить двести тысяч рабов, невиновных в этом варварстве.
Император не был озлоблен неудачей, но в три дня всё изменилось. После столкновения с Кутузовым он отступал через Боровск; этот город перестал существовать раньше, чем он прошел через него.
Отныне всё, что остается позади, должно было предаваться огню. Завоевывая, Наполеон всё сохранял; отступая, он будет разрушать.
Впрочем, начало такой войны исходило не от Наполеона. Девятнадцатого октября Бертье писал Кутузову, прося его умерить враждебность русских, чтобы Московскому государству приходилось выносить только страдания, неизбежно связанные с военным положением: «Разрушение России, являясь большим бедствием для страны, глубоко печалит Наполеона». Но Кутузов отвечал, что он не в состоянии сдержать русский патриотизм; этим его отряды будто бы объявили нам чисто татарскую войну, на которую мы как бы приглашались отвечать тем же.
Такому же огню была предана и Верея, в которой Мортье присоединился к императору и куда он привел Винцингероде. При виде этого немецкого генерала вспыхнули все скрытые раны Наполеона; его уныние превратилось в гнев, и он вылил на этого врага всю горечь, душившую его.
– Кто вы такой? – закричал он, порывисто сжимая руки, словно стараясь сдержаться. – Кто вы? Человек без родины! Вы всегда были моим личным врагом! Когда я воевал с австрийцами, я видел вас в их рядах! Австрия сделалась моей союзницей, вы поступили на службу России. Вы были одним из самых явных виновников этой войны. Однако вы родились в Рейнской конфедерации, вы мой подданный. Вы не простой враг, вы мятежник. Я имею право судить вас! Жандармы, возьмите этого человека!
Жандармы не двигались, привыкнув к тому, что подобные резкие сцены оставались без последствий, и зная, что они лучше выразят свою преданность тем, что не станут спешить повиноваться.
Император продолжал:
– Видите ли вы, сударь, эти разоренные деревни, эти села в пламени? Кого следует упрекать в этих бедствиях? Человек пять – десять авантюристов, вроде вас, подстрекаемых Англией, которая выбросила их на континент. Но ответственность за эту войну падает на тех, кто вызвал ее. Через шесть месяцев я буду в Петербурге и потребую отчета во всех этих фанфаронадах!
Потом, обращаясь к адъютанту Винцингероде, тоже взятому в плен, он сказал:
– Что касается вас, граф Нарышкин, мне не за что вас упрекать. Вы – русский, вы исполняете свой долг. Но каким образом человек, принадлежащий к одной из лучших фамилий в России, мог стать адъютантом наемника-чужестранца? Будьте адъютантом русского генерала, такая служба будет много почтеннее.
До сих пор генерал Винцингероде мог отвечать на все эти резкие слова лишь своей позой; она была спокойна, как и его ответ. Он сказал:
– Император Александр был благодетелем моим и моей семьи; всё то, чем я владею, я получил от него; из чувства признательности я сделался его подданным; я занимаю тот пост, который указал мне мой благодетель; таким образом я исполняю свой долг.
У Наполеона вырвалось еще несколько уже менее резких угроз; он ограничился ими, потому ли, что излил весь свой гнев в первом порыве, или потому, что хотел напугать всех немцев, которые вздумали бы покинуть его. По крайней мере все окружающие именно этим объясняли себе его резкость. Она произвела дурное впечатление, и каждый из нас поспешил успокоить и утешить пленного генерала. Эти заботы продолжались до самой Литвы, где казаки отняли Винцингероде и его адъютанта.
Замечу еще, что император нарочно выказывал доброту к молодому русскому аристократу, разражаясь в то же время громовыми речами против генерала. Это доказывает, что он был расчетлив даже в гневе.
Глава VII
Двадцать восьмого октября мы снова увидели Можайск. Этот город был переполнен ранеными; некоторых из них мы захватили с собой, других собрали в одно место и, как в Москве, оставили на великодушие русских. Едва Наполеон отошел от города на несколько верст, началась зима… Итак, после ужасной битвы и десяти дней похода и маневров армия, захватившая из Москвы всего лишь по пятнадцать порций муки на человека, продвинулась в своем отступлении только на расстояние трехдневного перехода. У нее не было провианта; кроме того, ее настигла зима!
Уже погибло несколько человек. С первого же дня отступления, 26 октября, жгли провиантные фургоны, которые лошади больше не могли тащить. Тут пришло приказание сжигать за собой всё; мы повиновались и начали взрывать дома, закладывая в них порох, везти который стало не под силу нашим лошадям. Наконец, так как неприятель всё еще не появлялся, нам стало казаться, что мы снова начинаем наш изнурительный поход; а Наполеон, увидев опять знакомую дорогу, успокоился.
Однажды под вечер Даву прислал ему русского пленного. Сначала император расспрашивал его небрежно; но оказалось, что этот москвич имел некоторое понятие о дорогах, названиях и расстояниях: он сказал, что вся русская армия направляется через Медынь на Вязьму. Тут император стал внимательнее. Неужели Кутузов, как при Малоярославце, хочет обогнать его, отрезать ему отступление к Смоленску и к Калуге, окружить его в этой пустыне, без съестных припасов, без убежища и посреди всеобщего восстания? Впрочем, первым его движением было не обращать внимания на это известие: по гордости или по опыту, но он привык не подозревать в своих противниках той ловкости, которую обнаружил бы сам на их месте.
Здесь, впрочем, была иная причина. Его спокойствие было лишь кажущимся, так как было вполне очевидно, что русская армия направилась по Медынской дороге – той самой, которую Даву советовал избрать для французской армии; и Даву, из самолюбия или по оплошности, доверил это тревожное известие не одной своей депеше. Наполеон боялся действия, которое произведет это известие на армию, поэтому он сделал вид, что не верит ему, но в то же время приказал, чтобы на следующий день гвардия двинулась немедленно и шла, пока не стемнеет, к Гжатску. Он хотел дать этой избранной части войска отдых и пропитание, убедиться вблизи в движении Кутузова и опередить его.
Но погода не посоветовалась с ним, она, казалось, мстила. Зима была так близко от нас! Достаточно было одного порыва ветра, чтобы она появилась, – жестокая, враждебная, властная! Тотчас же мы поняли, что в этой стране она местная жительница, а мы – пришельцы. Всё изменилось: дороги, лица, настроение; армия сделалась мрачной, движение затруднительным; всеми овладело уныние.
В нескольких лье от Можайска нужно было переправиться через Колочу. Это был только широкий ручей; двух деревьев, стольких же подмостков да нескольких досок было достаточно для переправы, но беспорядок и небрежность были так велики, что императору пришлось здесь остановиться. Тут же утонуло несколько пушек, которые хотели перевезти вброд. Казалось, что каждый корпус действовал на свой страх, что не существовало ни главного штаба, ни общих распоряжений, одним словом, ничего такого, что соединяло бы воедино все эти части войска. И на самом деле, каждый из начальников был каким-нибудь высокопоставленным лицом и нисколько не зависел от другого. Сам император до того возвысил себя, что от прочей армии его отделяло неизмеримое расстояние, а Бертье, занимавший должность посредника между ним и командирами – королями, принцами или маршалами, – должен был действовать очень осторожно. Впрочем, он не годился для подобной роли.
Император, остановленный таким незначительным препятствием, как рухнувший мост, выразил свое недовольство презрительным жестом, на что Бертье мог ответить только своим беспомощным видом. Император не говорил ему о таких мелочах, следовательно, он не чувствовал себя виноватым, потому что Бертье был верным эхом, зеркалом – и только. Вечно на ногах, ночью и днем, он повторял Наполеона, но ничего не прибавлял от себя, и то, что упускал Наполеон, бывало безвозвратно упущено.
За Колочей все угрюмо продвигались вперед, как вдруг многие из нас, подняв глаза, вскрикнули от удивления! Все сразу стали осматриваться: перед нами была утоптанная, разоренная почва; все деревья были срублены на метр от земли; далее – холмы со сбитыми верхушками; самый высокий казался самым изуродованным, словно это был какой-то погасший вулкан. Землю вокруг покрывали обломки касок, кирас, сломанные барабаны, ружья, обрывки мундиров и знамен, обагренные кровью.
На этой покинутой местности валялось тридцать тысяч наполовину обглоданных трупов. Надо всем возвышалось несколько скелетов, застрявших на одном из развороченных холмов. Казалось, что смерть раскинула здесь свое царство: это был ужасный редут, победа и могила Коленкура. Послышался долгий и печальный рокот: «Это – поле великой битвы!..» Император быстро проехал мимо. Никто не остановился: холод, голод и неприятель гнали нас; только на ходу повертывали головы, чтобы бросить печальный и последний взгляд на эту огромную могилу стольких товарищей по оружию, которые были бесплодно принесены в жертву и которых приходилось покинуть.
Здесь мы начертали железом и кровью одну из великих страниц нашей истории. Об этом говорили еще некоторые останки, но скоро и они исчезнут. Когда-нибудь путник равнодушно пройдет мимо этого поля, ничем не отличающегося от всякого другого; но когда он узнает, что это поле великой битвы, он вернется назад, долго с любопытством будет рассматривать это место, постарается запомнить всё до мельчайших подробностей и, без сомнения, воскликнет: «Что за люди! Что за командир! Какая судьба! Это те самые люди, которые за тринадцать лет перед тем на юге, в Египте, попробовали победить Восток и разбились о его ворота! Позднее они победили всю Европу! И теперь они возвращаются с севера, чтобы снова сразиться с Азией и найти свою погибель! Что же толкало их на такую бродячую жизнь? Они ведь не были варварами, искавшими лучший климат, удобные жилища, большие сокровища; напротив, они обладали всеми этими благами, они наслаждались всякими утехами, и они покинули всё, чтобы скитаться без убежища, без пищи, чтобы либо погибнуть, либо превратиться в калек! Что принудило их к этому? Что, как не вера в их командира, непобедимого до сих пор! Желание довести до конца столь славно начатый труд. Опьянение победой и главным образом той ненасытной страстью к славе, тем могучим инстинктом, который в поисках бессмертия толкает людей в объятия смерти».
Глава VIII
Армия сосредоточенно и безмолвно проходила мимо этого зловещего поля, как вдруг, как рассказывают, здесь была замечена еще живой одна из жертв того кровавого дня, оглашавшая стонами воздух. Подбежали: это был французский солдат. В битве ему раздробило обе ноги; он упал среди убитых; его забыли. Сначала он укрывался в трупе лошади, внутренности которой были вырваны гранатой; затем в течение пятидесяти дней мутная вода оврага, куда он скатился, и гнилое мясо убитых товарищей служили ему лекарством для его ран и поддержкой для жизни. Мы спасли этого несчастного.
Дальше был виден большой Колоцкий монастырь, превращенный в госпиталь, – еще более ужасное зрелище, чем поле битвы. На Бородинском поле была смерть, но и покой: там по крайней мере борьба была окончена. В Колоцком монастыре она еще продолжалась: там смерть, казалось, всё еще преследовала тех, кому удалось избежать ее на войне.
Тем не менее, несмотря на голод, холод, полное отсутствие одежды, усердие нескольких хирургов и последний луч надежды поддерживали еще большую часть раненых в этой нездоровой жизни. Но когда они увидели, что армия возвращается и они снова будут покинуты, что для них нет больше никакой надежды, они выползли на порог и, встав вдоль дороги, протягивали к нам с мольбой руки!
Император отдал приказ, чтобы всякая повозка, каково бы ни было ее назначение, подобрала одного из этих несчастных, а наиболее слабые были оставлены, как в Москве, на попечение тех русских пленных и раненых офицеров, которые выздоровели благодаря нашим заботам. Наполеон остановился, чтобы дать время выполнить это приказание, и он даже воспрянул духом.
Во время этой остановки мы стали свидетелями одного жестокого поступка. Несколько раненых разместили на повозках маркитантов. Эти негодяи, повозки которых были нагружены добром, награбленным в Москве, с ропотом недовольства приняли новую поклажу; пришлось заставить их взять; они замолчали. Но едва мы тронулись в путь, как они стали отставать и пропустили всю колонну мимо себя; тогда, воспользовавшись временным одиночеством, они побросали в овраги всех несчастных, которых им доверили. Лишь один из этих раненых остался в живых, и его подобрала ехавшая следом карета; от него и узнали об этом бесчестном поступке. Вся колонна содрогнулась от ужаса, который охватил и императора, потому что в то время страдания его не были еще настолько сильны, чтобы заглушить жалость и сосредоточить всё внимание только на самом себе.
Вечером этого бесконечного дня императорская колонна приблизилась к Гжатску; все были изумлены, встретив на своем пути только что убитых русских, причем у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и окровавленный мозг разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шли две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. Все, смотря по характеру, выражали кто негодование, кто одобрение, кто полнейшее равнодушие. Вокруг императора никто не обнаруживал своих чувств.
Коленкур вышел из себя и воскликнул:
– Что за бесчеловечная жестокость! Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве некому будет жестоко мстить?
Наполеон хранил мрачное молчание; но на следующий день эти убийства прекратились. Ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли на ночь, словно скот.
Без сомнения, это было варварство, но что же было делать? Произвести обмен пленными? Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? Они стали бы рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, яростно бросились бы за нами. В этой беспощадной войне даровать им жизнь было равносильно тому, чтобы принести в жертву самих себя. Приходилось быть жестокими по необходимости. Всё зло было в том, что мы попали в такое ужасное положение!
Впрочем, с нашими пленными солдатами, которых увели внутрь страны русские, обходились нисколько не человечнее; а здесь уже нельзя было сослаться на крайнюю необходимость!
К ночи добрались до Гжатска. Этот первый зимний день был заполнен ужасными впечатлениями: вид поля Бородинского сражения, вид двух покинутых госпиталей, множество пороховых ящиков, преданных огню, расстрелянные русские, бесконечно длинный путь и первые зимние холода – всё это действовало тяжело. Отступление превратилось в бегство. Невиданное зрелище: Наполеон должен был уступить и бежать!
Многие из наших союзников радовались этому, испытывая то скрытое чувство удовлетворения, которое возникает у подчиненных при виде того, как их начальники теряют, наконец, свою власть и, в свою очередь, принуждены подчиняться. Прежде они чувствовали мрачную зависть, вызываемую обыкновенно в людях чьим-нибудь выдающимся успехом, которым редко кто не злоупотребляет и который оскорбляет равенство – эту первую потребность людей. Но эта злая радость скоро погасла и исчезла во всеобщем горе!
В своей оскорбленной гордости Наполеон угадывал подобные мысли. Мы заметили это на стоянке в тот же день: здесь, посреди замерзшего поля, изборожденного следами колес и усеянного русскими и французскими повозками, он хотел с помощью своего красноречия избавиться от тяжкой ответственности за все эти несчастья. Он заявил, что виновником этой войны, которой он сам всегда опасался, он считает NN и выставляет его имя на позор перед всем миром – русского министра, продавшегося англичанам.
– Это он вызвал эту войну! Изменник втянул в нее и меня, и Александра!
Эти слова, произнесенные перед двумя генералами, были выслушаны с тем молчанием, которое вызывалось прежним почтением, к чему присоединилось еще уважение к несчастью. Но Коленкур, может быть, слишком нетерпеливый, вышел из себя: с гневным жестом недоверия он быстро отошел и тем самым прервал тягостную сцену.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































