Текст книги "История похода в Россию. Мемуары генерал-адьютанта"
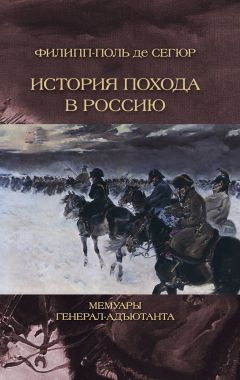
Автор книги: Филипп-Поль Сегюр
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
Глава XIII
Наполеон только что прибыл туда среди толпы умирающих людей, снедаемый досадой, но не позволяющий малейшему чувству проявиться на его лице при виде человеческих страданий; в свою очередь, эти несчастные также не роптали в его присутствии. Правда, никакое бунтарство было невозможно; это потребовало бы специальных усилий, поскольку каждый целиком был занят борьбой с голодом, холодом и усталостью; это потребовало бы объединения, согласования действий и взаимопонимания, в то время как голод и множество бед разделяли и изолировали людей; одним словом, каждый был занят исключительно собой. Они были далеки от того, чтобы истощать себя выражениями недовольства или жалобами, они шли в тишине, всеми своими силами сопротивляясь воздействию враждебной среды; постоянные страдания отвлекали их от каких-либо иных планов. Физические потребности поглощали все их моральные силы; он жили в мире своих ощущений, продолжая выполнять свои обязанности чисто механически, воспроизводя то, что было заложено в их сознание в лучшие времена, – и вовсе не по долгу чести и не из любви к славе, совсем не от того, что было порождено двадцатью годами побед.
Авторитет командиров никоим образом не подвергался сомнению, патерналистское начало было исключительно сильным, а опасности, беды и триумфы разделялись всеми. Это была нечастная семья, и наибольшей жалости заслуживал ее глава. Здесь царила величественная и грустная тишина; он и все остальные были слишком гордыми, чтобы жаловаться, и слишком опытными, чтобы не понимать бесполезность этих жалоб.
Между тем Наполеон стремительной походкой вошел в свою последнюю штаб-квартиру; там он составил свои последние инструкции, также как и 29-й бюллетень погибающей армии. В его квартире были приняты меры предосторожности, чтобы всё происходившее не стало достоянием гласности раньше следующего дня.
Предчувствие последней беды охватило его приближенных; каждый из них хотел последовать за ним. Их сердца тосковали по Франции, они хотели вернуться к своим семьям и покинуть этот ужасный холодный край; но никто не отваживался выразить это желание, их сдерживали долг и честь.
Наступила ночь, и подошел момент, который назначил император для сообщения командирам армии о своем решении. Были вызваны все маршалы. По мере того как они входили, Наполеон каждого из них отводил в сторону и сначала располагал в свою пользу рассуждениями и выражением доверия.
Так, увидав Даву, он пошел навстречу ему и спросил, почему его более не видно, не покинул ли он его? А когда Даву ответил на это, что ему казалось, что император им недоволен, он мягко открылся ему, а выслушав ответ Даву, сообщил даже, какой путь собирается избрать, и принял во внимание его советы по этому поводу.
Наполеон был ласков со всеми; потом, собрав всех за своим столом, он хвалил их за прекрасные действия в эту войну! О себе, о своем предприятии он только сказал: «Если бы я родился на троне, если бы я был одним из Бурбонов, мне тогда легко было бы совсем не делать ошибок!»
Когда обед подошел к концу, он велел принцу Евгению прочитать свой 29-й бюллетень, после чего громко объявил: в эту самую ночь он уезжает с Дюроком, Коленкуром и Лобо в Париж, его присутствие там необходимо для Франции и для остатков его несчастной армии. Только оттуда он сможет удержать австрийцев и пруссаков. Несомненно, эти народы подумают еще, объявить ли ему войну, когда он встретит их во главе французской нации и новой армии в миллион двести тысяч человек!
Он сказал еще, что сначала посылает Нея в Вильну, чтобы всё реорганизовать там; что ему помогут: Рапп, который потом отправится в Данциг, Лористон – в Варшаву; Нарбонн – в Берлин; что надо будет устроить сражение у Вильны и задержать неприятеля; что армия найдет там подкрепление, продукты и всевозможные боеприпасы; потом она займет зимние квартиры за Неманом; и он надеется, что русские не перейдут Вислу до его возвращения.
«Я оставляю, – добавил император, наконец, – командование армией Мюрату. Надеюсь, что вы будете повиноваться ему как мне и что среди вас будет царить полнейшее согласие!»
Было десять часов вечера; он поднялся и, сердечно пожав руки, поцеловал всех и уехал!
Книга XII
Глава I
Товарищи, признаюсь, что мой ослабевший дух отказывается погружаться далее в воспоминания обо всех этих ужасах! Я дошел до отъезда Наполеона и убеждал себя, что наконец-то моя задача окончена. Я объявил себя историком той великой эпохи, когда мы с вершины самой высшей славы низринулись в пропасть самого глубокого падения… Но теперь, когда мне остается писать только о самых ужасных бедствиях, почему бы нам не отказаться, вам – от грустного чтения, а мне – от груза памяти, которая должна тревожить только прах и считать только бедствия?
Но так как в нашей судьбе несчастье, как и счастье, доходило до самых невероятных размеров, то я попытаюсь сдержать до конца данное вам слово. Раз история повествует даже о последних секундах великих людей, то какое же я имею право умолчать о последнем издыхании умирающей Великой армии? Всё в ней – как ее громкие стоны, так и ее победные крики – только увеличивает ее славу! Всё в ней было велико; нашей участью было – удивить века силой блеска и скорби.
Наполеон проходил сквозь толпу своих офицеров, выстроившихся на его пути, и одарял их на прощанье печальной, вынужденной улыбкой. Он и Коленкур сели в крытую карету; его мамелюк и Вонсович, капитан его гвардии, заняли козлы; Дюрок и Лобо следовали за ним в санях.
Его эскорт поначалу состоял из одних поляков, затем из Неаполитанской гвардии. Она насчитывала от шестисот до семисот солдат, когда покинула Вильну, чтобы встретить императора; она почти вся погибла во время этого короткого пути; ее единственным врагом была зима.
В ту ночь русские внезапно появились в Ошмянах – городе, через который должен был проехать эскорт, – а затем его покинули. Наполеон избежал опасности.
В Медниках император встретил Маре. Первыми его словами были: «У меня больше нет армии; я вот уже несколько дней иду среди толпы недисциплинированных людей, бродящих повсюду в поисках пищи; их еще можно было бы соединить, дав им хлеба, обувь, одежду и оружие, но мое военное управление ничего не предусмотрело, а мои приказания совсем не исполнялись!»
А когда Маре указал ему на блестящее состояние больших складов в Вильне, он воскликнул: «Вы возвращаете мне жизнь! Я поручаю вам отвезти Мюрату и Бертье приказ остановиться на неделю в этом городе, собрать там армию и, придав ей силы, продолжить отступление в менее плачевном виде».
Остальное путешествие Наполеона совершалось беспрепятственно. Он обогнул Вильну пригородами, проехал Вильковишки, где сменил свою карету на сани, остановился 10-го в Варшаве, чтобы потребовать у поляков отряд в десять тысяч казаков, дать им некоторые льготы и обещать свое скорое возвращение во главе трехсот тысяч человек. Затем, быстро проехав через Силезию, он снова увидел Дрезден и его короля, потом Ганау, Майнц и, наконец, Париж, куда он явился внезапно 19 декабря.
От Малоярославца до Сморгони этот властитель Европы был уже только генералом умирающей и дезорганизованной армии. От Сморгони до Рейна это был простой беглец, несшийся через неприятельскую землю. За Рейном он снова превратился в повелителя и завоевателя Европы: последний порыв благодетельного ветра еще надувал этот парус.
Однако в Сморгони генералы Наполеона обрадовались его отъезду: они все свои надежды связывали с этим отъездом. Армии оставалось только бежать, дорога была открыта, русская граница недалеко. Они получили помощь в восемнадцать тысяч человек свежего войска; армия находилась в большом городе, где были огромные запасы, и Мюрат и Бертье, оставшись вдвоем, полагали, что они смогут направлять это бегство. Но среди этого страшного беспорядка нужен был колосс, чтобы стать центром всего, а этот колосс только что исчез. В громадной пустоте, оставленной им, Мюрат был едва заметен.
Тогда только прекрасно поняли, что великого человека некем заменить, потому ли, что его приближенные из гордости не могли склониться ни перед чьей другой волей, или потому, что, думая постоянно обо всем, предвидя всё и распоряжаясь всем, он создал только хороших исполнителей, искусных лейтенантов, но не генералов.
В первую же ночь один генерал отказался повиноваться. Маршал, командовавший арьергардом, вернулся почти один на императорскую квартиру. Там еще находились три тысячи человек гвардии. Это была вся Великая армия, и от нее осталась только одна голова! Но при известии об отъезде Наполеона, испорченные привычкой повиноваться только завоевателю Европы, не поддерживаемые более честью служить ему и презирая всех других, эти ветераны поколебались и сами приняли участие в беспорядках.
Большая часть армейских полковников, с четырьмя-пятью офицерами или солдатами вокруг своего орла, признавала только собственные приказы: всякий думал о спасении. Были люди, которые сделали двести лье, не повернув назад головы. Это было всеобщее «спасайся кто может!».
Впрочем, исчезновение императора и несостоятельность Мюрата не были единственными причинами такого беспорядка; главной виновницей была суровая зима, которая в это время стала очень лютой. Она всё усугубляла; она, казалось, создала всевозможные преграды между Вильной и армией.
До Молодечно и до 4 декабря, когда зима обрушилась на нас, вдоль дороги оставалось меньшее количество трупов, чем до Березины. Этим мы обязаны мужеству Нея и Мезона, удерживавшим неприятеля, более сносной тогда температуре, некоторым запасам, которые давала менее разоренная местность, и, наконец, тому, что при переправе через Березину уцелели наиболее крепкие люди.
Поддерживалось нечто вроде порядка внутри беспорядка. Масса беглецов брела, разделившись на множество мелких групп в восемь – десять человек. У многих из них была еще лошадь, нагруженная съестными запасами или сама служащая им этим запасом. Ветошь, кое-какая посуда, походный ранец и палка составляли пожитки этих несчастных и их вооружение. У солдат не было больше ни оружия, ни мундира, ни желания сражаться с неприятелем, а лишь с голодом и холодом; но у них остались твердость, постоянство, привычка к опасности и страданиям и всегда гибкий, изворотливый ум, умеющий извлечь всю возможную пользу из любого положения.
Но после Молодечно и отъезда Наполеона, когда зима, удвоив свою жестокость, напала на каждого из нас, все эти мелкие группы, сплотившиеся для борьбы с бедствиями, распались: теперь борьба совершалась изолированно, лично каждым. Самые лучшие солдаты уже не уважали себя: ничто их не останавливало; никто ничего не видел; у несчастья не было ни надежды, ни сожаления; у отчаяния больше уже не было судей, не было и свидетелей: все были жертвами!
Не было больше братства по оружию, не было общества – невыносимые страдания притупили всё. Голод, мучительный голод довел этих несчастных до грубого инстинкта самосохранения – единственного сознательного чувства у самых свирепых животных, ради которого они готовы пожертвовать чем угодно; варварская природа, казалось, привила им жестокость. Как дикари, сильные грабили слабых; они сбегались к умирающим, часто не дожидаясь даже их последнего вздоха. Когда падала лошадь, то могло показаться, что вокруг нее собралась голодная стая волков: они окружали ее, разрывали на куски, из-за которых спорили между собой, как лютые собаки!
Всё же большая часть еще сохраняла достаточно моральных сил, чтобы искать спасения, не вредя другим; но это было последнее усилие их добродетели.
Считается пороком эгоизм, вызванный избытком счастья; здесь эгоизм был вызван избытком несчастья, и потому более простителен; первый – добровольный, а последний – почти вынужденный; первый – преступление сердца, а последний – проявление инстинкта и действует чисто физически: и действительно, остановиться на минуту – значило рисковать жизнью! Протянуть руку своему товарищу, своему умирающему командиру было актом изумительного великодушия. Малейшее движение, вызванное состраданием, становилось великим подвигом.
Так поступали немногие, которые оставались твердыми в этой борьбе против неба и земли; они защищали слабейших и помогали им; это фениксы, возрождавшиеся из пепла.
Глава II
Шестого декабря, на следующий же день после отъезда Наполеона, небо показало себя еще ужаснее: птицы падали замерзшими на лету! Атмосфера была неподвижной и безмолвной: казалось, что всё, что могло в природе двигаться и жить, даже сам ветер, было подавлено, сковано и как бы заморожено всеобщей смертью. Ни слов, ни ропота, лишь мертвое безмолвие, безмолвие отчаяния!
В этом царстве смерти все двигались, как жалкие тени! Глухой и однообразный звук наших шагов, скрип снега и слабые стоны умирающих нарушали это гробовое безмолвие. Ни гнева, ни проклятия, ничего, что предполагает хоть немного чувства; едва оставалась сила умолять; люди падали, даже не жалуясь, – по слабости ли, из покорности ли, или же потому, что жалуются только тогда, когда надеются смягчить кого-либо, или думают, что их пожалеют.
Таковы были последние дни Великой армии.
Ее последние ночи были еще более ужасны; те, кого темнота захватывала вдали от всякого жилья, останавливались на опушке леса; там они разводили костры, перед которыми и сидели всю ночь, прямые и неподвижные, как призраки. Они не могли согреться этим теплом; они пододвигались к нему так близко, что загоралась их одежда. Ужасная боль заставляла их лечь, а на другой день они напрасно старались подняться.
Но те, кого зима оставила невредимым и кто хранил еще остатки мужества, готовили себе скудный обед. Так, в Смоленске обед состоял из нескольких ломтей жареной конины и ржаной муки, разведенной в растопленном снеге, или галет, которые, за отсутствием соли, приправляли порохом из патронов.
В Жупранах, в том городе, где император на один только час разминулся с русским партизаном Сеславиным, солдаты жгли целые дома, чтобы согреться на несколько минут. Зарево этого пожара привлекало несчастных, которых суровый холод и страдания довели до безумия; они сбегались в бешенстве и со скрежетом зубов и с адским хохотом бросались в эти костры, в которых и погибали в ужасных мучениях. Голодные их товарищи без ужаса смотрели на них; были даже такие, которые подтаскивали к себе эти обезображенные и обугленные пламенем тела и – это правда – решались поднести ко рту эту отвратительную пищу!
Такова была эта армия, вышедшая из самой цивилизованной нации Европы, – армия, некогда такая блистательная, победоносная, имя которой еще царило в стольких завоеванных столицах! Ее самые сильные воины, гордо прошедшие по стольким победным полям, потеряли свой благородный облик: покрытые лохмотьями, с голыми израненными ногами, опираясь на сосновые палки, они едва тащились, а всю силу, которую они когда-то употребляли для побед, теперь использовали для бегства!
Суеверные народы занимаются предсказаниями, и мы уподобились им. Некоторые говорили, что наш переход через Березину освещала комета, и считали это дурным знаком. Другие цитировали древних пророков, которые объявили о нашествии татар на берега Сены именно в это время. Третьи вспоминали об ужасной и разрушительной буре, которая разразилась во время нашего вступления на русскую территорию. «Сами небеса заговорили! И вот она – беда! Сама природа пыталась предотвратить эту катастрофу! Почему мы остались глухими к ее голосу?»
Как будто бы Провидение из сострадания к нашей слабости приказывало, чтобы каждый человек, песчинка мироздания, творил и чувствовал так, будто он является центром Вселенной.
Глава III
Армия была в последней степени физической и моральной подавленности, когда первые ее беглецы достигли Вильны.
Вильна! Склады, первый богатый и населенный город, который они встретили после вступления в Россию! Девятого декабря большая часть этих несчастных увидела, наконец, этот город! Тотчас все – одни едва волочась, другие бегом – устремились в его предместье и так упрямо лезли вперед, что скоро образовали одну сплошную массу людей, лошадей и повозок, неподвижную и неспособную двигаться.
Продвижение этой толпы по узкой улице стало почти невозможным. Следовавшие сзади, руководимые глупым инстинктом, лезли в эту кашу, не подумав проникнуть в город через другие ворота, хотя были и такие; но всё было так неорганизованно, что за весь этот тяжелый день не появился ни один штабной офицер, чтобы указать им путь.
В течение десяти часов, когда морозы достигли 27 или даже 28 градусов, тысячи солдат, считавших себя в безопасности, умерли от холода или удушья, как у ворот Смоленска и на мостах через Березину. Шестьдесят тысяч человек перешли через эту реку, и двадцать тысяч рекрутов присоединились к ним; из этих восьмидесяти тысяч половина уже погибла, в основном за последние четыре дня, между Молодечно и Вильной.
Литовская столица еще не знала о наших бедствиях, как вдруг сорок тысяч голодных человек наполнили ее криками и стонами! При этом неожиданном зрелище жители испугались – они заперли двери. Печальное зрелище представляли тогда группы этих несчастных, бродившие по улицам, одни в бешенстве, другие отчаявшиеся, угрожая или умоляя, стараясь проникнуть во дворы домов, складов или тащась в больницы; и отовсюду их гнали!
Солдаты смешались, всякая упорядоченная раздача еды была невозможна. В городе было на сорок дней муки и хлеба и на тридцать шесть дней мяса для ста тысяч человек. Ни один начальник не осмелился отдать приказания распределять эти припасы между всеми, кто явится. Одни боялись ответственности; другие опасались крайностей, которым предались бы голодные солдаты, если отдать им всё.
В казармах, в больницах они также не находили приюта, но здесь гнали их не живые, а царившая там смерть. Там еще дышало несколько умиравших солдат; они жаловались, что уже давно не имеют кроватей, даже соломы, что почти заброшены. Дворы, коридоры, даже залы были завалены массой тел; это были склады трупов.
В конце концов благодаря стараниям некоторых военачальников, таких как Евгений и Даву, а также сострадательности литовцев и жадности евреев, открылись некоторые убежища. Непередаваемо было изумление этих несчастных, увидевших, наконец, себя в обитаемых домах.
Какой изысканной пищей казался им печеный хлеб! Какое невыразимое удовольствие находили они в том, чтобы есть его сидя, и в какое восхищение потом приходили они, видя какой-нибудь слабый батальон еще с оружием, в порядке, в мундирах! Казалось, что они вернулись с края света…
Но едва они начали вкушать эту сладость, как пушки русских загудели над ними и над городом. Эти грозные звуки, крики офицеров, барабаны, призывающие к оружию, стоны всё еще прибывающих сюда толп несчастных наполнили Вильну новым смятением. Это был авангард Кутузова.
Однако французы больше думали, как защитить свою жизнь от голода и холода, чем от неприятеля. Тогда послышались крики: «Казаки!» С давних пор это был единственный сигнал, которому повиновалось большинство; он тотчас разнесся по всему городу, и началось отступление.
Сам Мюрат испугался; не считая себя больше командующим армией, он потерял самообладание. Видели, как он пробивался сквозь толпу и бежал из своего дворца и из Вильны, не давая иных приказов, кроме собственного примера, и оставив Нея ответственным за всё, что могло случиться. Он остановился у последнего дома на окраине, по дороге на Ковно, где ждал наступления дня и армию.
Можно было бы продержаться в Вильне на сутки дольше, и множество людей было бы спасено. В этом фатальном городе осталось около двадцати тысяч человек, в числе которых было триста офицеров и семь генералов. Большинство было сильнее ранено зимой, чем торжествовавшим неприятелем. Другие еще были невредимы, по крайней мере с виду, но их моральные силы исчезли.
Правда, литовцы, которых мы покинули, так скомпрометировав их, подобрали и помогли некоторым из них; но евреи, которым мы покровительствовали, оттолкнули многих. Они сделали больше: вид наших страданий раздразнил их алчность. Всё же, если бы их гнусная жадность довольствовалась тем, что на вес золота продавала самую слабую помощь, история не стала бы пачкать своих страниц такими отвратительными подробностями; но они затаскивали наших раненых в свои дома, чтобы ограбить их, а потом, при виде русских, выбрасывали несчастных, голых, умирающих через двери и окна; они безжалостно оставляли их умирать от холода на улицах; в глазах русских эти гнусные варвары даже заслуживали похвалы за то, что так мучили страдальцев. Такие подлые преступления должны быть известны и настоящему, и будущим векам! Сейчас, когда наши руки бессильны, может быть, наше негодование против этих чудовищ будет единственным наказанием им на земле; но когда-нибудь убийцы, наконец, присоединятся к своим жертвам и, несомненно, в справедливости неба мы найдем себе отмщение!
Десятого декабря Ней, который вновь добровольно взялся командовать арьергардом, покинул этот город; следом туда хлынули казаки Платова и начали убивать всех бедных и несчастных, которых выбросили евреи. Во время этой резни вдруг появился пикет из тридцати французов, которые ранее находились у мостов через Вилию, где они были оставлены и забыты. При виде этой свежей добычи тысячи русских кавалеристов окружили их с громкими криками.
Однако офицер, командовавший пикетом, уже построил своих солдат в круг. Не колеблясь, он вначале приказал им стрелять, а затем пойти ускоренным шагом со штыками наперевес. Все тут же разбежались, и он овладел городом. Не рассчитывая более на трусость казаков, он совершил резкий поворот и успешно соединился с арьергардом, не понеся никаких потерь.
В этом городе, как и в Москве, Наполеон не дал никакого приказа об отступлении: он хотел, чтобы наше отступление было неожиданно, чтобы оно удивило наших союзников и их министров, и думал, что, воспользовавшись их первым удивлением, он сможет пройти по их землям раньше, чем они смогут присоединиться к русским, чтобы уничтожить нас.
Вот зачем были обмануты литовцы, иностранцы и вся Вильна, вплоть до самого министра. Они не верили в наше поражение, пока не увидели его; и на этот раз почти суеверная убежденность в непогрешимости гения Наполеона послужила ему на пользу против его союзников. Но эта же самая вера усыпила самих французов, которые были совершенно уверены в своей безопасности: в Вильне, как и в Москве, никто не приготовился ни к какому передвижению.
В этом городе была огромная партия армейского обоза и его казны, продовольственных запасов, масса огромных фургонов императора, много артиллерии и большое количество раненых. Наше отступление свалилось на них, подобно урагану. При этом известии одних ужас заставил бежать, других приковал к месту: солдаты, люди, лошади, повозки – всё перепуталось!
Среди такой сумятицы командиры вывели из города всех, кого они смогли еще заставить двигаться; но через лье по этой дороге их встретили Панарские высоты и лощина.
При завоевательном марше этот поросший лесом скат показался бы нашим гусарам только счастливым местоположением, откуда они могли бы обозревать всю Виленскую равнину и неприятеля. При правильном отступлении он представлял бы прекрасную позицию, чтобы повернуться и остановить врага. Но при беспорядочном бегстве, когда всё, что могло бы служить прикрытием, при спешке и беспорядке обращается против отступающих, этот холм и ущелье сделались непреодолимыми препятствиями, ледяной стеной, о которую разбивались все наши усилия. Он задержал всё – обоз, казну, раненых. Несчастье было довольно большое, так что в этом длинном ряде неудач оно составило эпоху.
И на самом деле, деньги, честь, остаток дисциплины и силы – всё окончательно было потеряно. После пятнадцати часов бесплодных усилий, когда проводники и солдаты эскорта увидели, что король и вся толпа беглецов обходит их по бокам горы, когда, обернувшись на шум пушечной и ружейной стрельбы, приближавшейся к ним с каждым мгновением, они увидели самого Нея, уходившего с тремя тысячами человек, остатками корпуса Вреде и дивизии Луазона, когда, наконец, перенеся взор на самих себя, они увидели, что вся гора покрыта разбитыми или перевернутыми повозками и пушками, распростертыми людьми и лошадьми, умиравшими друг на друге, – тогда они перестали думать о спасении чего-нибудь, а просто старались предупредить алчность врагов, растащив всё сами.
Открывшийся денежный ящик послужил сигналом: всякий спешил к этим повозкам; их разбивали, вытаскивали оттуда самые дорогие предметы. Солдаты так ожесточенно отнимали добычу друг у друга, что не слышали свиста пуль и крика преследовавших их казаков.
Говорят, что эти казаки даже смешались с ними, и те не заметили ничего. В течение нескольких минут французы и татары, друзья и враги, слились в общей жадности. Русские и французы, забыв о войне, вместе грабили один и тот же сундук. Исчезли десять миллионов золотом и серебром.
Но рядом с такими ужасами была и благородная самоотверженность. Находились солдаты, которые бросали всё, чтобы вынести на своих плечах несчастных раненых; другие, не имея сил вырвать из этой толчеи своих наполовину замерзших товарищей по оружию, погибли, защищая их от нападений своих же соотечественников и от ударов неприятеля.
На самой незащищенной стороне горы офицер императора, полковник граф Тюренн отбросил казаков и, не обращая внимания на крики и стрельбу, распределил у них на глазах средства императорской казны среди гвардейцев. Эти мужественные люди успешно их сохранили. Впоследствии они вернули всё доверенное им. Ни одна монета не была потеряна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































