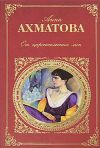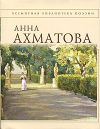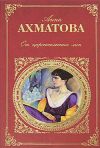Текст книги "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Автор книги: Галина Козловская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Трудно сказать, с чего начался распад СССР. Он возник, как за ночь возникает на поверхности земли росток, которого не было накануне. Разгром крестьянства, уничтожение миллионов людей в лагерях, ссылках, на поселениях, обреченных на гибель и вымирание, было первым ударом. Затем Мировая война, обескровившая страну, у которой лишь чудом хватило духовных и физических сил восстановить великие разрушения, нанесенные войной. В народе у большинства вдруг появилась вера, что теперь в жизни будет иначе, лучше и свободней. Но ничего не изменилось, машина угнетения работала с прежней силой. И энергия людей пошла на убыль, и их покинула надежда на лучшую жизнь.
Сверху недреманно и жестко управляли всеми аспектами сельской жизни. Управляли чаще всего бездарно, безалаберно, во вред всем. И крестьяне, обреченные жить безрадостно и скудно, потеряли радость от труда, ставшего барщиной, разлюбили землю. Всё чаще заколачивались дома, люди уходили в город. И деревни стояли сиротеющие, хиреющие в бедности: людей постепенно покидало простое чувство счастья и радости существования. И закачалась тогда под ногами земля у мужчин и женщин от тяжкого беспробудного пьянства. И наступил на Руси праздник, разливанный «праздник Пимена Гулливого, Лентяя Преподобного[106]106
«Праздник Пимена Гулливого, Лентяя Преподобного» – украинская поговорка; ср. «ленивому всегда праздник».
[Закрыть]».
В городах распад шел своим путем. С нарастающей быстротой началась утрата чувств и нравственных устоев, считавшихся незыблемыми у всего человечества. Коррупция и бесчестность всё большему числу людей стали представляться нормой жизни. Стяжательство порождало неслыханное равнодушие ко всему вокруг и жило своей жадной утробной жизнью. Люди перестали стесняться и не скрывали самых постыдных чувств и поступков. Вероятно, не было ни одного советского учреждения, где не бушевала бы ненависть и где не было бы склок, где все средства сживания со света, с постов, как и средства духовного унижения противников сплоченных кланов цвели пышным цветом – низости и безнаказанности.
Алексей Федорович сполна вкусил этой отравы. Он хорошо знал, что чем мельче и ничтожней те, кому ты неугоден, тем свирепей и беспощадней будут их удары и способы унижения и уничтожения. Кроме духа, у человека есть его кровеносная система, которая питает этот дух. У Алексея Федоровича кровяное давление становилось всё выше и выше, и он жил и работал на пределе дозволенного человеку, и грозная опасность конца нависла над ним.
КонецМы с тобой одной крови, ты и я.
Редьярд Киплинг
Вернувшись однажды с прогулки, Алексей Федорович мне вдруг сказал: «Давай напишем с тобой балет «Маугли»». «А как же «Новогодний сон Ганса Христиана Андерсена»?» – спросила я. Я так любила это свое произведение и так хотела, чтобы Алексей Федорович начал писать музыку на это либретто. Но даже после одобрения Юрия Григоровича он всё медлил, медлил. Когда он как-то просматривал присланные из Скандинавии сборники скандинавской музыки, я услышала, как вдруг он сказал: «Боже, какая преснятина!» – и я почувствовала, что «Андерсену» не быть. Когда он предложил писать «Маугли», я снова спросила: «А как же наш «Андерсен»?» И вдруг он мне сказал почти виновато: «Твой «Андерсен» хорош, но у него нет Индии».
Индия! Снова Индия, страна, где обитает околдовавшее его очарование. Я всё поняла и, готовая было уже расплакаться, вдруг радостно ему ответила: «Хорошо! Я напишу тебе твоего «Маугли!»». Книга Киплинга стала лучшей детской книгой века. И пока в мире существует детство, ей суждено жить и быть любимой. А для взрослых это произведение является воплощением великой поэтической силы и художественной красоты.
Писала я либретто на одном дыхании, увлеченно и легко. В конце я придумала финал – «Встреча и уход Маугли и девушки к людям», – где композитору была предоставлена полная возможность показать свою Индию в полном ее многообразии. Затем мы втроем вместе с бывшим учеником, ставшим впоследствии нашим приемным сыном, Борисом Дубровиным[107]107
Борис Васильевич Дубровин – композитор, ученик А. Козловского, приемный сын и наследник Козловских.
[Закрыть], сидели часто по вечерам в саду и искали и придумывали, какими хореографическими и сценическими приемами надо воплощать звериный лесной мир. Это было увлекательно и сложно, ибо люди, играющие зверей, должны были обладать особой пластикой и найти новый стиль сценического поведения. Как тут не хватало Касьяна Ярославича с его могучим хореографическим воображением! Он бы, конечно, нашел все элементы для решения этой художественной задачи.
Однажды утром, поднявшись на шипанг, я увидела Алексея Федоровича сидящим неподвижно на постели. Его лицо поразило меня. Я никогда не видела у него такого выражения – самоуглубленная сосредоточенность, изумленное и счастливое выражение отрешенности и ви́дения чего-то, что открылось ему. Всё это сложное переживание словно сковало его в какой-то отстраненности и отрешенности почти неподвижного взгляда. Когда я позвала его, он, очнувшись, сказал мне: «Сегодня я услышал чудо. Птицы, запевшие утром, распахнули мир какой-то удивительной политональности, полиритмии и тембровых чудес, каких я не слышал никогда. Мне открылось нечто, какое-то откровение, и я его запомнил. Я напишу своего «Маугли». Это будет самое дерзновенное мое произведение. У меня будет особый, совсем особый состав оркестра, свои особые инструменты. Вот увидишь!»
Но увидеть не пришлось. Гипертония все больше подымала кровяное давление, и оно словно боролось с его охваченным вдохновением духом. Борьба оказалась неравной: победила смерть. Но Козловский до конца был верен своей сути. За два часа до того, как потерять сознание навсегда, он с блестящими глазами рассказывал и показывал одному своему ученику, как надо понимать и дирижировать какое-то место в одной из симфоний Бетховена.
Не бывает человеческой жизни безмятежной, без горестей и печали. Алексей Федорович многое испытал и пережил. Он знал несбыточность мечтаний и боль великих утрат. Он знал, какими бывают обиды и какими бывают люди, их причиняющие. Он узнал и измену любимого друга, и страдания долгой болезни. Но он был и счастливым избранником музыки, которая была подвластна ему. С нею Козловский пришел в этот мир, и она осталась с ним до конца.
А. Ф. К.
«Скажи, ведь будут еще у нас с тобой счастливые, солнечные деньки?» – Последние слова
В дождях весны распахнут полдень,
И мокрый лист дрожит, как горло птицы.
Зеленый мир, раскачанный ветрами,
Дыша цветами, травами, водой,
Несет раскаты птичьих состязаний.
Вдруг… заколдованность… внезапность,
И только иволга и дрозд поют,
И им одним подвластны день и воздух.
От радости глаза наполнятся слезами,
А дрогнувшие губы повинно шепчут:
«Прости мне, милый, что я еще живу!»
И снова сердце мне сокрушает смерть
Со всею силою земного окаянства.
Ты мой Орфей! Но ныне не тебе, а мне,
Умолкшей Эвридике, Тебя вести
Из мрака и забвенья. Рок так велел.
И ты за мною, по моим следам
По дебрям памяти ступаешь
Сквозь свет и тень, сквозь тень и свет
Того, что было…
Восточный полдень Анны Ахматовой[108]108
Первая публикация: журнал «Звезда Востока», 1990, № 12.
[Закрыть]
Память сердца – милость, дарованная нам, когда над любовью и дружбой не властно время.
Мы сами непричастны к тайной жизни наших воспоминаний и не можем объяснить, почему одно живет, а другое исчезает. И всё же есть встречи, дружба и любовь, когда кажется, что помнишь всё.
Хочется рассказать хоть немного, чтобы и другие прикоснулись к чуду явления, каким была Анна Андреевна Ахматова. Рассказать о ее днях и мыслях, с которыми она жила и которые осветили и нашу жизнь, и общение с нею.
Существо это странного нрава,
Портреты Ахматовой
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.
«Поэма без героя»
Красота Ахматовой – вечная радость художников! Свидетельство тому – целая галерея портретов! Во всех возрастах Ахматова была прекрасна. И даже в старости, отяжелев, она приобрела какую-то новую, величавую статуарность.
Каждый художник видел и запечатлевал Ахматову по-своему. На полотнах поэт предстает во всем многообразии обликов: в разных освещениях проступают различные грани характера и личности. Иконография ее огромна, и если девятнадцатый век дал самую большую иконографию лорда Байрона, огромное количество портретов Ференца Листа, то у нас, в России, стране великих прозаиков и поэтов, ни одному из них не посчастливилось иметь столько живописных портретов, как Анне Ахматовой.
Каждый, с кого писали портреты, знает то особое чувство, которое возникает между моделью и художником. Это очень своеобразный, отличный от всех других вид человеческого общения. Ахматова передала это так:
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,
И жаловался весело, и грустно
О радости не бывшей говорил.
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, –
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.
«Эпические мотивы»
Среди портретов Ахматовой соседствуют работы различных мастеров. Здесь и портрет ленинградской художницы Делла-Вос-Кардовской, и работы Амедео Модильяни, и Петрова-Водкина, и общеизвестные полотна Альтмана, Тырсы, Тышлера и других мастеров. Много и великолепных фотографий, но ни на одной из них не запечатлено самое удивительное выражение ее лица, которое появлялось, когда упоминались имена поэта Иннокентия Анненского и Михаила Булгакова. Воспоминания о них придавали ее лицу чудесное, нежное, слегка отрешенное выражение. Мне почему-то казалось, что в основе этого лежало особое чувство преклонения, с которым она к ним относилась.
У нее были маленькие, необыкновенно красивые руки, чей характерный жест слегка наметил на своем портрете Модильяни. Глаза ее были то синими, то серыми, иногда голубыми с фиалковым отсветом, как у ребенка после сна.
Голос был низкий, и часто, когда Ахматова начинала читать стихи, она не соразмеряла высоту, брала слишком низко и задыхалась к концу, уставала.
Ярость поэтаДовольно скоро после своего приезда в Ташкент Анна Андреевна обросла роем женщин, которых Алексей Федорович прозвал Ахматиссами. Часть из них, меньшая, состояла преимущественно из молодых девушек, искренне и по-настоящему любивших ее поэзию, и они с робким обожанием смотрели «на живую Ахматову».
Вторую часть представляли снобистические втируши. Они под любым предлогом хотели быть «около Ахматовой».
Третьи, чаще всего глупые и сентиментальные женщины, считали, что Ахматова – единственная достойная их исповедальня, где они могут изливать свои чувства и горести любовных неудач. Эти были на редкость бестактны и надоедливы.
Однажды мы застали Анну Андреевну в ярости. С красными пятнами на щеках она ходила по комнате, держа какое-то письмо, и восклицала: «Нет, это что такое! Что это такое? Я вас спрашиваю!» – и сунула мне в руки пространное послание. По своей бесстыдной доверительности оно превосходило все нормы примитивного приличия. Авторша с потрясающей въедливостью вторгалась в интимную жизнь Анны Андреевны и отождествляла ее со своей, так сказать, на равных. Вся бабья дурь, пошлость и наглость были выложены сполна, и я вполне поняла гнев Ахматовой.
Вдруг она яростно сказала: «Это всё равно, что написать Бабановой: «Говорят, что вы живете с дрессировщиком собак, это ничего, я сама живу с сутенером»». Неожиданно раздался громкий хохот Алексея Федоровича, аплодисменты и его крик: «Браво, Анна Андреевна, так их, так их!» Ахматова застыла и вдруг громко рассмеялась вместе с нами.
«Ах, если бы вы знали, как я люблю Ахматову и как ненавижу Ахматисс», – сказал он ей в тот вечер.
Когда Ахматова приходила уставшая и невеселая, он спрашивал ее: «Что, опять Ахматиссы?» – а она, бывало, только махнет рукой.
И это – при ее охолаживающей замкнутости и недоступности с незнакомыми людьми всех возрастов. Недаром многих охватывали смущение и оторопь немоты. Больше всего Ахматова ненавидела фамильярность и амикошонство. Не допущенные в ее мир мемуаристы теперь берут реванш за прежний запрет и фамильярничают с тем, к чему они при жизни Ахматовой не были причастны.
Война. Добро и злоКак трудно описать дружбу! Она состоит из такого множества прелестных примет, но все они так эфемерны и летучи. Казалось бы, не удержать их, как воду в горсти, – но плавясь, они не испаряются, а превращаются в бесценный слиток чистейшей пробы. Как мне кажется, две радости лежат в основе истинной дружбы – радость доверия и радость узнавания. Доверие приоткрывает душу, а узнавание, становясь все глубже, длится, пока жива дружба и сообщает малейшим ее проявлениям особую ценность. Мне бы не хотелось, чтобы мои воспоминания создали впечатление, что мы только и делали, что говорили об искусстве. Мы жили в войну, жизнь становилась все трудней для нас, не приспособленных к борьбе с голодом и бытовому неустройству. Голод был, прошел и забылся. Но есть два дня, которые я не могу вспоминать без душевного волнения.
Как-то мы ушли из дома, забыв закрыть окна. Когда вернулись, то увидели на подоконнике плитку шоколада. Это приходила Анна Андреевна, положила и ушла. Это она – блокадница, знавшая голодные виде́ния, принесла шоколад и, верно, радовалась, что не застала нас дома.
Второй случай был такой. До войны пришла как-то раз к нам молодая женщина. Она пришла показать Алексею Федоровичу свои эквиритмические переводы нескольких арий из оперы «Лейли и Меджнун» Рейнгольда Морицевича Глиэра. Сделаны они были профессионально, но ретивые переводчики решили отбить для себя заработок и начали третировать тихую застенчивую женщину. Алексей Федорович просмотрел ее работу, кое-что посоветовал, написал в издательство письмо, и Глиэр был издан в ее переводах.
Прошло около трех лет. Война была в разгаре, и мы вступили в самую трудную полосу нашей жизни. Чтобы выжить, надо было что-то продавать из вещей, как делали многие, на Алайском базаре. Это было очень трудно, мучительно и стоило большого напряжения. И вот стою я на базаре и держу в руках любимое свое платьице. Покупателей не было, а дома жили надеждой, что я хоть что-то принесу. Вдруг какая-то женщина взяла в руки платье, но, взглянув на меня, она растерянно воскликнула: «Как? Это вы?! Боже мой, боже мой! Неужели так плохо?!» – и быстро заговорила: «Милая, идите домой. Вот, возьмите, сколько у меня сейчас с собой, остальное я принесу вам домой вечером». Вероятно, я была очень бледна, потому-то она так настойчиво торопила меня домой.
Пришла она в сумерки, и за ней какой-то паренек внес в дом огромный мешок, полный всякой снеди. Гася наше изумление, она торопливо объяснила, что ее муж – директор какого-то крупного завода под Ташкентом, что они получают отличные пайки и чтобы мы, бога ради, не смущались.
Настала моя очередь глотать непрошеные слезы, а она смотрела на меня почти виновато своими добрыми газельими глазами.
Она ушла, просидев весь вечер с нами, ушла, и мы никогда больше ее не видели.
Война. Эвакуация. Тыл. Жизнь, разъединившая Россию надвое – на сражающихся и спасающихся (а также спасаемых). Эта жизнь совершалась в какой-то гофманиане[109]109
«Ту полуночную Гофманиану / Разглашать по свету я не стану…» – А. Ахматова «Поэма без героя».
[Закрыть] небывалых бед и страданий. Она объединяла осиротелых, потерянных людей в условиях голода, холода, неустроенности и вечного страха за собственное выживание и за близких там, в ужасах войны. Боль ежедневно сжимала сердца; казалось, что в мире остались только муки. И тут произошло поразительное обнажение человеческой сущности. Одни остались людьми с добротой и состраданием, ничего не утратив от своей нравственной сущности. Другие, чаще всего принадлежавшие к элитарным слоям интеллигенции, кого считали гордостью, совестью и честью нашего общества, вдруг теряли всё. Для них существовали только они сами, только их собственное утробное существование. Они рвали всё и у всех.
Как-то я с грустью заговорила об этом с Анной Андреевной, и она с той же грустью сказала: «Да, есть люди, у которых вместе с подошвой и душа отвалилась».
Случилось мне однажды увидеть у Анны Андреевны влажные глаза. Ксения Георгиевна Держинская, прекрасная певица Большого театра и лучшая дева Феврония в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», была и в жизни такой же светлой и душевной, однажды на трамвайной остановке увидела стоявшего на костылях кашляющего молодого солдата. Он был слеп. Держинская помогла ему подняться на площадку второго вагона. Со свойственной ей добротой и ласковой участливостью она заговорила с ним. В отчаянии юноша сказал, что ослеп навеки, что жизнь его кончена. Артистка спросила его, не пытался ли кто вернуть ему зрение. «Только Филатов бы мог, но он для меня недоступен», – горько сказал молодой человек. Ксения Георгиевна отвела больного к своему другу Владимиру Петровичу Филатову. Он положил ослепшего солдата в свою клинику и вернул юноше зрение. Когда я рассказала об этом Анне Андреевне, она, закрывая ставшие влажными глаза, несколько раз выдохнула: «Ах, как хорошо, ах, как хорошо!»
О писателяхВ своих суждениях о писателях Анна Андреевна не была чужда некоторого максимализма и непостоянства. Так, когда ей дали впервые прочитать «Прощай, оружие» Хемингуэя и спросили, что она думает о писателе, она сказала: «Просто обыкновенный гений». Говорят, годы спустя она невзлюбила Хемингуэя и отказывала ему в достоинствах. Хотя этому противоречит множество эпиграфов, которые она брала у писателя.
Она была удивительно пристрастна к Толстому за «Анну Каренину». Ахматова упрямо не могла простить его внутреннего осуждения Карениной. И ни эпиграф к роману[110]110
Эпиграф к роману – библейская фраза «Мне отмщение и аз воздам». В христианской трактовке: не мстите за себя, дайте место Божьему гневу.
[Закрыть], никакие доказательства не могли ее переубедить. Она считала, что в глубине души Толстой был врагом женщины, ушедшей от мужа. Она говорила: «Да, он, конечно, гениален, но…»
В противоположность Толстому Ахматова с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. Его Петербург и гоголевский зыбкий петербургский мир были словно ее почвой, на которой Ахматова воздвигла свой Петербург, полный ветром, облаками, деревьями и величавой пленительной красотой.
К Гоголю она часто возвращалась и видела в нем обладателя самого фантастического, самого фантасмагорического взгляда на жизнь и людей, когда-либо бывшего в России.
Не любила Ахматова и Чехова. Она говорила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает всё в серый камень. Всё у него скучно, и люди – серые и носятся со своей скукой и тоской неизвестно почему. И живут, не зная жизни».
В противоположность Цветаевой она не любила Брюсова. Разнося его в пух и прах, Анна Андреевна была и забавна, и неистощима: «Скажите, разве это поэт, который говорит себе: «Сегодня я должен написать два сонета, три триолета и один мадригал. Завтра мне надо написать балладу, романс и три подражания древним»?» Это «надо» и «должен» обыгрывались ею очень смешно. Ее не трогали ни эрудиция, ни ум Брюсова. Она предпочитала образованность иного склада, например как у Вячеслава Иванова.
О Блоке говорила редко. Он был для нее бесспорной очевидностью. Но существовало еще что-то неуловимое, скрытое в ее отношении к Блоку. Однажды я оказалась свидетельницей сцены, когда Ахматова, как говорится, взорвалась. Одна ее посетительница поведала, что в лекции, которую она только что прослушала в университете, лекторша рассказала о романе Ахматовой и Блока. «Боже! – почти закричала Ахматова. – Когда кончится эта чушь и вздор! Никогда не было никакого романа, ничего похожего на него!»
Посетительница пролепетала: «А как же стихи?»
«А поэтам свойственно писать стихи», – с убийственной иронией ответила Анна Андреевна. И вдруг, какое-то время спустя, Ахматова неожиданно сказала: «У него была красная шея римского легионера».
Одна из великих ее привязанностей – Осип Мандельштам. Она была беззаветно ему предана. Любила и высоко ценила его стихи, любила его веселый и остроумный нрав и дружбу его ценила как счастливый дар судьбы. Ахматова вспоминала о нем как о самом блистательном, самом верном, самом беззащитном человеке, горьком и трагическом поэте нашего времени.
Не было у Осипа Мандельштама большего друга, чем Анна Андреевна, и он это знал.
К Пастернаку было особое отношение, очень дружественное, с оттенком порой, я бы сказала, восхищенного изумления. Ахматову неизменно радовали стихи Пастернака. Они всегда были с нею. И если жизнь сложилась так, что встречи их не были так часты, как с Мандельштамом, то бывали всё же времена и периоды московской жизни, когда Борис Леонидович заходил к ней почти каждое утро.
Не забуду лица Анны Андреевны, когда она получила письмо Бориса Леонидовича, где говорилось о том, что он только что прочитал «Поэму без героя» и как взволновала его поэма. Это было удивительное пастернаковское письмо, полное хвалы и восхищения, и Ахматова читала его, растроганная, гордая и счастливая[111]111
Письмо Б. Пастернака о «Поэме без героя» было утрачено А. Ахматовой и нигде не публиковалось. Примеч. Е. Б. и Е. В. Пастернаков.
[Закрыть].
Помнится, при нас Анне Андреевне принесли телеграмму от М. Лозинского «Сегодня кончил «Рай»[112]112
М. Лозинский переводил «Рай» из «Божественной комедии», находясь в эвакуации в Елабуге. Перевод был закончен 14 сентября 1942 г.
[Закрыть]. Она просветлела, затем грустно сказала: «Вот какой блистательный переводчик, на радость людям, а ведь был поэт, писавший хорошие стихи. Поэтам опасно становиться переводчиками, они что-то в них пожирают». И вдруг: «Вот и Пастернак слишком много переводит, и мне жаль».
Великая культура и высшие духовные богатства присущи ей как дыхание, речь или походка. Духовность и культура пришли к ней путями, ведомыми только гениям, в противоположность усидчивому и долгому накоплению знаний просто образованных людей. Это и составляло пленительную и ошеломляющую красоту ее личности.
Трех кумиров пронесла Ахматова через жизнь, отдавая им жар поэтического восхищения и вдохновенного постижения: Данте, Шекспира и Пушкина. Данте она читала в подлиннике, каждый раз черпая из него музыку и глубокую мудрость.
Шекспира Ахматова читала на английском, и весь его огромный мир был ясен ей и ведом до последней строчки. Темные места его архаизмов прочитывались ею легко и без задержки, без помощи лингвистов-англичан. Это редкостное чутье и понимание всегда поражали. Анна Андреевна в сфере «своего» Шекспира была ослепительна. Однако английское произношение ее было неважным и часто непонятным, на мой слух. Ей же нравился мой английский язык, и она довольно часто просила читать ей Шекспира вслух.
Мы очень любили перечитывать начало пятого акта «Венецианского купца» с удивительными стихами Лоренцо и Джессики: «В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу». Я часто думала, не эти ли строки Шекспира заворожили Ахматову, так как образ Дидоны не раз встречается в ее стихах, хотя «Энеида» была всегда под рукой. Ахматова довольно равнодушно выслушивала мои рассказы о шести великих Гамлетах, виденных мною на английской сцене.
Анна Андреевна сказала о женском поэтическом творчестве, что за всю жизнь она встретила только двух абсолютно подлинных поэтов – Марину Цветаеву и Ксению Некрасову. (Кстати, она не признавала слова «поэтесса». Всегда говорила: «поэт».) Бесспорность Цветаевой была очевидна, но появление Некрасовой многих поставило в тупик.
Некрасову, трудную и не похожую на других, Ахматова очень ценила, верила в нее и многое ей прощала. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрически агрессивную Некрасову легко было высмеять и оттолкнуть. Но Анна Андреевна прощала Ксении все выходки, видела ее внутренний поэтический мир. Дар Некрасовой Анна Андреевна воспринимала как причудливое дерево, выросшее в загадочном лесу. Да и сама Некрасова была словно дитя, вышедшее из этого леса, мало что знавшее о людях и еще меньше – о себе самой. Подобно Вилье де Лиль-Адану, Ксения любила создавать себе родословные. Но если француз придерживался одной версии (потомок королей Южной Франции), то Некрасова свои версии забывала. Однажды она сказала моему мужу, что она дочь Григория Распутина. Наивная самозванка и не подозревала, что настоящая дочь Распутина была известной укротительницей львов и долго и с успехом выступала в цирках Европы и Америки.
Как-то к нам пришел флоберист Эйхенгольц. Среди разговоров Алексей Федорович спросил его, не страшно ли ему было взяться за перевод «Иродиады»[113]113
«Иродиада» Г. Флобера.
[Закрыть] после Тургенева? Ученый спокойно и невозмутимо ответил, что у Тургенева перевод свободный и неточный, а его – точный.
Через день пришла Ахматова, и как-то сам собой вспомнился разговор с ученым-флоберистом. К моему удивлению и огорчению, высказывания Анны Андреевны о Тургеневе носили тот же самый оттенок снисходительности, полууважительности, которые свойственны именно русским, как современникам, так и многим потомкам. Кроме поколения, возведшего Тургенева в кумиры еще до «Отцов и детей», сколько русских литераторов и мемуаристов с удовольствием щипали его за икры, начиная от пожизненной неприязни Льва Толстого до женского шипения Панаевой! Все они искали изъяны в характере и поведении Тургенева.
Я высказала Анне Андреевне свои огорчения и сказала: «Всю жизнь удивляюсь тому, что ни один литературовед не написал исследования «Тургенев глазами русских и великих деятелей европейской культуры». Ведь каким неоспоримым авторитетом, непререкаемым мэтром, высокой личностью был наш Тургенев для Флобера, Гонкуров и всех французских писателей младшего поколения. Почти нет современника на Западе, который, встретившись с Тургеневым, не оставил бы записей, полных удивления и восклицаний. Как благодарно писал о нем Генри Джеймс, признавая плодотворность влияния Тургенева на свое творчество! Всех не перечесть. Но это несходство отношений к Тургеневу там и тут, у своих соотечественников, всегда поражает!»
Анна Андреевна не рассердилась на мою запальчивость и, смеясь, сказала: «Ну, вот вы и напишите эту книгу».
Но где мне, литературоведу без доступа к материалам, было подумать о таком начинании!
Разговор о Тургеневе сам собой перешел на Виардо. Заговорили о порабощении страстью, о разных формах неравенства в любви, о ее слепоте, порой роковой.
Легендарно постыдная жадность Виардо к деньгам всегда отвращала, и я излила всю свою неприязнь к ней. Чтобы смягчить мое ожесточение, Алексей Федорович сказал: «А знаете вы, что у Виардо был прелестный композиторский дар? Сейчас я вам покажу».
И, сев за рояль, он спел романс на стихи Пушкина на русском языке. Действительно, очаровательный романс. Алексей Федорович обратил наше внимание на естественность и свободу, на безупречность русской речи. Лукаво добавив, что сама Виардо была очень талантлива, у нее были сверх того два небесталанных редактора: литературный – Тургенев, музыкальный – Франц Лист.
Анна Андреевна тут же заинтересованно спросила Алексея Федоровича, откуда ему известен этот романс (к стыду своему, не помню уже сейчас, какое именно стихотворение Пушкина это было). И Алексей Федорович рассказал, как в детстве к ним в дом приходила и дружила с его братьями известная камерная певица Мусатова-Кульженко. Братья много ей аккомпанировали, даже на концертах. Она была известна как превосходная исполнительница Клода Дебюсси. Мусатова-Кульженко долго жила в Париже. Дебюсси очень ценил ее и не раз аккомпанировал ей свои произведения на сольных концертах певицы. Не знаю точно, от кого, но Мусатова-Кульженко, будучи вхожа во многие русские дома, где-то услышала этот романс Виардо. Она переписала его и часто пела. Алексей Федорович сказал, что даже помнит формат переписанных листов.
Как-то разговор зашел о Дебюсси. Анна Андреевна сказала: «А я была с ним знакома». Едва Ахматова заговорила о Дебюсси – одном из самых любимых композиторов Козловского – и он стал ее расспрашивать, разговору помешал стук в дверь: мужу принесли повестку в военкомат, и Дебюсси был забыт.
Много лет спустя в Москве при встрече с Анной Ахматовой произошел волнительный для Алексея Федоровича случай. На вопрос Анны Андреевны, чем он занимается в последнее время, Алексей Федорович ответил: «Недавно дирижировал симфонию Франка, и Дебюсси – «Послеполуденный отдых фавна», «Празднества», «Облака», и собираюсь играть «Море»».
И тут Ахматова рассказала, как однажды во время банкета, который давал знаменитый дирижер Кусевицкий в честь французского композитора Дебюсси, рядом с Анной Андреевной весь вечер сидел Дебюсси. В конце он подарил Ахматовой музыку своего балета «Мученичество святого Себастьяна», сделав на партитуре дарственную подпись. Постановка этого балета в Париже прошла не без скандала. Себастьяна танцевала Ида Рубинштейн, и архиепископ Парижский метал громы и молнии: в проповедях своим прихожанам он взывал не смотреть на кощунство гнусного безбожника Д’Аннунцио[114]114
Архиепископ Парижа призвал прихожан не посещать премьеру драматического балета-мистерии итальянского поэта Габриэле д’Аннунцио и композитора Клода Дебюсси «Мученичество святого Себастьяна». Роль святого мученика была написана специально для Иды Рубинштейн.
[Закрыть].
И вдруг Анна Андреевна, повернувшись к Алексею Федоровичу, сказала: «Я вам подарю партитуру Дебюсси».
И, улыбаясь, подошла к телефону, набрала номер своей ленинградской квартиры и, указав Ирине Пуниной[115]115
Ирина Пунина – дочь Н. Пунина, третьего мужа Анны Ахматовой.
[Закрыть], где лежат ноты, велела немедленно выслать их в Москву Ардовым. Козловский был счастлив! Но как же опечалились они оба, когда на следующий день из Ленинграда ответили, что ноты не нашлись.
Просто там Ахматову ослушались, не захотели отдать уникального дара.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.