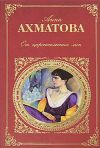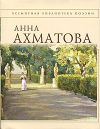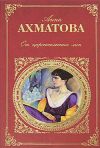Текст книги "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Автор книги: Галина Козловская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
Как-то Сергей Никифорович сказал неожиданно Алексею Федоровичу: «Вчера у меня была встреча с Константином Сергеевичем Станиславским, и он попросил меня порекомендовать молодого, не испорченного штампом талантливого дирижера для работы в его оперном театре. Я рекомендовал ему тебя. Завтра тебя ждут в четыре часа в Леонтьевском переулке».
С трепетом пришел Алексей Федорович в знаменитый особняк Станиславского, где в белом зале с колоннами был поставлен «Евгений Онегин», где родился оперный театр имени Станиславского, а белые колонны стали навсегда эмблемой этого театра. Услышав, что посетителя ждут, швейцар почтительно проводил его на второй этаж и указал на тяжелую полированную дверь с медной ручкой. Хорошо знакомый по спектаклям МХАТа голос сказал: «Войдите», – и навстречу встал красивый седой человек и приветливо улыбнулся с тем самым, прославленным на портретах, прищуром глаз. Рука у него была большая и теплая. Константин Сергеевич оказался совсем не таким, каким бывал на репетициях и показах, где царили его воля, взыскательность и строгость. Ничто никогда не укрывалось от его всевидящего глаза на сцене, хотя в жизни он был близорук.
Станиславский проговорил со своим молодым посетителем больше трех часов. Решено было дать ему для дебюта «Евгения Онегина». За две недели до этого должен был состояться торжественный показ «Онегина» под управлением Вячеслава Ивановича Сука. Алексей Федорович пришел домой влюбленный, очарованный и счастливый.
До дебюта Константин Сергеевич не раз вызывал к себе молодого дирижера и расспрашивал, как идут репетиции. Он подолгу учил его тайнам расслабления мышц, борьбе с непроизвольным мышечным напряжением и в пример ставил кошку, которая, ложась на песок, оставляет отпечаток всего своего тела. Еще до дебюта и потом, когда Алексей Федорович вел спектакль, Станиславский заставлял его на репетициях танцевать все танцы из «Онегина» вместе с артистами. Алексей Федорович с великим удовольствием танцевал оба бала и даже получил одобрение балетмейстера Поспехина, на что, смеясь, ответил: «На то я чуточку поляк, а они народ танцующий».
Иногда встречи происходили в обстановке отдыха, Константин Сергеевич просто беседовал и делился воспоминаниями. Как-то он потряс Алексея Федоровича рассказом, как в холодный ветреный день ехал на извозчике и, приближаясь к мосту через Москву-реку, увидел стоящего в воде человека. Человек был в пальто, вода достигала ему до подмышек. И вдруг Константин Сергеевич с удивлением узнал Петра Ильича Чайковского. С искаженным лицом Петр Ильич медлил окончательно погрузиться в воду, Станиславский с извозчиком бросились к нему и вытащили не сопротивлявшегося Чайковского. Извозчик во весь опор погнал лошадь и привез к Константину Сергеевичу окоченевшего, мокрого Петра Ильича. Здесь его отпаивали коньяком, горячим чаем, надели всё сухое и, отогрев, закутав в шубу, повезли домой. Петр Ильич молчал и всё дрожал. Это была попытка самоубийства Петра Ильича после злосчастной его женитьбы. Вот, оказывается, кому потомство обязано его жизнью и спасением. Чайковский долго после этого болел и не скоро оправился. Трепетно и страстно прозвучал этот рассказ-воспоминание в затемненном кабинете Константина Сергеевича[33]33
Возможно, эта история была придумана К. Станиславским.
[Закрыть].
Настал наконец счастливейший, долгожданный для Алексея Федоровича день встречи с Вячеславом Ивановичем Суком. Он был торжественно представлен своему кумиру, и вскоре Вячеслав Иванович положил ему руки на плечи и с милым чешским акцентом сказал: «Дайте мне на вас посмотреть поближе. Да, у вас хорошее лицо. У дирижера должно быть хорошее лицо». У него у самого было лицо, которое хотелось расцеловать, милое, бесконечно доброе и светлое. Через некоторое время он сказал: «Говорят, что вы подражаете мне. Я сам десять лет подражал Направнику».
Репетируя перед спектаклем у Станиславского, Сук поставил Алексея Федоровича справа у барьера оркестровой ямы и в каких-то местах поворачивался к нему, кивая головой, обращая его внимание, как надо дирижировать данным местом. Спектакль с Суком был праздником для артистов театра и для Москвы. Дирижерский пульт был обвит цветами, Сук дирижировал сидя.
Знаменитый дирижер приглашал Козловского к себе домой (познакомил со своим попугаем, который кричал: «Сук, браво!»), расспрашивал, у кого и в каких объемах Алексей Федорович проходил строгий стиль – «А я проходил только по Беллерману», рассказывал о своих волнениях перед выступлениями и как каждый раз принимает валерьянку перед увертюрой к «Руслану и Людмиле». Присутствовал он и на последних репетициях дебютанта, а на самом дебюте из-за внезапной болезни быть не смог, но в каждом антракте справлялся по телефону, как чувствует себя дирижер и как ведет спектакль. Заканчивал всегда: «Я рад. Я за него спокоен». Позднее он говорил: «Я его крестный папа».
Дебют Алексея Федоровича прошел отлично. Оркестр и певцы приняли его сразу. Вечер его первого спектакля был отмечен большим количеством особых слушателей. Кроме его профессоров – Мясковского, Василенко, Жиляева, Конюса и, конечно, Хессина, было много музыкантов и композиторов разных поколений и студентов Консерватории. Козловский приобрел себе внезапно много друзей в среде музыкальной и художественной Москвы. На спектаклях «Онегина» стало традицией у публики встречать его аплодисментами после «Ларинского бала». Константин Сергеевич хмурился – это было против «студийных правил», – но публике не прикажешь. В это время Алексей Козловский близко сошелся с Львом Книппером, подружился с Половинкиным (одним из самых блестящих остроумцев музыкальной Москвы), трудным Мосоловым и Николаем Раковым.
Работая в Театре Станиславского, Алексей Федорович посещал все репетиции Константина Сергеевича. Станиславский поражал его своей зоркостью. Однажды актер, игравший Пимена в «Борисе Годунове», показал свой грим великому режиссеру. Станиславский беспощадно забраковал его, после чего сам на глазах у всех сделал новый грим, и Пимен внезапно стал куда более подлинным, сохранив при этом некоторую театральность образа.
Изумляла музыкальность Станиславского. Однажды, во время работы над постановкой «Севильского цирюльника», показывая пример, он запел партию Фигаро, запел звучным голосом оперного певца и сыграл как замечательный драматический актер. Алексей Федорович вспоминал: «Какой голос, свежий, удивительный, а дикция – никогда не слышал ни у одного певца, чтобы так музыкально звучало слово».
Однажды певица, исполнявшая арию Шамаханской царицы в «Золотом петушке» Римского-Корсакова, никак не могла угодить Константину Сергеевичу. Ей надо было пропеть фразу «Между небом и морем висит островок». Станиславский пропел двенадцать вариантов возможного воплощения этой фразы. Она переливалась, превращаясь в пленительную колдовскую тайну, что-то неведомое мерцало за явным смыслом строк. Против всех «студийных правил» артисты зааплодировали мастеру. Он умел показывать не то, «как в жизни», что закрепилось за МХАТом, а то, «как в поэзии».
В это же время Алексей Федорович приобрел преданного друга в лице уже немолодого Владимира Владимировича Держановского. До революции Владимир Владимирович возглавлял журнал «Современная музыка», на страницах которого освещались события музыкальной жизни России, подробно разбиралось концертное исполнительство выдающихся гастролеров, сообщались музыкальные новости из-за рубежа и т. д. У Держановского стало обычаем собирать у себя композиторов и музыкантов раз в десять дней. На эти декадные вечера приходили музицировать, пообщаться и попить чаю хотя и разные по возрасту деятели, но в общем связанные родственными вкусами и устремлениями. Сергей Прокофьев, живший тогда еще в Париже, очень любил Держановского и часто посылал ему посылки с чаем. «Это для твоих декадентов», – шутливо писал он о посетителях декад.
Владимир Владимирович после дебюта Козловского почувствовал необыкновенную нежность к Алексею Федоровичу, завлек к себе не только на декадные вечера и делал всё возможное, чтобы помочь ему в жизни и искусстве. Когда встал вопрос о том, чтобы немецкий дирижер Оскар Фрид исполнил в концерте увертюру Козловского, а оркестровые голоса не были готовы, Держановский несколько ночей подряд переписывал голоса собственноручно.
У Держановского Алексей Федорович имел возможность наблюдать своего учителя Николая Яковлевича Мясковского в домашнем и дружеском кругу. Мясковский с непривычно нежным выражением лица целовал руку жене Держановского (в прошлом хорошей камерной певице), но, хотя он и был здесь чуточку приветливей и раскованней, всё же сохранял свое обычное выражение «не тронь меня». Он редко смеялся и не шутил, и только однажды Алексей Федорович заметил у него какие-то смеющиеся искорки в глазах. Случилось это при следующих обстоятельствах. Большим другом дома был дирижер Сараджев. И вот он однажды недостаточно почтительно, как показалось Козловскому, отозвался о Вячеславе Ивановиче Суке. И тут Козловский, молодой человек, в сущности, мальчик среди взрослых почтенных людей, набросился на Сараджева с такой горячностью и непочтительностью, что все остолбенели. Держановский всё ходил вокруг, приговаривая: «Ну как не стыдно? Что, как петух, взъерепенился?» К чести Сараджева надо сказать, что он не обиделся на юного забияку. Николая Яковлевича это пылкое заступничество явно позабавило. И на следующем уроке он сказал: «Да вы, оказывается, умеете защищать своих кумиров».
Когда умер Вячеслав Иванович Сук, у Алексея Федоровича не хватило сил пойти с ним проститься. Он уехал за город и до ночи пробродил по лесам, горюя и любя. Мелик-Пашаев и оркестр Большого театра сыграли «Траурный марш» Вагнера гениально, многие, слышавшие прощание, годы спустя говорили об этом исполнении как о вершине вдохновения.
Мелик-Пашаев появился в Москве новой ослепительной звездой. Молодой музыкант уже имел за плечами множество продирижированных опер в Тбилиси. Он дебютировал в Большом театре «Аидой» на другой день после дебюта Козловского в Театре Станиславского. Алексею Федоровичу передали, что Мелик-Пашаев не хотел верить, что дебютант впервые встал перед живым оркестром и оперной труппой. После прослушивания пашаевской «Аиды» Алексей Федорович горячо полюбил этого музыканта, и после Сука он оставался для него самым ярким и талантливым из дирижеров Большого театра.
Когда вернулся в Россию Прокофьев, Москва встречала его восторженно. В концерте в Большом театре он дирижировал Классической симфонией, маршем из «Трех апельсинов» и впервые прозвучавшими в России отрывками из «Огненного ангела».
Москва тех дней перевидала и переслушала великое множество превосходных музыкантов и дирижеров. Приезжали Вейнгартнер, Штидри, Конвичный, Фрид, Георг Себастьян и гениальный Отто Клемперер. Все были влюблены в этого огромного роста человека, выходившего на эстраду с удаленной дирижерской подставкой, с которой он продолжал возвышаться над оркестром.
Страшно было узнать потом, как, спасаясь от нацистского ареста, Клемперер выпрыгнул из окна и сломал себе ногу, покинул родину и много пережил. Это было время, когда на вопрос Алексея Федоровича, обращенный к Оскару Фриду, кто сейчас главный дирижер в Европе, тот, вскинув руки и злобно оскалясь, закричал: «Гитлер, Гитлер!» Фрид в дни фашистского разгула нашел пристанище в Советском Союзе и жил в Москве.
На смену вулканическому чуду Клемперера приехал «холодный» швейцарец Эрнест Ансерме, дирижер и профессор математики. Внешне Ансерме был красив, элегантен и отстраненно-обаятелен. Это был великий интерпретатор Дебюсси, воплотивший и показавший миру красоту французского гения. Дебюсси посвятил ему не одно свое произведение.
У четырех прудовОднажды, продирижировав дневной спектакль «Онегина», Алексей Федорович, торопясь домой, не остыв, мокрый и не сняв фрака, накинув шубу и не запахнувшись как следует, вышел на улицу в лютый мороз с сильным ветром. К вечеру он пылал, и оказалось, что он заболел сильнейшим воспалением легких. Врачи долго боролись за его жизнь. Он выжил, но на поправку шел долго и трудно – почти пять месяцев.
Театр в это время не мог быть без дирижера: когда Алексей Федорович выздоровел, на его месте за пультом был другой. Не делая больше попыток заняться дирижированием, Козловский полностью ушел в композицию. В это время три режиссера предложили ему написать музыку к спектаклям для постановки в ЦЕТЕТИСе (теперь ГИТИС)[34]34
ЦЕТЕТИС – Центральный техникум театрального искусства.
[Закрыть]. Для Мордвинова он написал комсомольскую оперетту «Дружная Горка». Студенты пели и играли весело и увлеченно, а музыка была свежая, легкая, с хорошим мелосом[35]35
Мелос (греч.) – напев, мелодия.
[Закрыть]. Вскоре ее распевали все студенты ЦЕТЕТИСа. Вслед за этим режиссер Баратов предложил Алексею Федоровичу написать музыку к пьесе «Авангард» Катаева.
Увлекательной была работа с талантливым оперным режиссером Андреем Павловичем Петровским. В прошлом оперный певец, он был известен в том числе как замечательный мастер грима. Он ставил в ЦЕТЕТИСе «Укрощение строптивой» Шекспира. Алексей Федорович написал ряд номеров к этому спектаклю, задавших общий тон. Среди них – «Поющая Кровать» и «Урок Катерине».
Консерватория осталась позади, годы ученичества окончились, театра больше не было, здоровье было подорвано. Врачи требовали переезда куда-нибудь на природу, на воздух.
И тут судьба дала нам возможность сменить московскую комнату на домик в деревне Степановское[36]36
В Красногорском районе Московской области.
[Закрыть], открытой нами во время загородных поездок. Домик был бревенчатый, последний на хуторе, у края леса, неподалеку от слияния Москвы-реки и Истры. Широкие прибрежные луга окружали деревню со всех сторон. Внизу был большой пруд с островками и деревьями, за ним еще три копаных пруда времен Екатерины Второй. От прудов к бывшей барской усадьбе XVIII века, принадлежавшей Долгоруковым, вели липовые и лиственничные аллеи. Здесь будто бы однажды принимали Екатерину Вторую, и на одном из островов был сооружен ее вензель.
Зимой в избе было холодно, поэтому на русской печи устроили постель с лампой, книжной полкой и радиоприемником. Рояль, органчик регаль[37]37
Небольшой клавиатурный инструмент, род органа.
[Закрыть], книги и немножко старинной мебели помогли создать уютное жилище. Трудности быта без всяких удобств преодолевались по-молодому бодро, а плавание и лодка летом, дальние лыжные прогулки и спанье на укрытой русской печи вернули нам здоровье. Меня покинул начинавшийся туберкулез, а у Алексея Федоровича исчезли все последствия воспаления легких.
И началась уединенная, творчески сосредоточенная жизнь. Две стихии главенствовали в жизни Алексея Федоровича – музыка и природа. Проживая сменяющиеся времена года, он почувствовал особый прилив творческих сил. Здесь началась вспышка поэтического творчества. Он писал стихи днем и ночью. Иногда сочинение музыки соседствовало с сочинением стихов. Здесь много читалось, о многом думалось. Порой он начинал диктовать мне свои мысли об искусстве, о его символах, о кочующих сюжетах у разных народов, о стихотворных размерах древних и многом другом. К сожалению, при переезде эти записи оказались утерянными.
Долгий, многолетний запой Бахом уступил место увлечению Востоком. Оно пришло к нему, как и ко многим европейцам, через рубайат Омара Хайяма, – он даже попробовал написать музыку к некоторым стихам. Впоследствии, уже в Ташкенте, перебирая бумаги и наткнувшись на это сочинение, он рассмеялся и сказал: «Какая чушь! Что за беспомощное создание!»
Но уединенность не означала затворничества. Москва, в сорока километрах, с ее театрами, концертами, друзьями была доступна, пройти пять километров через лес пешком до станции было удовольствием. А там все театры, концерты, друзья и близкие, всему можно было вдоволь порадоваться. Познакомились мы и со степановскими колхозниками, а с некоторыми из них подружились. Они приглашали нас в гости и на праздничные застолья. Увы, деревня была на редкость немузыкальна. И тут он не раз вспоминал своих масловских «соловьев». Из поколения в поколение молодежь пела одну и ту же песню – «Прощай ты милка, дорогая». И хотя существовало радио, ничто не прививалось. Во время застолий репертуар расширялся еще на две песни: нестройными голосами они выводили «Шумела буря, гром гремел» и «За Доном гуляет казак молодой».
Но композитор решил попробовать исправить это положение: предложил молодежи приходить к нему в определенное время – учиться петь хором. По вечерам стали приходить человек двадцать девушек и парней, и дело неожиданно пошло хорошо. Больше всего они полюбили «Щедрик» Леонтовича[38]38
«Щедрик» – рождественская украинская народная песня, колядка, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Н. Леонтовича.
[Закрыть] и «Высота ли, высота поднебесная» из «Садко» Римского-Корсакова. Мы возили их показывать свои достижения к шефам колхоза – в Тушинский аэроклуб. Шефы остались очень довольны, наградили хор подарками, а Алексея Федоровича предложили «покатать» – на самолете.
В ясный зимний день он приехал к своим новым друзьям-летчикам, они посадили его в открытую машину «У‑2» и пристегнули ремнями, затем он услышал доброжелательный голос майора Добкина, напутствующего летчика: «Ты же смотри, всё ему покажи. Возьми горизонт, сделай штопор и мертвую петлю, и всё такое», – Алексей Федорович ужаснулся, хотел протестовать, но пропеллер завертелся, и самолет с ревом побежал. «Катание» оказалось нелегким испытанием. Алексей Федорович видел, как сидящий впереди за рулем летчик внимательно в зеркале следит за его лицом, когда сиденье куда-то уходило, земля вставала перпендикулярно и ветер врывался в легкие с оглушительным свистом. Солнце сверкало, всё вращалось, плыло в глазах, и возвращение на землю показалось благословенным чудом. Он понял, что он не рожден летать. От гостеприимных предложений «еще покататься» категорически отказался.
Летчики из аэроклуба зачастили к нам – учили нас стрелять (у Алексея Федоровича это всегда хорошо получалось), таскали воду из ручья под горкой, ставили самовар, играли в чехарду, когда не смотрел командир, и всячески веселились. Вечерами Алексей Федорович играл им Шопена и Листа, но они про себя считали, что вершина музыки – это полонез Огинского. Под этот полонез они уезжали, и многие больше не вернулись. Летчик, возивший Алексея Федоровича, разбился через неделю, и почти все, побывавшие у нас, в течение полутора лет погибли. Так что показательные фигуры высшего пилотажа – совсем не такая невинная штука. Очень мало кто из них дожил до войны, когда они были так нужны.
Через некоторое время председатель колхоза сказал нам, что они решили считать нас почетными колхозниками. Вместе с другими в очереди Алексей Федорович назначался в ночное дежурство охранять деревню. Ему дали ружье и колотушку, и он ходил из конца в конец по единственной улице деревни и стучал в колотушку, пропевая любимое вагнеровское творение, воображая средневековый готический город Нюрнберг, который Вагнер населил певцами и мастерами[39]39
Речь идет об опере «Нюрнбергские мастера пения».
[Закрыть]. Мог ли он предположить, когда доходил до слов ночного сторожа «Берегитесь козней домовых!», что очень скоро, через несколько лет, из-под готических крыш сказочного Нюрнберга вырвутся орды самых страшных домовых двадцатого века, разлетятся во все стороны и зальют полмира кровью. Не знал он, что остановятся они перед этими самыми избами, спящими в снегах России. (Их остановила река, они не переступили ни одного порога, только поглядели на эту деревеньку, охраняемую луной и морозом. И верно, ни один не подумал, что отсюда зачинается их конец.) Алексей Федорович не знал тогда, что и над ним нависла беда, что очень скоро жизнь его изменится кардинально и навсегда. Но тогда колотушка охраняла сон и тепло, и музыка не ведала беды.
День, прожитый в солнечной прелести[40]40
Рассказ Галины Козловской о поездке Бориса Пастернака в Степановское. Первая публикация: журнал «Музыкальная академия», 1991, № 1.
[Закрыть]
Мой интерес к явлению, называемому предопределением, начался давно – после беседы с дирижером Евгением Мравинским. Он страстно желал постичь его суть и его влияние на человеческую жизнь и судьбу. Мравинский любил рассказывать один случай, на мой взгляд, несколько прямолинейный, но, безусловно, забавный. Великий английский дирижер Альберт Коутс родился в ложе Мариинского театра. Во время репетиции какой-то оперы мать его была вынуждена прекратить репетировать и в одиночестве справилась с внезапным рождением сына. Мравинский в этом рождении видел предопределение того, что младенец станет дирижером.
Годы спустя я вывела для себя две непреложности.
Закон предопределения непреложен, когда встреча с каким-либо человеком неотвратима, как судьба.
Вторая непреложность, роковая, непреодолимая, – это предопределенность «невстречи». Никакие человеческие усилия, желания побороть неумолимое «нет» закона «невстречи» никогда ни к чему не приводили.
О такой «невстрече» и пойдет речь. Но до этого я хочу рассказать о человеке, имевшем большое влияние на мою судьбу и ставшем одним из действующих лиц жизненной новеллы, связанной с главной темой моего рассказа.
Однажды днем я пришла в Дом Герцена к моим друзьям Иосифу Уткину и его жене. И вдруг неожиданно зашла к ним художница Евгения Владимировна Пастернак, бывшая жена поэта Бориса Пастернака. Она приветствовала всех какой-то удивительной улыбкой, которая озарила ее лицо, прелестное и своеобразное. Я никогда до этого не встречала улыбки, так свежо и полно раскрывающей приветливость души. Какое-то время Евгения Владимировна участвовала в веселой беседе, а затем вдруг умолкла. Я заметила, что она долго и сосредоточенно рассматривает меня. Потом вдруг сказала, что должна написать мой портрет. И, не обращая ни на кого внимания, тут же увлекла к себе в квартиру этажом ниже.
Она тогда жила в Доме Герцена, на первом этаже, и две ее комнаты, выходившие окнами на Тверской бульвар, были наполнены солнцем и светом, и в них ей, видимо, хорошо работалось. Мольберты и подрамники стояли у стен, здесь было удивительно чисто, несколько предметов старинной мебели придавали комнате вид легкого, ненавязчивого изящества – ни следа богемного неряшества и беспорядка. А сама хозяйка, стройная и красивая, с особым разрезом казавшихся узкими глаз, с той же белозубой улыбкой «взахлеб»[41]41
Отсылка к стихотворению Б. Пастернака «Годами когда-нибудь в зале концертной…» (1931) о Е. В. Пастернак: «…Художницы робкой, как сон, крутолобость, / С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, / Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, / Художницы облик, улыбку и лоб».
[Закрыть], была прелестна и в полной гармонии со своим жилищем.
Когда я проходила через первую комнату, худенький мальчик лет десяти встал и вежливо меня приветствовал. Это был Женя, сын Евгении Владимировны и Бориса Пастернака. Незадолго до того они расстались, и к моменту нашего знакомства Борис Леонидович женился на Зинаиде Николаевне Нейгауз. Женя тяжело переживала разрыв с Пастернаком и эту боль носила в себе до конца дней своих. Но оставленная жена была художницей, и могу засвидетельствовать, что никогда ни у кого я не встречала более глубокого понимания поэзии Бориса Леонидовича и более глубокой любви к ней. И ему ее понимание и любовь были нужны. Между этими двумя людьми, несмотря на разрыв, существовала глубокая духовная связь. Он неизменно приносил ей всё только что написанное и в ее отзывах получал для себя нечто важное и нужное. Мало кто знал тайну этой необорванной духовной связи.
Я стала приходить почти каждый день – позировать Жене. Скоро модель стала другом, а потом любовь и глубокая привязанность связали нас на всю жизнь. Иногда я засиживалась до вечера, и за мной заходил мой муж, Алексей Федорович Козловский, и мы шли в любимый Камерный театр, который находился совсем рядом, в соседнем доме.
Постепенно я стала узнавать Женю как человека. Она никогда не скрывала своих симпатий и антипатий, относилась непримиримо к людям и явлениям, которые считала дурными. И стараниями таких людей утверждалось расхожее мнение, что Женя – трудный человек. Действительно, характер у нее был сложный, и сама она от этого часто страдала. Но удивительно, что резкость ее характера исчезала в ее живописи. Я не знаю, что она взяла у своего учителя Фалька, но кисть ее была лирична и полна удивительной нежности к своим моделям.
Женя обладала великим чувством дружбы. Своим друзьям, которых любила, отдавала себя всю, но эта любовь окрашивалась странной ревностью. Так, лучшим ее другом была скульптор Сарра Лебедева. Но Женя делала все, чтобы та никогда со мной не встретилась. По-видимому, каждая из нас оставалась для нее единственной, и она не хотела, чтобы мы отбирали у нее даже частичку друг друга.
В общении с другими, приятными ей, людьми она проявляла открытость и великодушие. Нужно сказать, что природа наделила ее редкой силой – силой женской притягательности, и поклонение многих, увлекавшихся ею, казалось, не оставляло места для тоски и одиночества. Однажды я пришла и увидела Женю сидящей на полу среди груды писем. Ее красивые черные волосы необычно обрамляли крутой лоб, на щеках горели красные пятна, и глаза были мученически заплаканы. Женская печаль, как она вечна, – печаль утрат и сожалений! Мне хотелось заплакать и исчезнуть, но она увидела меня. Я тогда еще не знала тютчевского стихотворения «Она сидела на полу / И груду писем разбирала…», но потом, если приходилось вспоминать его, я видела Женю, а не Денисьеву.
Женя познакомила меня с миром пастернаковской поэзии. Поначалу я не читала стихов Пастернака – он открывался мне со всем колдовством в жгучем упоении Жениного голоса. Это чтение было какой-то особой потребностью ее души. Для меня Пастернак становился откровением. И мой муж делил со мной любовь к поэзии Пастернака. Эта любовь была одержимостью.
Затем каждое новое его произведение было событием в духовной жизни, и его стихи стали вечными спутниками в моей долгой жизни. К тому времени, когда она познакомила меня с ним самим, он уже был для меня чудом несомненной гениальности. Было чудом, что он – человек, который живет и дышит, который может улыбнуться и сказать тебе: «До свидания».
За свою долгую жизнь я много встречала разных людей, великих и не великих, но никогда ни один человек не вызывал у меня такого сложного чувства. Высота его поэзии утверждала его в той сфере прекрасного, которая словно исключает обыденность простого человеческого существования.
Пастернак вошел в мою юность вскоре после детства, когда счастливое чувство изумления и восторга каким-то особым инстинктом преклонения отделяет великое от обыденного. Верность этому чувству и делала мое отношение к Пастернаку-Поэту и Пастернаку-человеку таким сложным, когда восхищение и преклонение перед художником переплетены с робостью перед явью его человеческого существования. И боязнь, что всё это откроется ему, пугала и сковывала.
И вот настал день, когда Женя познакомила меня с Борисом Леонидовичем. Пришлось призвать на помощь всё мое воспитание, чтобы скрыть робость, поначалу охватившую меня. Но постепенно всё стало естественно и просто. Вспомнилось, что я никогда ни от кого не слышала про то, как Пастернак смеялся. Но Боже! Какой же это был удивительный смех, когда он читал шекспировские озорства, – веселый и счастливый, какой-то детский и радостный!
Любя меня и моего мужа, Женя много рассказывала о нас Борису Леонидовичу. Также Генрих Густавович Нейгауз, вспоминая Козловского, говорил Пастернаку не раз о замечательных дарованиях молодого композитора и дирижера. И Борис Леонидович сам выразил желание с ним познакомиться. Много раз представлялась возможность знакомства этих двух людей. Но тут вступал негативный закон предопределения. То мы приходили к Жене и она сообщала, что Борис Леонидович только что ушел, то Алексей Федорович уходил от Жени за несколько минут до прихода поэта. Не раз назначались свидания и неизменно срывались. Однажды Борис Леонидович сказал: «Позови Галю и ее мужа. Я хочу почитать у тебя свой перевод «Гамлета», который только что закончил». Но и в этот раз несчастье, случившееся с нашим другом, помешало нам прийти.
Когда я и Алексей Федорович переехали в Степановское, мы с Женей лишились радости привычного общения, очень тосковали и начали мечтать о том, чтобы какое-то время пожить вместе. И вот в год нашего переезда Женя сняла в той же деревне избу рядом с нами[42]42
Е. Пастернак снимала дачу в Степановском летом 1935 г.
[Закрыть], она жила там вместе с сыном Женей и другом семьи, замечательной женщиной, о которой я хочу потом немного рассказать.
Наступило чудесное лето. Рано утром мы бежали в лес, весь мокрый от росы, собирали грибы. После завтрака я позировала Жене – она писала второй мой портрет. А в углу Пусинька[43]43
Пусинька – это друг семьи Елизавета Михайловна Стеценко (1873–1961). В сведениях, которые далее приводит о ней Г. Козловская, есть ошибки. Она – урожденная Гирей, дочь крымского хана Менгли-Гирея, в первом браке Лопухина, фрейлина императрицы. Потеряла на войне сына и мужа князя Д. А. Лопухина. Ее единственный сын Георгий Лопухин, корнет гвардии, погиб в одном из первых боев в 1914 г. – Примеч. Е. Б. и Е. В. Пастернаков.
[Закрыть] (так звали друга семьи за ее ласковость и нежность) занималась с маленьким Женей французским языком. Затем снова лес и веселое купанье в мелководной Истре. После обеда обычно шли гулять через лес к слиянию Москвы-реки и Истры. Вечером, когда маленький Женя уже спал, было долгое чаепитие за столом под соснами. Во время этого чаепития наступал час рассказов Пусиньки. Я долго не могла примириться с тем, что в семье Пастернаков называли Пусинькой женщину с глазами лани. Вероятно, так называл ее маленький Женя, очень к ней привязанный и избалованный ее ласковостью. Хотя ей было уже немало лет, в ней не ощущалось ничего старческого. Возраст ее сказывался только в замедленности походки. Помню, что звали ее Елизавета, а отчество – забыла. Из всех нас только Алексей Федорович обращался к ней по имени-отчеству. Пусинька была урожденная Лопухина, дочь славянофила, принадлежавшего к кружку Хомякова. Девочкой она, естественно, слышала их речи и рассказывала нам об особенностях оборотов, своеобразии слов, ревниво охраняемых кружковцами. Слово и отношение к нему являлись почти основополагающими в мировоззрении московских славянофилов. Борис Леонидович, очень любивший Пусиньку и друживший с ней, не раз выспрашивал об этой забытой языковой стихии.
Затем Лопухина вышла замуж и стала графиней Орловой. Она была в расцвете красоты и счастья, когда грянула война 1914 года. Два ее красавца сына, еще почти мальчики, ушли добровольцами в действующую армию и были убиты в первую неделю войны. Жизнь ее оказалась сломленной, а через три года революция всё разбила вдребезги.
Однажды мы вместе с Женей приехали в Москву и внезапно экспромтом уговорили Бориса Леонидовича поехать завтра с нами в Степановское[44]44
Это было в конце июля 1935 г., когда Б. Пастернак вернулся из Парижа, где он присутствовал на антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту культуры.
[Закрыть]. Вот наконец-то состоится встреча Алексея Федоровича со своим кумиром, – порадовалась я, он вместе с нами приедет к нам в гости.
В вагоне Пастернак сидел напротив меня. Я впервые видела так близко его лицо и руки, лежавшие на коленях. В разгоне пути на перестук колес всё время накладывались его стихи, неотступно, как наваждение: «Ветер треплет ненастья наряд и вуаль. Даль скользит со словами: навряд и едва ль…»[45]45
Б. Пастернак «Город» (1916).
[Закрыть]
Мы сошли на станции Опалиха, чтобы пересесть на «кукушку» – старинный маленький паровозик с огромной трубой. Прилепившись к трем таким же допотопным вагончикам, он помчал нас в Павлову слободу, наполняя дымом и гулом окрестные леса. Борис Леонидович спросил меня, знаю ли я, почему эта станция носит название Опалиха. И рассказал, что давным-давно в лесных дебрях вместо патриарших палат стояла срубная изба, где в изгнании жил опальный патриарх. Подробности рассказа, к сожалению, забылись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.