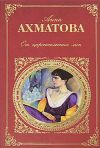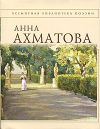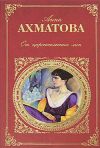Текст книги "Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание"

Автор книги: Галина Козловская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Письма Владимиру Сосинскому
Владимир Брониславович Сосинский (Бронислав Брониславович, настоящие имя и фамилия Бронислав-Рейнгольд-Владимир Сосинский-Семихат; 1900–1987) – происходил из семьи инженера, семья часто переезжала с места на место. Рано лишился матери, воспитывался мачехой. Во время Февральской революции Сосинский учился в Бердянске. Когда Бердянск был занят белогвардейцами, он вступил в учебную команду Елизаветградского гусарского полка, храбро воевал, был ранен в грудь навылет, болел тифом. Прямо из госпиталя сводный брат Борис Семихат увез его в Константинополь.
Там в 1921-м Сосинский познакомился и подружился с сыном писателя Леонида Андреева – Вадимом, начинающим поэтом. В 1922 Сосинский попал в Болгарию, где окончил гимназию в болгарском Шумене с золотой медалью и успел поучиться в Софийском университете. Затем он перебрался в Германию, где вновь встретился с В. Андреевым и недолго прожил и продолжил обучение в Берлине.
В 1924 уехал в Париж, где опубликовал рассказ «Аланд», за который в 1925 получил 2-ю премию журнала «Звено». Был студентом Сорбонны. Вскоре после приезда Сосинский познакомился и подружился с Мариной Цветаевой, помог ей организовать первый творческий вечер в Париже и в дальнейшем выполнял множество поручений, связанных с ее выступлениями и публикациями. При участии Владимира Брониславовича в мастерской Петра Шумова были сделаны замечательные портретные фотографии Марины Ивановны и ее дочери Ариадны Эфрон.
Первое время Владимир Брониславович работал в издательском отделе торгпредства СССР во Франции, писал рассказы, рассылая их по различным изданиям. Стилистически они были связанны с литературой, печатавшейся в 1920-х журналами «Аполлон» и «Золотое руно».
Рассказ Сосинского из эпохи Гражданской войны «Ita Vita», появившийся в номере одного из пражских журналов, понравился редактору «Воли России» и автор был приглашен на работу в качестве секретаря редакции. С этого началась замечательная организаторская деятельность Сосинского. Сначала он создал Франко-славянскую типографию. При ней с помощью выступивших меценатами сестер Рахманиновых (дочерей композитора) организовал названное в их честь издательство «ТАИР» (Татьяна и Ирина), где, в частности, вышло первое издание романа Е. Замятина «Мы». Обнаружив еще и способности к рисованию, Сосинский иногда оформлял выходящие книги.
В 1927 под общим заглавием «Махно» в «Воле России» появились три рассказа – «Бердянск», «Перекоп» и «Гуляй Поле». Главный персонаж носил часть фамилии писателя – Семихат. В «Махно» сильно чувствовалось влияние Б. Пильняка, Вс. Иванова и И. Бабеля. Нередко Сосинский выступал и как рецензент. Первое критическое выступление было связано с произведениями И. Эренбурга. Кроме того там были напечатаны статьи о творчестве Б. Пастернака «О читателе, критике и поэте» и А. Ремизова («Звезда надзвездная» и «По карнизам»).
Весной 1928-го по инициативе его друзей М. Слонима, В. Андреева было образовано литературное объединение «Кочевье», для «развития творческих сил молодых писателей и самоутверждения их в эмигрантской литературной среде». Здесь Сосинский выступал с устными рецензиями на книги Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», О. Мандельштама «Египетская марка», Б. Пильняка «Красное дерево» и другие.
В это же время Владимир Брониславович познакомился со своей будущей женой Ариадной Викторовной Черновой, дочерью лидера партии эсеров, В. М. Чернова. В 1929 году они поженились. У них родились сыновья Алексей и Сергей.
С первых дней Второй мировой войны Сосинский вступил в Иностранный легион, был ранен в бою и на три года попал в плен. Почти два из них М. Осоргин регулярно посылал ему продовольственные посылки. Освободившись в 1943, Сосинский сразу же вступил в ряды Сопротивления. Вместе с В. Андреевым он участвовал в боях под Олероном, за что после войны советское правительство наградило его медалью «За боевые заслуги».
После войны в 1947-м году Владимир Брониславович с женой получили российское гражданство, поначалу без права проживания в СССР. В этом же году они уехали в Нью-Йорк, где Сосинский проработал до 1960 года в секретариате ООН. В 1947 в нью-йоркском журнале «Новоселье» (№ 31) был опубликован его рассказ «Срубленная ель».
В 1960 году Сосинские переехали в Россию. С собой Владимир Брониславович привез более 100 сохраненных им писем, рукописей, фотографий М. Цветаевой, А. Ремизова, М. Осоргина и других своих парижских друзей, которые сдал в Госархив. На родине он вернулся к писательству, печатался в газетах и журналах, выступал по радио и на литературных вечерах.
В конце 1974 года Владимир Брониславович Сосинский был три месяца в Средней Азии, куда он приехал «мыкать свое горе» после смерти жены, случившейся в июле. Знакомство, перешедшее в дружбу, с Галиной Лонгиновной и Алексеем Федоровичем Козловскими произошло в декабре 1974 года в Ташкенте.
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
Получено в середине января 1976 года
[Пометка рукой В. Б. Сосинского]
Владимир Брониславович!
Часто вспоминаем Вас и тот сочельник с повестью о рыцарстве и с кольцом с лилией Вандеи.
[Г. Козловская вспоминает рассказ В. Сосинского об истории подарка М. Цветаевой, приславшей ему из Вандеи (Франция) рукопись поэмы «С моря», с надписью: «Дорогому Володе Сосинскому – попытка благодарности за действенность и неутомимость в дружбе – и еще за Мура. Марина Цветаева. Переписано одним махом», и серебряное кольцо с изображением герба Вандеи (символа сопротивления) и двух королевских лилий. (Позже В. Сосинский передал его в дар Л. Мнухину в его коллекцию личных вещей М. Цветаевой.) Так она отблагодарила его за то, что он заступался за нее, после того как в парижском журнале «Новый дом» (1926 г.) в ее адрес прозвучала оскорбительная критика. Дело дошло до вызова на дуэль и драк. – Примеч. сост.]
Дорогой Вы и прелестный человек, промелькнувший так быстро в нашей тиши. Раздаете Вы себя множеству – достойным и недостойным, – а нам, кому Вы истинно нужны, – не пишете и совсем забыли. Радуемся за Вас, что едете поглядеть на места, от одних имен которых щемит сердце[159]159
Имеется в виду поездка В. Сосинского во Францию.
[Закрыть]. Прислали бы нам что-нибудь из написанного Вами. Я очень Вас полюбила и ценю, а статью о Скире до сих пор всем читаю.
Я для самоуслаждения написала маленький святочный, да, именно святочный рассказ, посвященный памяти Андерсена. В Швеции у меня живет молодой друг, композитор, которого мне хотелось чем-то порадовать на Рождество. Вот я и послала ему в своем переводе эту вещицу, и она мне на английском больше нравится, чем на русском. Хотела послать Вам, но теперь, когда Вы уезжаете, уже поздно.
Вот и кончился год Андерсена, и Алексей Федорович, по-видимому, не напишет о нем своего балета, и только я напоследок, под самый конец, совершила свой маленький homage[160]160
Homage – посвящение, демонстрация уважения, церемония почтения (англ.).
[Закрыть].
Мне часто бывает грустно, но я умею всё еще жить удивительной жизнью. Привезите мне из Франции какую-нибудь хорошую книжку – прошу от избыточного простодушия и верю, что я хорошая, а Вы действительно ко мне хорошо относитесь.
Читала недавно воспоминания Ариадны Сергеевны Эфрон, и душа потрясалась и любила ее. Вот и еще одно удивительное существо замолкло.
Берегите себя, милый друг, и пишите прекрасные вещи.
Вспоминайте нас, Ваших друзей, азиатов «про́клятых», ибо бремя наше не из легких. Оба обнимаем Вас.
Ваша Галина Лонгиновна
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
21 января 1977
Ваше письмо принесли мне в стационар. Слова Ваши очень тронули меня.
Я еще никому не писала, Вы – первый[161]161
Это первое письмо Галины Лонгиновны после смерти А. Козловского 9 января 1977 г.
[Закрыть]. У меня приступ следует за приступом, и я очень слаба.
Вот – пятьдесят один год, один месяц и одна неделя исчерпали жизнь, прожитую вдвоем. Маленький кусочек детства и юности так малы перед этим полувеком, пронесшимся в неразлучном существовании.
У нас была прекрасная жизнь. Господи! Как писать в прошедшем времени?!!
Он был блистательным человеком и музыкантом огромных дарований, талантом, которым по праву могла гордиться Россия. Вместо этого она отправила его в этот край, изломала его судьбу, и он испил всю чашу унижения и печали, которые делают человека – человеком. Эти слова больше ста лет тому назад Шопен написал о его прадеде – о польском музыканте Антоне Онуфрии Шиманском[162]162
Шопен писал 11 февраля 1848 г. из Парижа своим родным: «Ясь написал мне милое письмо, он справляется очень об Антеке Бартоло. Он прошел хорошую школу нужды, тот аламбик (фильтр), который необходим, чтобы стать человеком, и я бы очень желал повидать его здесь». Письма Шопена. М., 1929.
[Закрыть]; и его потомок, тоже изгнанник, пронес себя через жизнь достойно, не посрамив себя и своих предков.
Мы ничего не отдали, ничем не поступились.
Я верю, что его музыка будет жить, несмотря на то, что флаги культуры приспущены и явно наступает «глухота паучья». Когда-то Михаил Фабианович Гнесин воскликнул после какого-то произведения Алексея Федоровича: «Я последний, я уйду, и у нас никто до конца не поймет его маэстрии!» Непонимание было при жизни, непонимание будет и после смерти. Но, как говорила Анна Андреевна, дайте человеку умереть, и всё станет на свои места. Алексей Федорович был последним из художников, живших в мире утонченного, изощреннейшего гармонического – слышания, и все самые сложные его творения зиждутся на основе безупречной формы (данной самой природой) и этой услышанности всех деталей и всего в целом.
Но пока мир будет – человечество будет слышать, несмотря на периоды шумов и бессмыслицы. И я верю, что аполлоническое начало в человеке и в искусстве не умрет во все века.
Таким был Ваш недолгий, но верный друг. Мне жаль, что Вы не знали его до инсульта, во времена его расцвета, когда Анна Андреевна говорила: «Нет, наш Козлик – существо божественного происхождения». Посылаю Вам слова, написанные в пароксизме тоски.
Вот место то,
При мыслях о котором стыла кровь
И криком оглашались сновиденья.
Две яблоньки растут,
И между ними ты.
Как мало места!
Как случилось, что с тобою
Сама Вечность залегла?
Вот он, тот «край земли»,
Тот лёсс, которого боялся ты…
Стационар. Девятый день17 января 1977
P. S. Поверьте мне – я не буду «бедной вдовой», я буду гордой женой.
Еще раз обнимаю. Берегите себя, жалейте меня, Вам я разрешаю жалеть меня (другим нет!). И пишите мне, Вашему истинному любящему другу.
Галина Лонгиновна
В конверт с письмом было вложено следующее стихотворение Алексея Козловского. – Примеч. сост.
Собака в космосе[163]163
3 ноября 1957 г. в СССР был запущен спутник с собакой Лайкой на борту.
[Закрыть]
Перевелись на свете чародеи,
Давно исчезли маги на земле.
Пророков нет. Изнемогла, устала
Сбываться днем ночная ворожба.
Загубленных давно не бродят тени
И двойники не рыщут по пятам.
И в отсветах бездонья зазеркалий
Не глянет лик отпрянувшей судьбы.
Нет вещих снов. Исчезли ведуны,
И ярость клятв бессильно стынет в душах.
Пророчества несбывшиеся дремлют,
Возмездье спит. Во тьме отверстых ран
Вблизи убийцы кровь не проступает.
Утрачены приметы повседневья,
И знаменья небесные комет
Давно людей устали устрашать.
Все кануло. Ушло. И гордый разум –
Чтоб разгадать нам тайны естества –
Осилил сокровеннейшие грани…
Но наши мудрецы нам не сказали,
Зачем дана печаль? И отчего
Страшнее жить нам стало на Земле?
И как нам быть с возникшей пустотой
Разгаданных напрасно волхований?
Ташкент. Ночь23 ноября 1957
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
20 апреля 1977
Дорогой, дорогой друг Владимир Брониславович!
Не пеняйте на меня, что только сейчас отвечаю Вам.
Учусь новой трудной науке жить одной, видеть ослепительный, сверкающий зеленый мир без него, самого живого из всех живых.
Весна у нас небывало прекрасна, и сад мой – совершенное диво.
Бывает так пронзительно больно, что стараюсь не смотреть.
Журушка словно сердится на меня, считая, что я что-то сделала, что любимого нет, – и живет в отчуждении. Приходит, поест из рук и уйдет в конец сада, где пребывает целый день один. Даже ива, самая большая и прекрасная ива над прудом, умерла вместе с ним, не пожелав больше жить без него. Только я должна воплощать никому не нужный стоицизм и «сохранять лицо».
Я устала от заклинаний и уверений, что я сильный человек.
Странно – чем больше печалюсь, тем сильней люблю жизнь: всё так пронзительно озарено и вовне, и внутри. Особой жизнью стали жить для меня стихи. С новым чувством постижения люблю всю чувственную прелесть жизни.
Часто думаю о таинственных токах крови, дающих нам жизнь, но и несущих наследие предков, делающих нас тем, что мы есть. Как они приходят к нам от них, воплощаются в нас и определяют нашу суть? Во мне течет сильная и стойкая струя византийцев – грешников и кровосмесителей. Они грешили и искали искупления, становились проповедниками, и самый первый даже стал святым.
Совершенно удивительной оказалась духовная гена греха кровосмешения, пронесенная с непостижимой неуклонностью через множество поколений. И еще одна черта – на лицах женщин лежал отблеск кротости и особой прелести, мужчины же неизменно были отмечены редкостной красотой и физическим великолепием. Иногда мне хочется написать об этих странных своих предках. Правда, мне известно не так уж много, и то, что известно, – с большими лакунами в веках, и все сведения об этом пришли ко мне в очень ранней юности, от дяди[164]164
П. Н. Краснов.
[Закрыть], который был историографом и для себя проделал кропотливое исследование генеалогического древа.
Я еще не поблагодарила Вас за милый дар – за Марину[165]165
По-видимому, речь идет о рукописи воспоминаний В. Сосинского о Марине Цветаевой.
[Закрыть].
Кстати, хочу обратиться к Вам с просьбой – принять, если она к Вам придет, актрису и чтицу – Анну Смирнову[166]166
Смирнова Анна Николаевна из Тбилиси – исполнительница романсов на стихи великих поэтов.
[Закрыть]. Она посвятила много пыла и жара сердца пропаганде поэзии и личности Цветаевой. Сама я с ней не знакома, но она, узнав от друзей, что я знаю Вас, просила меня походатайствовать перед Вами, чтобы Вы поделились с ней, чем захотите, о Марине Ивановне.
На днях я заходила в сад друзей, чтоб посмотреть на глицинии и на цветущие пионы. Они были ужасно китайскими, и мне вспомнились поэты китайской древности. Когда же мне хозяйка рассказала, как пчелы с вечера забираются в цветы, те закрывают лепестки, и пчелы спят там до утра – мне вдруг и пчелы, и цветы, и люди стали необыкновенно близки и милы.
Придя домой, я подумала: если бы я была поэтом тех времен, я бы написала следующие стихи… Посылаю их Вам.
Пчелы ночью спят в цветках пионов,
И там дыханье снов благоуханных и тепло.
А мне, пришедшему в радушный этот дом,
Так трудно уходить отсюда!
И грустно мне его покинуть,
Как пчеле, проспавшей ночь в цветке,
Не хочется рассвета.
Вам, эпиграфику и любителю буквенных линий, предлагаю придумать для них иероглиф.
Мечтаю о встрече с Вами. Все-таки летом, верно, буду в Москве. Впереди всё темно и неясно. Руза на вдовьем положении для меня душевно неприемлема. Хорошо бы в Малеевку или Переделкино, но туда летом трудно. К тому же я не числюсь «в цеху задорном». Подумайте, может, Вы что-нибудь посоветуете. Будьте здоровы, берегите себя и пишите мне всегда.
Неизменно Ваша
Галина Лонгиновна
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
Август 1977
Милый друг Владимир Брониславович!
Вы уже давно вернулись из благословенных пушкинских мест, а я всё никак не соберусь написать Вам несколько строк.
Не думаю, что письмо мое очень порадует Вас. Я стала печальной, и многое, что раньше легко прощалось людям, теперь ранит и ложится тяжестью, от которой трудно избавиться.
Я часто дивлюсь человеческой толстокожести и мелкости побуждений. Раньше я ограждала от них любимого и очень ранимого человека, теперь же я встаю перед ними одна, лицом к лицу, и защищать мне некого, и сама я, без друга, оказалась беззащитна и слаба. Чаще всего это все-таки связано с Алексеем Федоровичем, с его памятью, с отношением к нему.
Одно из горьких переживаний доставил мне Андрей К.[167]167
Архитектор, общий знакомый Козловских и В. Сосинского.
[Закрыть]
Казалось, у меня не было причин сомневаться в его отношении к Алексею Федоровичу и ко мне. И когда не стало Алексея Федоровича, было совершенно естественно считать, что Андрей будет архитектором при создании ему памятника. Так я и считала до недавнего времени. После того как правительство вынесло решение установить бюст на могиле, Андрей очень энергично старался узнать, сколько же будет отпущено средств, и вдруг в один прекрасный день сказал мне, что он считает, что, помимо бюста, надо будет еще шесть тысяч рублей, прибавляя, что ведь Алексею Федоровичу за оперу платили столько-то, за балет столько-то, то есть понимай, что и ему надо будет получить соответственно высокую оплату за его труд. При этом он не преминул рассказать, сколько за каждую свою тарелку получает Саша Кедрин.
Он превосходно знал, что у меня шести тысяч нет и никогда теперь не будет и что правительство сверх положенного ничего не выделит. Не могу Вам передать, какой униженной и оскорбленной я себя почувствовала. Я никогда не позволяла бедности коснуться меня унизительным лезвием, я сотворена так, что унижения такого рода никогда не могли коснуться моей души. И вдруг перед лицом смерти, перед священной памятью я оказалась нищей и беспомощной, и это сказал мне человек, считающий себя моим другом. Он ничего не понял, ему и невдомек, какую боль он мне причинил этой бесцеремонностью финансовых расчетов, этой циничной действительностью, он ничего не прочитал на моем лице. Так и уехал в Москву. Но, конечно, такой «друг» не по карману, если уж заговорить его языком. Бог с ним.
Памятник сделает другой, скромный и деликатный человек. А наш друг и ученик Алексея Федоровича, отныне мой духовный приемный сын, Боря, если нужно, закабалится на какую-нибудь работу и из своих средств поставит памятник.
Я не писала Вам, что на девятый день после того, как я написала известные Вам стихи, – я увидела ночью сон. Я увидела его надгробье. Это был серый камень такой формы… [Далее в письме помещен рисунок. – Примеч. сост.] Внизу слева я увидела журавля, стоящего, готового к полету, затем выше летел журавль, который постепенно превращался в нотные знаки, уходящие в небо. Это было удивительно, и я проснулась с чувством продиктованности и дала себе слово, что так и будет.
Пока оставленный журавль еще стоит у его подножья, я должна осуществить этот памятник, и я это сделаю. Но к нему не прикоснутся расчеты, он будет создан на основе любви и бескорыстия.
Вы не рассердитесь на меня, что я пишу Вам о своей печали? На маленьком холмике сосредоточены мысли первых утренних пробуждений, пронзительность течения одинокого дня и последние прощания перед сном.
Как писал Гоголь: «И грустно оставленному, и нечем помочь ему»[168]168
«Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему», – цитата из повести Н. Гоголя «Сорочинская ярмарка».
[Закрыть]. Кто, как не Вы, поймет меня, и всё это Вам ведомо. Я бываю счастлива, когда я вырываюсь в свой прустианский мир[169]169
Для Г. Л. Козловской «Прустианский мир» – мир ее воспоминаний.
[Закрыть], и благодарю Бога за этот дар. В своих воспоминаниях я сильней Времени и Смерти. Они отступают перед могуществом памяти. Как жаль, что слабость, обыкновенная человеческая физическая слабость, не даст этой памяти быть плодотворной, чтобы то, что было, могло зажить вновь на листках бумаги.
Теперь хочу рассказать Вам, милый друг, повесть о книге[170]170
Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1974.
[Закрыть], посланной Вами мне для прочтения.
Здесь снова глянул лик человеческой небрежности и невнимательности. Очаровавшая Вас Милочка[171]171
Милочка – ташкентская приятельница Г. Козловской, первая жена Ю. Ласского.
[Закрыть], выпорхнув из Москвы, как-то сразу упустила из виду, что книжка предназначалась мне. И стали читать ее все, кому надо и не надо. Через месяцы она попала к Андрею[172]172
Архитектору. См. сноску к началу письма.
[Закрыть], который, кстати, ничегошеньки в ней не понял, и, наконец, через долгое время мне соблаговолили ее принести, совсем недавно.
Владимир Брониславович, знаете ли Вы, чем эта книга стала для меня? Я словно встретилась с прекрасным, давним другом, которого я всю жизнь любила. Это, конечно, лучшее, что написано об А. А. Великолепна и личность автора, ее любовь к Ахматовой – глубокая, чистая, – глубина понимания, высшее проявление дружественности. Это само благородство, бескорыстие человечески любящей и сострадательной отданности как идеал человеческого общения.
Как это не похоже на вороха дамской писанины об А. А., пронизанной, почти неизменно, интонацией «Я и Монблан», с этой осознанной или неосознанной фамильярностью, с бабьим оглуплением объекта воспоминаний до собственного уровня!
Сила воссоздания – в правде, в той поразительной искренности, в той небывалой силе трагического выражения трагического времени. И сам автор, ее душа – скорбная, неподкупная, – сколько в ней духовной силы и человеческой высоты! Да будет она благословенна за свою чистую правду, запечатленную с такой силой.
Мне до исступления жаль, что в дни, когда А. А. жила в Ташкенте, она, подарившая нам не одного из своих друзей, не пожелала подарить нам самого прекрасного, самого настоящего, самого лучшего. Быть может, друг сам этого не хотел. Я понимаю: ведь мы часто не любим видеть, как другие любят слишком сильно тех, кого мы любим сами. И как бы мы ни были умны, мудры и добры, мы не можем преодолеть этого нежелания отдавать хоть частицу кому-то другому.
<…> Книга пришла ко мне как раз тогда, когда я сама писала об А. А. Признаюсь, я растерялась, испугалась, нужно ли мне писать после такой чистой подлинности и высокой достоверности. Сначала я подумала, что это мне предостережение, но затем чувство любви, что я храню, подсказало мне, что оно дает мне все-таки право попытаться рассказать о прелести, неповторимой прелести ее самой, и той восхитительной дружбе, которой она одарила нашу жизнь.
Всегда, и в любви, и в дружбе, мы с Алексеем Федоровичем принадлежали к растениям тайнобрачным. Мы никогда не афишировали наши с А. А. отношения, хотя многие знали о ее большой привязанности к нам. Когда она умерла, мы не откликнулись на просьбы и зазывания отдать всё, что хранилось у нас, связанное с ней, и уклонялись от всяких попыток проникнуть в заповедные тайники воспоминаний. <…>
А сейчас, когда его нет, ее веселого друга, так понимавшего ее, ее вечную женственность и музыкальнейшую суть ее стихов, теперь, когда их обоих нет, я думаю: может, мне снять запрет молчания и попытаться рассказать об этой поре.
Мало кто знал, что кроме абсолютного музыкального слуха, которому была подвластна вся стихия музыки, Алексей Федорович был наделен таким же абсолютным слухом стиха. Безупречность слышания стиха и высочайшая, энциклопедическая (нехорошее слово, простите) оснащенность знания стихов и всей культуры и изощренности форм и стилей всех времен делали его в известной степени феноменом. Для Анны Андреевны он был притягателен как идеальнейший из слушателей и, смею сказать, судей, он был для нее как оселок, на котором она проверяла отточенность звучавшего в ней. Они иногда спорили, она не соглашалась, – а потом, смотришь, и напечатает с подсказанным. Я часто удивлялась естественности, спонтанности, милой доверительности, какой-то взаимной радостности их общения. Конечно, об этом, о том, как было, я не буду писать, чтоб не было истолковано превратно. Это понять могут только художники, испытавшие радость истинного и восторженного понимания.
Очень мечтаю повидать Вас. Мне нужно побывать в Москве в сентябре. У меня много дел, которые можно разрешить только на месте, – издание, архив и прочее. Но меня пугает мое физическое состояние – обострившийся диабет лишает меня последних сил. Боюсь, как бы вместо Москвы мне не попасть в стационар. Будем надеяться, что все-таки увидимся. Напишите мне настоящее, большое письмо. Не вздумайте ограничиться открыточкой с галантным росчерком.
Да, забыла Вам сказать, что книжку я не дала приходившему молодому человеку. Он не вызвал у меня ни малейшего доверия. Ох, Владимир Брониславович, Ваше чутье к людям безнадежно не срабатывает. И как можно бесценное пускать по рукам кого попало? Всё равно люблю и обнимаю.
Г. Л.
P. S. Журушка кланяется, а меня прошу простить за ужасный почерк и уйму грамматических ошибок. Всё стала перевирать.
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
16 октября 1977
Дорогой, бесценный друг Владимир Брониславович!
Простите меня великодушно за мое последнее письмо. Получив Вашу открыточку, я поняла, что огорчила Вас Андреем. Забудьте, милый. Я ему всё сказала честно и открыто, он удивился (относясь ко мне по-настоящему хорошо, он не понимает, что он меня обидел). Получив должную головомойку, он сейчас кроток, смирен и нежен. Я ему простила, потому что тоже его люблю (тем больнее была грубость). Мы вместе ездили вчера на кладбище, где на могилке оказалось уже много цветов[173]173
15 октября – день рождения А. Козловского.
[Закрыть]. Утром я получила Вашу телеграмму, тронувшую меня глубоко, а на окне лежали положенные кем-то цветы и огромная охапка базилика (райхона), запах которого Алексей Федорович так любил. Могилка сокрушает мне душу, словно я его оставила, а не он меня.
Друг мой, мне очень тяжело живется! Случилось так, что то ли вследствие его природы, то ли его счастливого дара художника, мы прожили поразительно радостную, гармоничную и высокую по строю чувств жизнь. <…> Тогда, верно, само существование его таланта было его защитой. И лишь к концу черные силы зла стали стягиваться удушающим кольцом, и, сократив его дни, теперь сокрушают его память, мою жизнь страшной местью бездарностей и завистников. Трудно представить, что человек, никогда ни одному человеку не сделавший зла, добрый и благожелательный, так много помогавший людям, вызывает и после смерти такую жажду «уничтожения». Я за это время пережила несколько таких ударов и потрясений, от которых у меня едва не разорвалось сердце (в буквальном смысле). Я должна скорей сделать всё, что надо, для сохранения его искусства, и не имею права дать себя убить. Пожелайте, друг мой, мне много мужества и сил.
Напишите мне большое и хорошее письмо, чтоб я узнала от Вас о Вас. Ужасно хочу встречи. Верю, что она будет, но когда – не знаю. Я никогда себя не ценила и не берегла, а сейчас я должна это делать, чтобы совершить то, что мне завещано.
У нас стоит дивная осень. Прошли дожди, всё омыли, и всё стоит в красе и тепле осенних дней. Журушка мой Вам кланяется, а я обнимаю и жду большого письма.
Неизменно ВашаГалина Лонгиновна
Р. S. Не проговоритесь Андрею, что я Вам писала о нем. Не надо. Еще простите за безобразный почерк и ошибки.
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
23 ноября 1977
Дорогой, дорогой мой друг!
Хочу черкнуть Вам несколько строк, чтобы успокоить Вас. На днях Милочкин брат летит в Москву и привезет Вам бесценную Вашу книгу. Не сердитесь, милый, за задержку и за то, что молодой человек, подошедший к окну, не вызвал у меня доверия. Очень странно прийти, не пожелать войти, познакомиться с хозяйкой. Вся форма обращения для меня была необычной: «Мне захотелось что-то почитать, и Владимир Брониславович сказал, что у него там, в Ташкенте, есть книжка». Согласитесь, что вся фразеология – не на уровне обычной интеллигентности и тем более самой книжки.
Еще раз прошу извинить за мой очередной faux pas[174]174
Faux pas – ложный шаг, бестактность (фр.).
[Закрыть]. Что-то я сама стала очень ранима и раню других. Я сейчас очень больна. Валяюсь с осенним гриппом и бронхитом. Часто прихожу в отчаяние от жизни, что-то, как пловец, теряю силы, слишком много мути накатывает на меня, боюсь, не выдержу и захлебнусь.Нет внутреннего спокойствия и здоровья, чтоб писать.
Вы спрашиваете, как подвигаются у меня воспоминания об Анне Андреевне. Плохо, перечитала написанное, надо всё заново, не годится.
После дивной книги Лидии Корнеевны, такой сильной и правдивой, мне всё мое кажется слабым, неубедительным. Ужасно боюсь литературщины, как смертного греха. Кроме того, мне, как говорил великий Лев Николаевич Толстой, не хватает стихийного энтузиазма заблуждения[175]175
Слова Л. Толстого из письма к Н. Страхову (8 апреля 1878): «Все как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения…»
[Закрыть].Милый друг, если молитесь на ночь – молитесь за меня. Худо мне.
Обнимаю Вас, дорогой, берегите себя и пишите мне, хоть Вы меня немножко разлюбили.
Р. S. Андрей тише воды, ниже травы, может, что-то понял. Вероятно, сожалеет.
Любите его, как любили, я никак не хотела что-то отнимать и портить в большой дружбе. Это неблагородно. Я умею быть великодушной и прощать там, где это надо и возможно. Когда буду лучше себя чувствовать, напишу нормальное письмо.
Пока же люблю и помню Вас всегда.
Ваша неизменно
Галина Лонгиновна
Галина Козловская – Владимиру Сосинскому
Получено 25 декабря 1977
[Пометка рукой В. Б. Сосинского]
Владимир Брониславович! Мой дорогой, бесценный друг!
Не знаю, как и благодарить Вас за удивительный дар[176]176
Речь идет о копиях двух писем М. Цветаевой к К. Родзевичу.
[Закрыть]. Спасибо от души, щедрый мой человек.Почему Вы ни словечка не написали о себе? Я ведь хочу знать о Вас всё, а Вы шлете мне лишь несколько строк.
Простите, что так долго задержала книжку Лидии Корнеевны. Милочкин брат наотрез отказался, такой предусмотрительный и робкий. Ну да Бог с ними. Но у меня к таким людям сразу пропадает интерес.
Напишите мне, пожалуйста, о каком чтении Волконского[177]177
С. Волконский посвятил Марине Цветаевой книгу «Быт и бытие» (1923).
[Закрыть] пишет Марина Ивановна во втором своем письме. Здесь живут две очень близкие к ней женщины[178]178
Речь идет о сестрах Рейтлингер.
[Закрыть] по Праге, очень хорошо знавшие Родзевича и Муну Булгакову[179]179
М. Булгакова, дочь С. Н. Булгакова первым браком была замужем за К. Родзевичем.
[Закрыть]. Они почему-то говорят о нем с резкой антипатией, подчеркивая, что у большинства людей он вызывал презрение. Правда, они же говорят, что он был Charmeur’ом[180]180
Charmeur – очаровательный человек, соблазнитель (фр.).
[Закрыть].Очень грустно бывает, когда созданный поэтом образ дробится в зеркалах иных душ и их воспоминания хранят быт и поступки иной – не поэтической – жизни.
Как странно, неистинно порой видят люди большие явления и как по своей мерке рядят и судят. Я в юности знала одного человека, у которого было какое-то исступленно-недружелюбное отношение к Скрябину. И все его злопыхательства можно было бы заключить в одну формулу – «Как он может быть гением, когда я его знал».
И всё же мы ищем, как плохие детективы, крупицы свидетельств о больших художниках, подаривших себя миру и нам в том числе, но часто хочется отпрянуть и не знать.
Понимаете ли Вы меня, это противоречивое желание знать и не знать? Как часто законная наша пытливость, будучи удовлетворенной, не приносит радости.
У меня очень сложные отношения с Мариной Ивановной. Я люблю колдовскую магию ее стихов, для меня бесспорность ее гениальности, поэтической бездонности и силы живут всегда, не иссякая, и она как художник давно стала неотделимой частью моей души. Но когда я соприкасаюсь с ней как с женщиной и человеком, что-то во мне начинает двоиться, возникает какое-то внутреннее сопротивление, что-то во мне вызывает отталкивание, и я с ужасом чувствую даже признаки нелюбви.
Между тем ни к кому на свете у меня не было такой пронзительной, такой всеохватной жалости, как к ней, ничья судьба, из всех трагических судеб нашего времени, не сокрушала так душу, как ее, от начала и до конца.
Есть какая-то спираль в ее существе, какое-то глубокое свойство: казалось бы, лавинность, и бурность, и безмерность чувств, – а какой-то грани любви (не ужасайтесь, я не кощунствую), какой-то обязательной грани любви – нет. И отсюда ее ощущаемая мной женская несчастность: она, несомненно, всегда бывала несчастна в любви, и про нее можно было бы сказать словами дяди Ерошки, обращенными к Оленину, – «нелюбимый ты какой-то»[181]181
«Такой ты горький, всё один, один. Нелюбимый ты какой-то!» – фраза из повести Л. Толстого «Казаки» (1863).
[Закрыть]. Несмотря на множество Любовей, не была по-настоящему любима, потому что судорожное ее счастье и исступление не таят в себе той женской тайны, делающей другого счастливым.Я много думала о ней, об этой сути ее характера. Всё хотела дойти до истинного понимания. И мне кажется, я многое поняла, прочитав эти два ее письма. Даже в минуты великой любви, когда искренность не может подвергаться сомнению, строки полны прежде всего литературным ощущением. Она не перестает быть в данном случае не поэтом, поющим свою любовь, а писателем великой внутренней, не забываемой никогда, ни в каких условиях своей художнической гордыни. Я прочитала в ее строках отсутствие самозабвенного равенства в страсти.
Всякий лирический поэт всегда эгоцентричен, и осознание себя – гения – личности – великая тайна. Но в творцах-мужчинах их ощущение себя несет в себе чувство величия, как у Пушкина, одновременно радостного и пленительного. И гордость самих великих никого не подавляла, не требовала трепета перед чудом своего существования – «Стойте передо мной на коленях!».
А у Марины гордыня часто выплескивалась в высокомерие, притом чисто женское. Всякий художник должен понимать себя, свое значение, иначе он не художник. Но искусство женственно по своей природе, его назначение – давать. А это отдавание – как милость Божья, и она, эта щедрость, не должна приносить умаление принимающим.
Марина слишком изумилась самой себе, поняв себя как чудо, и не позволяла ни себе, ни другим об этом забывать. И несла в себе что-то карающее, как Иегова. И вероятно, вот против этого что-то и восстает в моей душе.
Я спрашиваю себя: почему всё в Анне Андреевне – ее стихи, ее душа, вся она, какая она была, и в женской, и в человеческой сути, с гордостью великого поэта России, очень знавшая и понимавшая свое значение, – почему она так навсегда поглощала вас только чувством любви. Эта любовь-восхищение устремлялась к ней навстречу, клалась к ее ногам в светлом порыве, и принимала она ее в свои добрые руки и при этом смиренно. Карала она в жизни только тупиц и пошляков.
А ее личина царственной отстраненности была не следствием высокомерия, а защитным плащом от недоброго или непонимающего мира.
Кроме песенного дара, Бог дал ей силу великой любви, и обладала она тайной любовного покорения, долгого и часто неизбывного. И Марина это чувствовала и как хорошо об этом сказала в стихах.
Я знаю, Вы не любите по-настоящему Анну Андреевну и несправедливы к ней. Мне это грустно. Когда я очень люблю, я хочу, чтобы все любили, как я, и прежде всего – друзья. И Вы, мой дорогой друг, не должны стоять за барьером.
Но довольно говорить о поэтах. У нас, кроме зимы со снегом, дождем и зеленой травой, еще было землетрясение. Это было ужасно и в этот раз действительно страшно. Андрюша Вам всё расскажет. Земля-матушка напомнила нам худшие из времен 1966 года.
Через несколько дней будет сочельник. Помните тот вечер, когда Вы пришли к нам, – какой он был светлый, ясный, и за стол мы сели со звездой?
Сейчас я заранее тоскую и просыпаюсь от собственного стона. Скоро, скоро будут сочельник и Новый год, последние счастливые дни в моей жизни. Уже первого января мой любимый был болен, а девятого – жизнь кончилась. Господи, как я их опять проживу!
Недавно дом мой снова опустел: приехал сотрудник Музея им. Глинки и увез в Москву почти всё музыкальное наследие Алексея Федоровича. Такова была его воля и желание, а музей будет бережно и достойно хранить его рукописи. Сейчас они помещаются в Троекуровых палатах[182]182
В то время Музей им. М. Глинки располагался в палатах бояр Троекуровых в Георгиевском переулке в Москве.
[Закрыть] (за Колонным залом), но через год, наверное, переедут в специально выстроенное для них здание. Там они хотят открыть его персональный фонд, устроить постоянно действующую экспозицию.Я теперь занята подбором фотографий, стихов и должна подступиться к его дневникам. Я кое-что обещала музею, а как быть со всеми остальным? Посоветуйте мне, милый друг, как быть. Многое из написанного (а вел он дневник с десятилетнего возраста), не всё может быть открыто постороннему глазу. Много очень интересного, много, в особенности за последние годы, менее значительно и увлекательного. Мне очень трудно к ним приблизиться. Я погружаюсь в невыразимое отчаяние и начинаю плакать.
Его одиннадцатилетние и тринадцатилетние дневники киевского периода – это булгаковщина рядом с поразительным миром музыки, небывалой интенсивности существования в этой огромности. Боже, сколько в нем было всего!
В сочельник хочу поехать к нему. Повезу ему елочку и зажгу свечи. Но что-то я очень уж расписалась. Неужели Вы мне опять черкнете четыре – пять строчек? Это несправедливо. Извините меня за скромность моего рождественского дара. Но зато это орехи из моего сада. Они росли и падали на землю под азийским небом, и Журушка долбал их своим длинным носом. Все-таки частица моего сада и моей души, которая всегда хранит память о Вас, мой друг, метеором возникнувшем и исчезнувшем из наших глаз. И почему это судьба так несправедлива! Нам столько надо бы рассказать друг другу, столько поведать!
Берегите себя, пишите не только рассказы и воспоминания, но и письма – мне, конечно. Будьте счастливы и здоровы во все дни, не только новогодние.
Обнимаю Вас.
Ваша Галина Лонгиновна
Р. S. На днях слушала по телевизору каких-то кавказцев, не то осетин, не то балкарцев, захлебывающихся от красот своей природы. Диктор самоупоенно произнес: «Форма наших местных объездчиков похожа на форму пограничников, да они и стоят на границе между настоящими любителями природы и браконьерами».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.