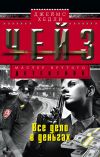Текст книги "Тихий русский"

Автор книги: Геннадий Ерофеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Наступившая зима снова выдалась суровой. Отца Геныч с братом почти не видели – только много лет спустя братья узнали, что это называется скрытой безотцовщиной. Поздно вечером отец вступал на порог заиндевевшей коммунальной квартирки как инопланетянин из другого, параллельного, мира. В огромном тулупе, в армейской шапке-ушанке и похожих на львовский автобус безразмерных валенках он смахивал не на понтонёра, а на профессионального полярного исследователя или заматерелого вертухая из колымского филиала ГУЛАГа. Отец с громким стуком ставил на позаимствованный из ленинской комнаты стол трёхлитровую, без каких-либо следов этикетки, банку сгущёнки; выкладывал двухкилограммовый, из грубой обёрточной, «со щепками», бумаги, гигантский «фунтик» с кусковым сахаром, твердостью не уступавшим сибирским алмазам; доставал из бездонных карманов ещё какую-то мелочь вроде пачки дрянного грузинского чая или куска хозяйственного мыла. Василий Крупников с трудом, весь в «пердячем пару», но обеспечивал семью материально, однако душевным теплом обеспечить не мог да и, честно говоря, не умел.
В течение той морозной зимы отец целых три раза приносил домой «стечкина»: с полным, на все двадцать «маслят», клипом; с тремя патронами в обойме; с пустой обоймой. Генычу пистолет безумно понравился, но удержать в вытянутой ручонке полностью снаряженную «пушку» у него, болезненного слабака-хлипака, не хватало силёнок. Входящая в комплект «машины для ближнего боя» деревянная кобура, используемая также в качестве пристёгиваемого приклада, являлась самоценным произведением столярно-оружейного искусства. С таким пистолетом, пусть и не тёплым, и такой отличной кобурой Василию Крупникову наверняка были не страшны «ни стужа, ни мороз», ни регулярно появляющиеся в закрытом Муроме американские, английские и немецкие шпионы-нелегалы, ни снова расплодившиеся в окрестных лесах серые волки.
В ту зиму ко всем прочим, традиционным в несладкой жизни офицеров военно-инженерных войск заморочкам прибавилась ещё одна – крупная, чрезвычайно неприятная, абсолютно непредвиденная. Неподалеку от Мурома потерпел аварию и совершил вынужденную, на брюхо, посадку пассажирский самолет «ТУ-104». Наскоро перекроенная из бомбардировщика «ТУ-16» гражданская машина прославилась среди пилотов и бортмехаников как самая настоящая «гигантская флуктуация», притягивающая на свою реактивную задницу (вернее, целых две реактивные задницы) беду за бедой. «ТУ-104» горели, срывались в штопор, отказывались выпускать шасси, – словом, вели себя, как необъезженные мустанги-иноходцы, умей они летать.
Катастрофы в Советском Союзе замалчивались столь искусно и умело, что даже живущие поблизости от места происшествия люди ни сном ни духом не догадывались о случившемся. Муромская авиакатастрофа не стала в этом смысле исключением. Подавляющее большинство муромцев и по сей день не подозревает, что во второй половине пятидесятых годов ХХ-го века близ деревеньки Подболотня лежала пластом на замерзшем болоте плоховато летавшая сто четвёртая, посиневшая от холода «тушка» и простуженным голосом взывала о помощи.
Отца со товарищи военные инженеры подняли по тревоге и вместо запланированных зимних учений отправили мостить гать, по которой предполагалось волоком вытянуть самолет. В лютые морозы понтонёры сначала прорубили просеку, потом замостили «дорогу жизни» (жизни, надо полагать, хреновой) и, собрав в ударный кулак все имевшиеся в полку и в располагавшихся на «пятом километре» боксах НЗ тяжёлые артиллерийские тягачи, в течение месяца с лишком вытягивали из болота пузатого дюралюминиевого бегемота, выдёргивали ни в какую не хотевшую вылезать из муромской земли обломавшую крылышки больную «репку».
Болтать о катастрофе военным строго-настрого запретили, но если в операции по спасению недоработанной «серебряной птицы» задействовано несколько сот человек, государственная тайна имеет все шансы стать секретом Полишинеля. Только никаких шинелей не было и в помине – в такую стужу шинели отдыхали в каптёрке. Пришла беда – отворяй ворота. На «просеке» получили серьёзные травмы десятки солдат и офицеров, а одному капитану отрезало ногу выше колена.
Геныч мельком слышал эти скупые подробности от появлявшегося дома раз в неделю отца, громким шёпотом делившегося с матерью утекающей через все мыслимые щели конфиденциальной информацией.
* * *
«Римповские каникулы» завершились переездом на Рио-де-Фанейро. Шлакоблочный двухэтажный дом, в котором Василию Крупникову впервые предоставили отдельную двухкомнатную квартиру, стоял прямо напротив школы № 10, где учился «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», забито-занюханный Геныч. Улица, разделявшая школу и дом, носила имя Сергея Мироновича Кирова – мальчика из Уржума, если кто ещё помнит.
Эх, огурчики, помидорчики!
Сталин Кирова убил в коридорчике.
Двор граничил с парком воинской части и с убогим стадионом «Фанерщик» – футбольные страсти на Рио-де-Фанейро накалом превосходили безумство, творящееся на бразильской «Маракане». Отопление в доме было печное; судя по отсутствию в печках колен, выкладывал «отопительные приборы» пьяный в дымину печник. Печи топили берёзовыми и осиновыми дровами и срезками клеёной фанеры, в изобилии поставлявшимися фанерным комбинатом. В одну из особо жестоких зим на прогрев двухкомнатной сырой квартиры Крупниковы потратили почти десять кубометров дров – отопление Вселенной шло полным ходом, но ей от этого наверняка было ни холодно, ни жарко.
В трущобном по сути доме имелся водопровод и канализация – казалось, лучшего и желать нельзя. Но на кухоньке стояла допотопная «четырёхконфорочная», с чугунными кольцами, кирпичная плита, требовавшая всё тех же дровишек, а с канализацией вообще была потеха, если так можно назвать беду. Да, сортир был оборудован настоящим белым унитазом и смывным бачком «ниагара-колокол», но в изобилии продуцируемое жильцами дерьмо попадало не в трубы, а в две, по одной на каждый подъезд, фекальные ёмкости, прикрытые двустворчатыми деревянными люками.
Как известно, в замкнутых физических системах энтропия может только повышаться. Говно надо было периодически откачивать – для этой цели использовались бешено популярные в пятидесятых годах ХХ-го века так называемые «говнопёры». Даже в ту неприхотливую и материально небогатую эпоху работать на «говнопёре» считалось непрестижным, буде не сказать, позорным занятием. Шофёры потрёпанных «ЗИС-5» с оборудованными водомерным («дерьмомерным») стеклом бочками ещё сохраняли какой-никакой социальный статус, а вот их подручные, их, так сказать, вторые номера боевого расчё+та, задача которых заключалась в том, чтобы управляться с гофрированным, большого диаметра, гибким дерьмопроводом, считались в отнюдь не избалованном благостными ароматами простом народе откровенными чмо, последними людишками, неудачниками. На «говнопёрах» работали преимущественно татары, компактно проживавшие в примостившемся на склонах одного из бесчисленных муромских оврагов ауле – осколке, обжовке, обмылке некогда великой Золотой Орды. Проживавшие в этом жутком гетто измельчавшие и опустившиеся потомки могущественных ордынцев откачивали русское кондовое дерьмо – так славянский Господь Бог наказывал их за ошибки пращуров, осуществлявших многолетнее угнетение не столь уж великого русского народа.
Несмотря на принадлежность (по идее) к мусульманской конфессии, «говнопёрщики» частенько уходили в глубокие запои – в этом явно просматривался их стихийный, неосознанный социальный протест против «жизни такой». Дерьмо в фекальных ямах перестаивалось, а потом вонючая «биомасса» прямо как в ублюдочных американских ужастиках переваливала через край и агрессивно растекалась по всему двору. «Говнопёрщики» поддавали часто и крепко, поэтому двор Генкиного дома был всегда скорее мокр, чем сух.
Однажды в фекальную яму упал чрезмерно любопытный мальчик – и прославился на всё утопающее в дерьме Рио-де-Фанейро.
Смех смехом, а эти гнусные ямы достали всех: люди постоянно болели, круглый год во дворе стоял удушающий смрад, многие страдали всевозможными глистными заболеваниями – словечко «гельминтозы» выглядит инородно-интеллигентным телом на фоне мерзкого дерьмосборника.
Геныч сразу ощутил на своей тонко выделанной эстетской шкуре враждебность тамошней атмосферы. Рио-де-Фанейро существенно отличался от более «элитного» РИМПа. Это был гипертрущобный муромский микрорайон, аналог американского Гарлема – похлеще текстильно-прядильной Макуры. По сравнению с Рио-де-Фанейро настоящий нью-йоркский Гарлем выглядел этаким Беверли Хиллз.
Населявшие «фанерное гетто» пролетарии, люмпен-пролетарии и просто люмпены жили, работали и воровали в нечеловеческих условиях. Беднота, простолюдины и чернь чрезвычайно самолюбивы и агрессивны. Местные озлобленные на весь белый свет гегемоны признавали людьми только себе подобных плебеев – как поддатый рыбак другого поддатого рыбака.
Отец Геныча был горожанином всего лишь в первом поколении – выходцем из тверской деревни, но теперь он носил «хромачи», галифе и китель с погонами, поэтому нетолерантное, обиженное, опидоращенное жизнью-жестянкой Рио-де-Фанейро мгновенно приклеило Василию Крупникову ярлык чужака, чуть ли не инородца. Сам Василий вряд ли замечал или ощущал источаемую гегемонами и их упавшими недалеко от беспородных «яблонек» детишками скрытую, полускрытую и открытую враждебность – он днями и ночами пропадал на службе, где потихоньку пристрастился к алкоголю – весьма типичное хобби типичного советского офицера.
Зато Геныч изо дня в день испытывал на себе все прелести существования в отнюдь не святой ипостаси белой вороны – Гарри Бардин, ау! За свою ужасающую нищету, за убогость бытовых условий, за собственные неудачи и ущербность пребывающего в палеолите сознания «фанерщики» с лихвой отыгрывались на тихом, плохо координированном, забитом, домашнем мальчике, исподволь изощрённо мстя слишком богатому и успешному, на их кривой завистливый взгляд, Василию Крупникову.
Геныч не был вундеркиндом, учёба в школе и познание окружающего мира давались ему с неимоверным трудом, но у него уже тогда хватило умишка распознать мерзость и гнусность окружающей его социалистической системы. В школе рабочий класс преподносили и превозносили как самый лучший, самый передовой класс из всех существующих, но даже «подцепивший» после кори близорукость Генка прекрасно видел, что это не совсем так, далеко не так, абсолютно не так. В третировании офицерского сынка взрослые подлецы не оставали от своих не видящих и не знающих детства детишек, пускаясь во все тяжкие. Потомки засравших Зимний Дворец шариковых так и не стали настоящими людьми, звучащими гордо, – это подтверждала, об этом кричала, это выстанывала окружающая Геныча трущобная жизнь. За менее чем три года проживания в гетто Рио-де-Фанейро Геныч перенёс целую кучу унижений – её не вместила бы ни одна фекальная яма, ни одна говнопёрная бочка – даже с водомерным стеклом и при трезвом операторе шланга.
В школе начали проходить Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию (ВОСР), объявленную авторами насквозь лживых учебников величайшим событием ХХ-го века. Но величайшее – не значит самое лучшее: результаты этого преступного МНВ (Минимально Необходимого Воздействия, если вспомнить роман Айзека Азимова «Конец Вечности») на исторический процесс явилась диктатура маргинально-шариковского пролетариата – своеобразный аристократический снобизм шиворот-навыворот, инверсированная большевиками с преимущественно иудейской кровью дискриминация «белых» по природе людей, тотальный отстрел и без того немногочисленных в России белых ворон.
Дорвавшиеся до власти кухарки и кухари учили народ коммунизму вместо того чтобы точно вовремя приводить требующие капремонта «говнопёры» к фекальной яме, на которую – увы! – всё больше походила огромная безалаберная страна.
Сортир средней школы № 10 зимою напоминал альпийский глетчер – но далеко не с ароматом альпийских лугов. Был он хуже солдатского и представлял собой обыкновенную доску с непомерно большими, неровно вырезанными полупьяным плотником отверстиями, куда мог легко кануть не только недомерок-первоклашка, но и подросший шкодник-пятиклассник, и прыщавый выпускник, спускающий в дыру результаты своей торопливой суходрочки. Смельчаку, рискнувшему присесть над одной из «кротовых нор» в сплошном ледяном поле, требовалась немалая сноровка, чтобы удержаться на ногах во время вызванной несвежими школьными завтраками скоропостижной дефекации.
Школьники тоже напоминали солдат – их мышиного цвета «гимнастёрки» со стоячим воротником отличались от солдатских только цветом. Школьный ремень (почти точная копия солдатского) сидевшие рядком на корточках желторотые воробышки вешали себе на шею – как и взрослые воины славной Советской Армии на утренней, с подъема в 6.00, скороспешной оправке.
В классах было лишь чуточку теплее, чище и светлее, нежели в загаженном сортире. За партами сидели по трое, не снимая зимних пальто, – в такой тесноте писать диктанты о светлом будущем было невозможно. В третьем «А» классе, где пытался чему-нибудь научиться Геныч, по списку числился пятьдесят один человек. Дома у каждого из них царил подлинный коммунальный кошмар, находится там было невыносимо. Если уж на то пошло, люди просто физически не помещались в дощатых, продуваемых всеми сквозняками конурах-бараках – как в какой-нибудь вшивой КПЗ. Уроки пацанам учить было негде, почти никто их и не учил.
В классе иногда присутствовали двое-трое татар из аула: Шамиль, Исуля Идрисов, третьего Геныч не запомнил. Смуглые потомки Бату-хана учиться уму-разуму не желали, постоянно хватали колы и двойки. Заголяя перед всем классом немытые, вероятно, со дня основания Золотой Орды животы, они громогласно выражали несогласие с «судейскими» итогами Куликовской битвы и презрение к школе, всё так же вслух мечтая о том счастливом, наступающем с окончанием четвёртого класса дне, когда можно будет не корпеть над учебниками, а наконец пойти на работу – наверное, подручными на «говнопёр».
В хрестоматии для третьего класса некий лживый автор упоённо описывал возведение большого жилого дома из готовых квартирных блоков, происходящее примерно за… час с небольшим (!) – прямо на восторженных глазах без пяти минут новосёлов. Прозябающие в смрадных хибарках малыши должны были читать и пересказывать это беззастенчивое пропангандистское вранье. Советская власть знала толк в промывании мозгов, она умела повесить лапшу на розовые ушки недоедавших и никогда в жизни не гулявших по отдельной благоустроенной квартире мальчишек и девчонок.
Критически осмысливая явно заказной рассказик, Геныч вспомнил детскую книжку с картинками, которую когда-то попеременно читали ему вслух мать и бабушка. В познавательной, с позволения сказать, книжонке в лёгкой художественной форме описывалась технология строительства жилого дома, рассказывалось о различных строительных профессиях и специальностях, ну и, конечно, неоднократно упоминался по поводу и без повода лучший друг всех советских строителей товарищ Сталин. Текст книги был составлен таким мерзопакостным образом, чтобы у читающего сложилось впечатление, будто к изобретению и внедрению в повсеместную практику используемых в строительном деле инструментов, приспособлений и механизмов приложил свою сохнущую руку Иосиф Виссарионович. Будто бы до всесоюзного «усатого няня» несчастные русские зодчие не знали ни мастерка, ни носилок, ни полиспастов и тем более не подозревали о существовании башенных кранов.
Теперь Геныч мог читать самостоятельно и убеждался, что промывание неокрепших детских мозгов ведётся по раскручивающейся спирали – с бесконечными навязчивыми повторами лживого социалистического бреда.
Пока сюсюкающая, вся в розовых слюнях, хрестоматия напропалую врала «девчонкам и мальчишкам, а также их родителям», строительство новой, кирпичной школы №10, призванной заменить старую деревянную, в окружении забора из колючей проволоки, развалюху, окончательно застопорилось. Нулевой цикл зарастал не могущим читать розовые хрестоматии сочным зелёным бурьяном. По щербатым стенам в рваном спринтерско-фартлечном ритме носились друг за дружкой убивающие двадцать минут большой перемены школьники, ежесекундно рискуя сорваться в незакрытые проемы и прогалины на месте будущих окон и дверей недостроенного первого этажа. Резвые школяры убивали большую перемену, а недостройка убивала школяров. Двое-трое любителей «салочек на нулевом цикле» разбилось насмерть, несколько ребятишек на всю жизнь остались инвалидами.
Подходили к концу пятидесятые годы ХХ-го века, «Форд» и «Дженерал моторс» выпустили автомобили с виста-панорамным ветровым стеклом, а школа №10 боролась со вшами и глистами – довольно скудными средствами. Организм-хозяин (носитель вшей) просто-напросто обривался – тем самым значительно сокращался ареал обитания расплодившихся, как в Сталинградском котле, зловредных насекомых.
Лысый парнишка – это ещё куда ни шло, но девчонкам наносилась неизгладимая психологическая травма. Наголо обритые девчушки были вынуждены ходить в передававшихся из поколение в поколение унылых старушачьих платках и противостоять отнюдь не беззлобным насмешкам одноклассников – зачастую тоже только что обритых.
Школа была той же самой коммунальной квартирой, где все знают про всех всё. Как и нынче, в тогдашних учебных заведениях работали в большинстве своем случайные, не любившие ни своей профессии, ни тем более детей люди – это очень характерно для не дававшей человеку свободного выбора России. У многих преподавателей не было ни соответствующей подготовки, ни воспитания, ни хотя бы врождённого чувства такта. Они были плохими психологами.
Например, «кормление» противоглистными таблетками проводилось на глазах всего класса. В помещение входили две неинтеллигентные, деревенского вида сухопарые тетки в несвежих белых халатах. Одна несла графин с водой и гранёный стакан, другая – большую стеклянную банку с медикаментами. Текущий урок прерывали, тётки доставали длиннющий «список Шиндлера» и начинали громко выкрикивать фамилии глистоносителей, сопровождая перекличку вшивыми шуточками в их адрес. Под язвительные смешки не подхвативших заразу «чистокровных арийцев» вбирающий голову в узкие плечи очередной высмеянный глистоноситель выходил на полусогнутых к грифельной доске. Ему давали таблетку, вручали стакан с водой, и под пристальным взглядом класса и нейтрально улыбающейся классной руководительницы красный как рак несчастный больной должен был «лечиться» – вот так, прилюдно, в театральных вузах абитуриенты и студенты исполняют этюды на заданную тему. Слава Богу, в кале бедного Геныча дотошные белохалатные коновальши не обнаружили яиц глистов – паразитирующих на человеке гнусных червяков вывела Генке мамаша ещё до переезда на Рио-де-Фанейро. Таблетки помогали, но плохо: вокруг справляла перманентный пир ужасающая даже самих фанерщиков антисанитария.
На улицах, а скорее, в утопающих в зловонной средневековой грязи закоулках и переулках процветало злостное, зачастую бессмысленное хулиганство, мелкое и среднее воровство и, само собой, поножовщина – по поводу и без повода. Пырнуть ножичком противника было всё равно что два пальца обоссать. В большинстве случаев «поставленный на перо» раненый отлеживался дома и никуда не заявлял, дабы не словить добавки – обычная практика.
Одно время чрезвычайно распространилось подламывание выкрашенных ядовито-зелёной краской хлебных и продуктовых ларьков. Главной причиной, по которой фанерские парнишки решались на такое неблаговидное дело, было хроническое недоедание, а то и просто голод – переносить его растущему организму ох как непросто! В глубоком замусоренном овраге, разделявшем трущобное Рио-де-Фанейро и малую родину очень крупного дядьки Ильи Муромца – село Карачарово, – воришки спорили до хрипоты и полной потери голоса, пытаясь справедливо поделить полученный в результате ночного вскрытия ларька небогатый улов, чаще всего состоявший из раскрошенных «собачьих» бисквитов, просроченных вафель и мятых-перемятых дешевых ирисок «Золотой ключик» и им подобного суррогатно-фруктового дерьма.
Рио-де-Фанейро был предельно криминализован – наверное, не больше и не меньше прочих городских микрорайонов. Здесь откинувшаяся с кичмана опидоращенная шпана вовсю рекрутировала новобранцев в свои и без того многочисленные, плотно сомкнутые ряды. Испытывающие непреходящее чувство голода неприкаянные местные мальчишки внимали посверкивающим новенькими фиксами хвастливым мини-паханам с открытыми настежь щербатыми ртами и широко распахнутыми глазёнками. Одни только «погоняла» этих полуграмотных моральных уродов и готовых на всякие пакости уголовных псевдокумиров мальчишеской толпы могли привести в трепет и необратимо повредить неокрепшую детскую психику. Сиса, Скелет, Кусю (!!!), Зерно, Мотря, Грицацуй, Рогалик, Шоха – и так далее и тому подобное, вернее, непотребное. Внешний облик, ухватки и повадки местечковых уголовных и полууголовных королей обычно очень неплохо соответствовали их гнусным кликухам, что называется, коррелировали с ними – а как же иначе? Наиболее точно соответствовал своему страшненькому «кодовому псевдониму» злобный шпанёныш Владимир Коледа по прозвищу Скелет.
Среди фанерской шпаны не было ни одного «благородного жулика». На каждом лице носителя собачьей клички лежал мрачный отпечаток, грязный и размазанный, как из-под плохого струйного принтера, оттиск заведомо неудачной судьбы. Ещё по сути юные души этих носителей были уже необратимо искорёжены, искалечены, замутнены. Злобные, бесчестные, лживые, непорядочные, агрессивные, вороватые, склонные к немотивированному насилию над более слабыми – они вряд ли видели детство. Некоторых из этих замызганных вшивой жизнью ублюдков, упырей и подонков, отливавших чудовищные шипастые кастеты прямо в твёрдой земле на склоне оврага, Генычу было искренне жаль, других – абсолютно нет; этих последних Геныч позднее вывел под их омерзительными кличками в романе «Гуттаперчевая Душа в страдательном залоге» («Самый большой подонок»). Под самым большим подонком Генка, конечно, подразумевал самого себя – были на то свои причины.
Покрутившись-повертевшись среди наглой фанерской шпаны, Геныч понял, что с нею легитимной каши не сваришь, а если всё-таки сваришь, то получишь смертельное несварение желудка. На его счастье, в полку появился новый офицер, у которого был сынишка – почти ровесник Геныча. Вадим Зверьков жил с родителями в отдельной двухкомнатной квартирке. Одноэтажный силикатного кирпича домик имел два автономных входа-выхода и находился от шлакоблочной хибары Геныча на расстоянии не одного древнегреческого стадия, а на расстоянии одного стадиона, называемого «Фанерщик».
Ребятишки проводили вместе почти всё свободное от школы и приготовления уроков время. У Вадима в комнате стоял на тумбочке телевизор «Старт» – они с Генычем смотрели классную по тем временам детскую телепередачу «Выставка Буратино».
Выстав Бура, выстав Бура,
Выстав Буратино.
До чего же хороши
Разные картины!
Ведущий «Выстав Бура» – симпатичный усатый художник -рисовал на стекле, дабы не закрывать обзор юным телезрителям. Он очаровал парнишек. Кроме пластилина, с которым скульптор-самоучка Геныч обращался всё более умело, он не чурался и бумаги и карандашей, ну а Вадим вообще проявлял в рисовании явный талант. Приятели пытались подражать ловкому телехудожнику, постоянно упражняясь в карикатурном бумагомарании.
Но настоящий революционный переворот в сознании юных мазил-чернушников произвели альбомы комиксов (тогда их называли рисунками-сериями) датского художника-коммуниста Херлуфа Бидструпа. Альбомы прикупила в Москве бабушка Вадима и поначалу постаралась скрыть от малолетнего внука: Бидструп даром что был коммунистом – умудрился наклепать множество комиксов с откровенно «клубничными» сюжетами. Но Вадим прицепился сентябрьским репьём к воспитанной в викторианском духе старушенции и вскоре безраздельно завладел альбомами. Кажется, всего их было три. Друзья-приятели различали изданные в твёрдых обложках книги комиксов по цвету обложек: зелёная, сиреневая, а вот третью Геныч не запомнил – вполне возможно, третьей книжки рисунков-серий просто не существовало в природе.
Парнишки рисовали днями напролёт. Они обзавелись тетрадками и блокнотами (блокноты лучше подходили для рисунков-серий) и, забросив
другие увлечения, полность переключились на изготовление комиксов. Комиксы Вадима и Геныча представляли собой эклектичную пёструю смесь типажей «Весёлых картинок», «Мурзилки» и Херлуфа Бидструпа. Но очень скоро ребятишки сумели расстаться с набившими оскомину стереотипами и начали создавать оригинальные сюжеты со своими собственными героями. Вадим на голову превосходил всё-таки больше тяготеющего к пластилину Геныча в технике рисования, у него было прекрасно развито пространственное воображение.
Однажды приятели обнаружили на полке книгу «Рождение миров» – она захватила их целиком и полностью. В примитивных комиксах «мечтателей из Рио-де-Фанейро» и прежде проглядывали фантастические, космические мотивы, а после встречи с этой замечательной книгой ребята стали фанатичными приверженцами космической фантастики.
Следующая книга – «Затерянный мир» Конан Дойля – открыла им новую ипостась фантастики и ещё более подогрела интерес к фантастической и приключенческой литературе. Ну а научно-фантастическая повесть томского шестиклассника Толи Фоменко, напечатанная в «Пионерской правде» в обрамлении изумительных, наверное, перовых иллюстраций прекрасного художника Льва Смехова, подтолкнула Вадима и Геныча к собственному словотворчеству. Это было удивительно, невероятно, потрясающе: бывший старше их всего года на два-три башковитый сибирский пацан разродился вполне связным литературным опусом. На самом деле Толик Фоменко, прежде чем взяться за классическое школьное перо №11, детально проштудировал фантастические произведения знаменитого палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова. Повесть Фоменко «Тайна Млечного Пути» была в значительной степени компиляцией, но всё равно надо отдать пареньку должное. Толя показал всем юным пионерам поднимающей голову и поднимающейся с колен огромной страны, что советскому человеку любое дело по плечу.
В этом же вроде бы году «Пионерка» порадовала мальчишек ещё одним фантастическим «шедевром», написанным не школяром, а ушлым взрослым дяденькой – Александром Колпаковым. Дяденька отталкивался
не от «Звёздных кораблей» и «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова, а от произведения одного из родоначальнков советской фантастики Алексея Толстого – знаменитой «Аэлиты». «Гриаду» Колпакова друзья прочитали допрежь Толстовской «Аэлиты», поэтому восприняли явно преднамеренный плагиат как божественное откровение. На фоне лужи фекалий в оккупированном полуметровыми крысами дворе изображённый в «Гриаде» мир будущего казался немыслимо красивым. Пацаны не понимали, что Колпаков нахально околпачил мечтающих о лучшей жизни советских пионеров, а Алексея Толстого просто-напросто обокрал – точь-в-точь как шпанёнок Скелет зазевавшегося «иностранца» в зловонных переулках Рио-де-Фанейро.
По мнению Геныча (как нынешнего, так и тогдашнего), «Гриаду» «вытащил» и спас от общественного позора иллюстрировавший в том числе и фантастику блистательный художник Лев Смехов. Геныч влюбился в обладающего чётким, изящным почерком графика – вернее, в его великолепные рисунки. Несмотря ни на что, «Гриада» дала Вадиму и Генке новый мощный импульс. От динозавров «Затерянного мира», от ваяния в пластилине военных парадов на Красной площади, Куликовской битвы, самолётов, танков и бронепоездов Второй мировой Геныч переключился на пластилиновую иллюстрацию ловкой Колпаковской поделки или, если угодно, подделки. Они с Вадимом твёрдо верили, что до постоянно упоминаемого «Пионеркой» «прекрасного далёка», обозначаемого 2000-м годом (магия круглых цифр – третье тысячелетие, между прочим, начинается 1-го января 2001-го года), они наверняка доживут и воочию увидят полуторакилометровой высоты жилые дома-башни, раскинувшиеся на уступах небоскрёбов висячие сады, вертолётные и гравилётные площадки, ажурные виадуки и эстакады с несущимися по ним сверхскоростными поездами и ещё многое и многое другое, мастерски изображавшееся обладающим неистощимой, редкостной фантазией Львом Смеховым на страницах «Пионерской правды», не упускавшей случая патерналистски поразглагольствовать о скором наступлении желанного коммунистического рая.
Живущие на этом свете достаточно долго, наверное, помнят, что те далёкие годы были ознаменованы поистине протуберанцевым всплеском
трудового энтузиазма. Это было в чём-то жестоко прагматичное, в чём-то карикатурное, в чём-то по-детски наивное время семилетнего плана развития народного хозяйства СССР и заорганизованного движения так называемых бригад коммунистического труда, плодившихся повсеместно – как опарыши на изнывающей под летним зноем помойке в Генкином дворе. В представлении большинства советских людей коммунизм был не за горами – это амбициозно объявил руководитель Коммунистической Партии Советского Союза и председатель его правительства. Автор прогремевшей на всю страну сентенции – лысый, как инопланетянин из «Гриады», шапкозакидательски настроенный недоучившийся «царь Никита» – слыл самодуром, матершинником и ярым фанатиком кукурузы. Оброненная в полемическом запале фраза вызвала у «армянского радио» тяжкий вздох разочарования: спрятавшейся за Кавказским хребтом республике путь к коммунизму был заказан.
А пока получающие нищенскую зарплату работяги из кожи вон лезли в попытках заполучить красный вымпел с портретом картавого вождя или более внушительное переходящее красное знамя, Геныч, Вадим и от не хрена делать примкнувший к ним сын кагэбэшника Калугина Вовик поклялись переплюнуть снискавшего всесоюзную славу и популярность Толика Фоменко. Трое юных тщеславных идиотиков собирались в родительской спальне-гостиной у Геныча, рассаживались за круглым столом и писали, писали, писали – каждый свою книгу. Опус Вадима назывался «Полёт на Марс», бредятина Геныча – «Полёт на Венеру», а бывший интеллектуально слабее приятелей Вовик безграмотно озаглавил свой графоманский в квадрате романчик «Полётом по Плутонии». Парируя негодование Генки и Вадима на уродливость названия, Вовик беззлобно вразумлял слишком много возомнивших о себе интеллектуалов:
– Моя книга – как хочу, так и называю.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?