Текст книги "Силуэты минувшего"
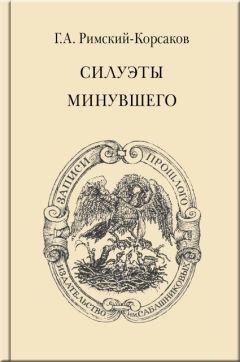
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
В нашей семье сохранился рассказ, наглядно подтверждающий факт обладания исключительной памятью некоторыми членами семьи Романовых. Генерал-инспектором военных учебных заведений был великий князь Константин Константинович (поэт К.Р.). Он ежегодно объезжал кадетские корпуса, расположенные в разных городах страны. Один мой родственник, Илюша Раздеришин, начал учиться в Киевском корпусе, который как-то посетил Константин Константинович. Потом Илюша по неуспеваемости в науках перешел учиться в Воронежский корпус. Обходя выстроившиеся роты кадет и пристально, как всегда, вглядываясь в лица подростков, князь вдруг остановился перед Илюшей и спросил: «Позволь… ты же учился раньше в … (К.Р. на секунду задумался) в Киевском корпусе? Как твое имя и фамилия?» Илюша назвал себя.
Два года спустя Илюша заканчивал Орловский корпус.
«А, Раздеришин, здравствуй. Мы с Илюшей старые знакомые, еще с Киевского корпуса», – обратился Константин Константинович к удивленному директору. Надо заметить, что никаких особых примет Илюша в своей наружности не имел и даже, можно сказать, что обладал чрезвычайно обыкновенным лицом, каких тысячи.
Зима пролетела быстро. В апреле учебная команда была нами закончена. Мы имели право быть произведенными после экзаменов в старшие фейерверкеры, т.е. старшие унтер-офицеры (три желтые нашивки на погоне). Экзаменовали нас на плацу в Павловске, разбив по батареям, наши командиры. У меня сошло все более или менее благополучно, кроме знания материальной части орудия и построения «параллельного веера», на что обращал большое внимание Эристов, командир нашей первой батареи. Мезенцевых и Штукенберга их командиры никаких таких премудростей не спрашивали, и тут же приказали им нашить две нашивки. Мне же Эристов сказал, что я должен ещё подучить построение веера, без чего нельзя себя считать артиллеристом.
Учебная наша страда кончилась. Через несколько дней нам предстояло выехать в лагеря.
Господа офицеры устроили гулянье «монстр» по случаю окончания наших занятий. Все солдаты учебной команды в качестве песенников были приглажены петь и пить в офицерское собрание. Нас, вольноопределяющихся, пригласить забыли.
Простившись с вдовой Постельниковой и с Маврушей (совсем пушкинские персонажи), мы переехали на жительство в Петербург.
Глава II
Не успели мы вернуться из Павловска в Петербург, как стали готовиться к выезду в лагерь Красного села. Однако я побывал и на скетинг-ринге, куда меня привлекало не само катанье на роликах, а элегантное общество. Громадное удовольствие я получил и от посещения маленького, ничем не примечательного, похожего на коробку кинотеатра «Марс», на Знаменской, рядом с Кирочной улицей. Он вмещал не больше ста человек публики. Встретить там офицеров было невозможно. Приходили сюда одни и те же люди, завсегдатаи, энтузиасты кино, как например семья Вонлярлярских. Музыка была представлена старой пианисткой и молодым скрипачом. Здесь я увидел два замечательных фильма: «Липучка» («La glie»), французский, и «Охоту на слонов в Африке». В этой картине было, между прочим, показано, что негры, убив слона, не ели его мясо до тех пор, пока в разлагающейся туше не появлялись громадные жирные черви, которых с удовольствием поедали черные охотники. Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я стал вегетарианцем, и не ел мясо ни при каких условиях, даже на войне. Только голод первых лет после революции вынудил меня опять есть мясо. Впрочем, я избегаю его и сейчас, и ем по необходимости.
Мы жили тогда на Троицкой улице близ Загородного. Дом был совсем новый и не успел просохнуть. В квартире была страшная сырость. Обои отваливались от стен. Для больных почек матери эта сырость была вредна. По совету хирурга Федорова она решилась на удаление больной почки. Тогда, кажется, только он один делал такие операции. Это дело было новое и не совсем проверенное. Операция состоялась 3 мая 1913 года, как раз в тот день, когда наша первая конная «батарея Его Величества» вышла на рассвете в Красное село. Конечно, состояние матери меня очень волновало. Однако все закончилось вполне благополучно, и мать стала чувствовать себя удовлетворительно. Перед операцией мама спросила Федорова, сколько она сможет прожить с одной почкой. Он подумал и сказал: «Что же, лет двадцать пять я могу Вам обещать». Матери тогда было 46 лет. Она скончалась в 1936 году. Если она не дотянула до 25 лет жизни, обещанных ей хирургом, то это можно объяснить тяжелыми бытовыми условиями и плохим питанием военных и революционных лет. Однако предаваться грустным мыслям в военной обстановке не приходится.
Я был назначен встать в ряды конных разведчиков. При выезде из ворот казарм пушки и зарядные ящики загрохотали по булыжной мостовой, заглушая человеческую речь. Этот грохот продолжался до выезда из города. Было холодно, неприветливо и неопределенно на душе. Наверное, никто тогда из нас не думал, что не позднее, чем через год нашей батарее будет суждено не раз громыхать по улицам безмолвных и притихших городов Восточной Пруссии. В дороге, несмотря на солнце, стало еще холоднее, и когда мы уже подходили к лагерю, пошел сильный снег с градом. Мы все сильно продрогли, так как были одеты в летнюю походную форму, то есть в одни гимнастерки.
1-я и 2-я батареи размещались в деревне Михайловке, в 6-ти верстах от Красного села. Для того чтобы там найти себе квартиру, я заблаговременно ездил туда с Штукенбергом. Мы долго ходили вдоль деревни, протянувшейся на версту, стараясь поселиться поближе к своим людям, но все избы были уже заняты. Наконец, кто-то предложил нам занять верх большой избы в самом начале деревни. Офицеры там не хотели жить, так как еще недавно там застрелился их товарищ, поручик Зиновьев. Это довольно темное и мрачное помещение состояло из двух больших летних горниц. Необходимую мебель, как-то: стол, стулья, походную кровать и широкую тахту перевезли из Петербурга. Квартира несимпатичная, но другой не было. Первое время по ночам бывало жутко. Что-то стучало, стонало, трещало. Но приведение не показывалось.
Шли мы из Петербурга «походным порядком», часа три, если не больше. Когда я добрался до нашей квартиры, то нашел там Додю Штукенберга в довольно жалком виде. Он совсем замерз, дрожал от холода, стучал челюстями и не мог согреться на своей походной постели, тем более, что мы, надеясь на май, и не захватили ничего теплого, чтобы прикрыться. Однако стакан доброго старого рома, который я привез в своей походной фляжке, согрел Додю, а приготовленный на примусе его любимый омлет, вернул хорошее настроение.
Служба наша заключалась в батарейном учении в пешем и конном строю. Пешее учение сводилось к действиям батарейной прислуги при орудиях. Для конных учений батарея с орудиями направлялась на военное поле, версты за три-четыре, и там по команде командира проделывала всякие перестроения на различных аллюрах. За очень редким исключением все это учение сопровождалось невероятным криком и руганью, которая передавалась по команде сверху вниз. Командир батареи кн. Эристов ругал старшего офицера и взводных, и всех вообще за неточное знание устава и недостаточно быстрое перестроение. Офицеры ругали солдат. Солдаты ругали и дергали своих коней. Кони считали, что при создавшейся ситуации им всего лучше держаться вместе, и не было никакой силы заставить какого-нибудь коня выехать из строя и отделиться от батареи. Один только вахмистр, который хорошо знал все команды и устав, сохранял наружное спокойствие и самообладание, подсказывал молодым офицерам, что надо делать. Новый способ «немого» командования батареей при помощи сигналов, подаваемых командиром шашкой, был только что введен в артиллерийский устав. Предполагалось, что командиру, находящемуся на некотором расстоянии от батареи, удобнее командовать знаками, чем голосом, который в боевой обстановке может быть и не услышан. Правда, наряду с шашкой команда подавалась и сигналами трубы, звуки которой были слышно отчетливо и на большом расстоянии. Насколько мне известно, в войну с Германией ни одного раза не применялась немая команда, что можно было, конечно, предвидеть заранее.
На учении в Красном селе господа офицеры применяли смешанный способ управления батареей в поле: голосом и красноречивыми жестами, где эволюции шашкой играли наименьшую роль. Это был способ «mixt». Поминание некоторых неблаговидных эпизодов из биографий родителей нижних чинов продолжалось часа два, после чего батарея возвращалась домой, то есть в Михайловку. Песенники выезжали вперед и все приходили в мирное благодушное настроение. В это время никто старался не думать, что завтра опять будет все происходить также хаотично и надрывно, гнусно и глупо!
Если по пути нам встречалась 2-я батарея, то «песенники» исполняли так называемый «галоп 2-й батареи», то есть пели известную тогда цыганскую песню «За дружеской беседою…», а песенники 2-й пели наш галоп: «В деревне Михайловке девка родила». Тем самым мы выказывали уважение и почтение нашей братской батарее, и они отвечали нам тем же. Во время этого пения офицеры отдавали честь, как при исполнении полкового марша или гимна. Этот спектакль доставлял большое удовольствие всем его участникам.
Командовал 2-й батареей полковник Гриппенберг, сын генерала, известного во время войны с Японией. Полковник лишился ноги в этой войне, что не мешало ему очень смело ездить верхом, причем ногу-протез ремнями привязывали к седлу. Ездил он всегда галопом, потому что так для него было удобнее. Зато это создавало ему репутацию лихого командира. Конечно, в случае какой-либо аварии с лошадью он мог бы сильно пострадать.
Кормились мы с Додей из офицерской столовой. Это было дорого и неудобно. Приходилось самим ходить на «Царскую дачу», так называлась небольшая летняя дача, построенная для Николая II, когда он в 90-х годах командовал первой батареей. С тех пор там летом жили командиры батареи и помещалось офицерское собрание. (Дача была построена в ложнорусском, «ропетовском» стиле, с «петушками»). Это давало лишний случай встретить кого-нибудь из офицеров, что совсем нас не радовало. Платили мы за нашу квартиру тоже дорого: кажется, рублей 200 за три месяца. Живя в Михайловке, мы совсем не чувствовали себя «на даче». И сама деревня без единого деревца, и жалкие огороды, и совсем скучная, чахлая природа, вполне отвечала лагерному настроению, когда оставалось только одно: пить, пить и пить. Что мы и старались делать по силе возможности.
Наконец я был произведен в старшие фейерверкеры (старший унтер-офицер с тремя нашивками на солдатском погоне). Это произошло так. Как-то на учении при орудиях Эристов подозвал меня и спросил, какой прицел я скомандовал бы, чтобы обстрелять идущую по военному полю 2-ю батарею?
«Прицел пять ноль, трубка – 5 ноль, Ваше сиятельство».
«Недолет».
«Прицел шесть ноль, трубка пять пять», – импровизировал я.
«Перелет, и большой».
«Прицел пять пять, трубка пять пять».
«…И 2-я батарея благополучно возвращается домой в Михайловку. Можете прицепить себе третью нашивку».
«Покорнейше Вас благодарю, Ваше сиятельство».
Так Эристов не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над моими артиллерийскими знаниями. Воображаю, как он меня презирал! Меня такая награда мало порадовала. Я чувствовал, что здесь что-то не то. Так оно и оказалось. Дело в том, что в это время мой брат Дмитрий был объявлен женихом Веры Евгеньевны Панчулидзевой. Эристов, как хороший знакомый, ездил поздравить Веру и ее родителей и она со свойственной ей жеманностью и аффектацией, обратилась к нему: «Александр Николаевич, я надеюсь, что брат моего будущего мужа у меня на свадьбе будет с тремя нашивками?» «Обязательно», – ответил Эристов. Вера была девушка на возрасте, очень хотевшая выйти замуж. Родители ее не были богатыми, но жили в достатке. Отец грузин – генерал-лейтенант в отставке, бывший нижегородец, получивший Георгия за взятие Карса. Мать – урожденная Якимова, армянка, владела какой-то нефтяной вышкой в Баку. Женихов для Веры ловили из среды гвардейской молодежи. Сначала ловили в Варшаве, где в Гродненском гусарском полку служил Алексей Панчулидзев, старший брат Веры и товарищ по полку моего брата. Вера начала окручивать брата Дмитрия еще там, но тогда он совсем об этом не думал и имел довольно прочные связи с разными француженками из кафе-шантана (Лирио и др). Эти милые особы говорили про брата: «Il n’est pas beau, mais il a un corps aristocratique»3535
Он не красивый, но у него аристократическое тело (фр.).
[Закрыть]. Позднее Лирио жила в Петербурге, и ею увлекался некоторое время и мой брат Борис. Когда меня ей представили, она очень комично всплеснула руками и сказала:
«Как? Еще один Римский-Корсаков? А я думала, что уже со всеми с ними переспала? Сколько же их еще?»
Очень неглупая была женщина.
Кроме брата, у Веры на прицеле было еще два кандидата в женихи: Юрий Гершельман, офицер нашей батареи, сын бывшего московского генерал-губернатора, и еще флигель-адъютант Петровский, «желтый» кирасир. Однако Петровский не оправдал надежд Веры и женился на другой. Гершельман, возможно, и женился бы в конце концов, но без особого энтузиазма. Идя навстречу желанию нашей матери, брат Дмитрий в принципе не возражал против подходящей женитьбы. Он бывал постоянно в семье Панчулидзевых, и с Верой у него были хорошие отношения, но не было того чувства к ней, которое приводит, наконец, к женитьбе. В зиму, предшествующую его браку, он очень был занят Анной Федоровной, из числа тех милых молодых особ свободного поведения, которые постоянно бывали на скетинг-ринге, но держали себя с большим достоинством. Увлекался ею и А.А. Вершинин, позднее муж нашей сестры, товарищ Дмитрия по Гродненскому полку. Не знаю, как они с братом Дмитрием делили благосклонность Анны Федоровны, но, кажется, у них была полная на этот счет договоренность. Какую-то не последнюю роль в этой лирической элегии играл и А.Н. Линевич. Почему-то, не знаю, но они упорно отказывались познакомить меня с Анной Федоровной, хотя я и знал, что ни моя внешность, ни кошелек не давали мне право надеяться на успех.
Этой же зимой 1912-13 года у моих родных возник проект женить брата на очень славной девушке, Марусе Волковой. Отец ее, Александр Александрович, красавец мужчина, à la Стива Облонский, занимал разные синекуры во многих частных обществах, а мать была дочерью очень богатой генеральши Дукмасовой (кажется, рожденной фон Дервиз). У нее был очень неплохой особняк на Большой Морской, рядом с Германским посольством. Маруся была единственная дочь и любимица бабушки Дукмасовой, женщины очень скупой и злостной. (Много позднее, уже живя в Петропавловске, я познакомился с семьей другой дочери Дукмасовой, Софьей Ивановной, которую генеральша-самодурка почему-то не желала знать). Судьба Маруси сложилась трагично. В 1915 году она находилась сестрой в одном из санитарных поездов и погибла от аварии с примусом. Все очень ее жалели, а в 1918 году погиб ее отец. Мы все очень желали этого брака. Поэтому решение брата было для родных полной неожиданностью, и было принято без энтузиазма. По-видимому, инициатива в этом деле принадлежала Вере. Она энергично перешла в наступление на брата. Наверное, поплакала. Наверное, сумела убедить брата в необходимости жениться на ней; в том, что его отказ может обидеть ее родителей и братьев, которые все так любят Митю.
Дом Панчулидзевых был светский, типично Петербургский. Жили только визитами, бриджем, свадьбами, похоронами, сплетнями. Очень много и вкусно ели, и любили угощать. Ни одной книги я у них в доме не видал. Никаких предметов искусств. Впрочем, родители Веры были люди доброжелательные, но без особой родственной теплоты и весьма ограниченных интеллектуальных интересов. Типичная петербургская военная семья. Это был «свет», но не высший. Квартира их была по Кирочной улице дом 9, около Литейного. Под ними жила моя кузина С.А. Бантыш, сестра Оли и Сережи Евреиновых. Панчулидзев-отец, Евгений Алексеевич, служил в офицерской кавалерийской школе, когда там начальником был Брусилов. Они были в приятельских отношениях, и Брусилов был крестным отцом Веры. До того, кажется в 90-х годах, Евгений Алексеевич командовал Нарвским гусарским полком в Ельце.
В 1914 году Брусилов вызвал Панчулидзева из отставки и назначил его начальником санитарной части 8-й армии. Однако с ним произошел очень печальный случай. При отступлении нашей армии в 1915 году из Карпат, в одном из городов Галиции был оставлен полевой госпиталь и в нем свыше 500 солдат больных тифом. Австрийцы узнав, что госпиталь тифозный, сожгли его со всеми больными. Панчулидзев был отдан под суд. Следствие тянулось очень долго. Брусилов не изменил своего дружеского отношения к старому товарищу. Он жил при штабе армии и ежедневно обедал с Брусиловым в его вагоне. Но старый генерал очень болезненно переживал случившееся. Удар был слишком силен, и Панчулидзев умер до окончания следствия. А вскоре умерла и его жена Варвара Антоновна.
Свадьба брата Дмитрия состоялась летом. Венчание было в церкви Пажеского корпуса. У брата шафером был я, поручик Феодосиу (варшавский улан) и Штукенберг. У Веры: Юрий Гершельман, Борис Панчулидзев (брат, паж) и Фон-Мевес, конной артиллерии. Все было чинно и скромно. Но зато после кое-кто из нас решил гулять и дальше, и мы три дня «пировали» на холостой квартире нашего родственника Кости Богдановича. Все были без денег и поэтому глушили только водку, закусывая редиской. В нашей компании находились два известных гитариста: один – профессионал, эстрадник и альфонс Саша Макаров, автор душещипательных романсов, а другой – Всеволожский, бывший правовед, камер-юнкер, человек хмурый и странный. Его первая жена Селецкая, а вторая Леночка Мерц, не были в восторге от его характера.
Не успел я после свадьбы прийти в себя, как в лагерной жизни произошел со мной конфузный и досадный случай. Как-то поздно вечером, когда мы уже спали после утомительного рабочего дня, нас разбудил вестовой из канцелярии батареи. Он передал мне приказ по конной артиллерии, подписанный Орановским, и сообщил, что его срочно послал ко мне Огарев, старший офицер батареи. Никогда раньше нам, вольноопределяющимся приказы не присылались, и тем более ночью. Заподозрив недоброе, я при свете свечи прочел, что в расписании дежурств на гауптвахте в Красном селе стоит моя фамилия на первом месте. Я знал, что каждому из нас в течение лагерного сбора придется быть караульным начальником при штабе нашей бригады в Красном селе, но надеялся, что это будет позднее, а пока почитывал устав караульной службы. И вдруг!.. Так как я служил в первой батарее, очередь началась с меня. Конечно, остаток ночи я не спал и, волнуясь, проклинал все и всех. Рано утром я побежал в батарею, чтобы захватить с собой назначенного от нашей батареи мне в помощники младшего фейерверкера, который тоже перепугался и бросился начищать свои сапоги, памятуя, что Красное село не Михайловка, где наше строевое начальство не очень придиралось к внешнему виду солдат. А в Красном всякого начальства, хоть залейся! Дежурного по батарее я попросил передать вахмистру, который еще спал, что мы выбыли в Красное село для несения караульной службы. По дороге я старался припомнить устав, но к ужасу своему убедился, что забыл от волнения все его параграфы. Я помнил только наставления Линевича и Перфильева, что о каждом выстреле часового на посту военный министр докладывает государю Императору.
Явившись в 4-ю батарею к нашему старому другу вахмистру Степану Петровичу Зайченко, я сообщил ему о причине моего прибытия. Он выразил некоторое удивление, заметив, что караульным начальником по расписанию назначен их фейерверкер. Я показал Зайченко приказ. Он пожал плечами и пошел мне помочь вступить в должность караульного начальника. Караульное помещение с гауптвахтой помещалось на самом шоссе, по которому беспрерывно проезжали всякие высокие начальники, начиная с командующего войсками гвардии великого князя Николай Николаевича. Для всех для них надо было выстраивать караул с различными церемониями для отдания им чести. Выстраивался караул и в других случаях, предусмотренных уставом караульной службы, самой зловредной и бесполезной книжонкой, созданной высокопоставленными военными тунеядцами специально для того, чтобы портить кровь таким лихим «вольноперам», каким был тогда я. Никакой «мувмант» тут уж помочь не мог. Просто надо было знать караульный устав, что я сказать про себя никак не мог. Поэтому я решил не прикрываться фиговым листком своего сословного превосходства и откровенно обратился к солдатам 4-й батареи, находящимся в моей команде, с просьбой мне помогать и подсказывать, что и как надо делать.
Помимо беспокойства чтобы не пропустить какое-нибудь высокое лицо, я чувствовал себя неуверенно по отношению к арестованному солдату 4-й батареи, сидящего на гауптвахте под моим надзором. Зайченко меня предупредил, чтобы за ним поглядывать: может напиться пьяным, и вообще. Арестованный только номинально находился под замком. Он запирался в камеру только тогда, когда появлялся дежурный офицер или другой начальник. В остальное время «заключенный» сидел, покуривая с командой, или играл в карты. Вечером мой арестант что-то повеселел, и в воздухе запахло горючим.
Вдруг мой помощник предупредил меня, что по шоссе движется Кавалергардский полк с полковым штандартом. А это значило, что надо выстроить на линейку весь караул для отдания чести, что я и сделал. Но когда полк подошел к гауптвахте, то определилось, что штандарта при нем нет.
Началась дискуссия: распускать караул или держать его, имея в виду, что кашу маслом не попортишь. Старые солдаты ушли в караульное помещение, а некоторые остались со мной, из любопытства. Получилось что-то совсем ни на что не похожее. Беспорядок и неразбериху в карауле можно было сразу заметить. Конечно, если бы это проходили не Кавалергарды – «аристократический военный клуб», как писал о них Игнатьев, а более эрудированная в строевой службе часть, то мне бы не прошло это безобразие без последствий. Но самое неприятное обнаружилось в последнюю минуту: штандарт все-таки был с ними, а я от волнения его не приметил, и никто мне об этом не сказал! Я был крайне раздосадован и совсем потерял голову от огорчения, и ожидал всяких неприятностей. Так что, когда пришел в караульное помещение наш адъютант, А.П. Саблин, то я решил, что он несет мне, по крайней мере, выговор. Но оказалось, что он пришел спросить, почему я нахожусь в карауле? Я показал ему приказ, подписанный им. «А, вот как? Я и забыл», – сказал Саблин.
Наступила ночь, мой помощник дипломатично спросил меня, как я отнесусь, если к арестованному ненадолго придет его «сестра»? Я отверг эту просьбу. Солдаты стали меня уговаривать. Парень посажен на тридцать суток. Скучает. Я согласился, чтобы «узник» поговорил с сестрой через окно своей камеры, выходящее на задворки 4-й батареи. Однако «сестре» это не понравилось. Она фыркнула что-то, пожала плечами и ушла. По-видимому, она не знала того, что знают все наши десятиклассницы, что Маша Троекурова имела сношения с Дубровским через дупло. Я же предлагал заменить дупло окном. Однако остальная часть ночи прошла спокойно, если не считать, что приходил проверять посты дежурный офицер. Утром я сказал об этом арестованному, и поздравил себя, что не разрешил «сестре» ночевать у него.
«Напрасно беспокоитесь об этом», – сказал мой узник. Он подвел меня к окну своей камеры с железной решеткой и без малейшего труда вынул из нее несколько железных брусьев.
«Пока бы вы ему рапортовали, ее и духа бы здесь не осталось», – сказал он под дружное гоготанье всего караула. Мне оставалось только присоединиться к общему веселью.
Так что, ночью все спали, кроме меня и часового.
Когда я вернулся в Михайловку, Эристов сказал мне, что я все перепутал с дежурством и что по приказу я должен был вступить в караул не вчера, а только сегодня. Итак, я исполнил приказ на сутки раньше! И никто меня не остановил и не поправил. Виноват во всем был, конечно, Огарев, который создал ночную панику с приказом. То, что недосмотрел приказ малограмотный Зайченко – это понятно. А Саблин, который не сумел прочитать свой собственный приказ?! Как этот сам по себе незначительный эпизод характерен для служебных нравов гвардейской конной артиллерии! А может быть не только гвардии конной артиллерии, а вообще гвардии в предреволюционные годы, когда весь государственный строй «вонял с головы». На ошибках учатся. Я подробно рассказал моим товарищам вольноопределяющимся обо всем случившемся со мной. Они внимательно слушали и все приняли к сведению, поэтому, когда пришла их очередь вступать в караул, они уже хорошо к этому были готовы, и все у них сошло гладко и благополучно.
Время в лагере тянулось томительно, скучно и однообразно. Мы очень уставали, мало спали, много выпивали, ничего не читали, болтали всякий вздор и ждали, как школьники, воскресенья, чтобы поехать в Петербург, освежиться и помыться. Было жаркое лето, но мы его не воспринимали так, как это бывает в настоящей деревне. Да и кругом была такая убогая природа, крестьяне были какие-то не настоящие. Может быть, это еще от того, что я не видел у них пахотную землю, а только чахлые приусадебные огороды.
Офицеры тоже скучали. Организованное и узаконенное безделье томило их. У нас было мало женатых офицеров, да и жены все, кроме Н.Е. Барановской, оставались в городе. Поскольку молодежь тянулась к женскому обществу, у Барановской было постоянное с6орище офицеров, и, проходя мимо их дома, всегда можно было слышать громкий смех, визг, веселые и всякие дураческие выкрики на русском и французском языках.
В нашей батарее было девять офицеров. Женатые были: командир Эристов, жена (рожденная Малама) – довольно привлекательная молодая дама, в которую Эристов был влюблен. Потом старший офицер Огарёв (жена – рожденная герцогиня Сасо-Руфо) и поручик Дмитрий Гершельман 1-й. Я мало имел дела с капитанами Огаревым и Роттом, а больше с младшими офицерами: тремя Гершельманами – Юрием, Сергеем и Александром, а также с Б.В. Латур де Бернгардом. Юрий Гершельман был известный спортсмен. Он много скакал. В обращении довольно надменен, сдержан и замкнут. Я думаю, что сдержанность его происходила от того, что он не чувствовал под собой крепкой материальной опоры. Конечно, лишь деньги дают свободу в обращении, смелость и «развязность». После смерти его отца, бывшего Московского генерал-губернатора, мать Юрия стала получать довольно скромную пенсию, и сыновья, чтобы служить в конной артиллерии, должны были сжиматься до крайности. Я уже писал о том, что Сергей Гершельман в офицерском собрании не пил другого вина, кроме водки, и только самыми маленькими ликерными рюмками.
Все они держали себя с нами вполне официально и отчужденно. Вне служебного времени мы с ними не встречались. Кстати, никаких дежурств в лагере мы не несли и посещали только строевые занятия. Самым строгим начальником был Эристов. В нем играла кавказская кровь. Он шумел, горячился, иногда взрывался от бешенства, но солдат не бил. У него, конечно, были любимцы. В благодушном настроении он мог, как Наполеон, в виде особой награды потрепать солдата за ухо или похлопать ласково по щеке. Он хорошо знал службу. Окончил артиллерийскую академию и прекрасно стрелял, что мы увидели на войне.
Капитан Ротт 2-й мне запомнился больше как красивый офицер, посещающий всякие светские увеселения. Его можно было встретить всюду – и в театрах, и на скачках, и на балах, и на скетинг-ринге. Чаще всего он сопровождал одну молодую даму, про которую в свете говорили, что она «очень интересная дама, но у нее неприятный Ротт». Может быть, такая его оценка была вызвана тем, что держался он всегда немного надменно, смотря на окружающих с некоторым презрением. Позднее я понял, что это была лишь усвоенная им поза, не соответствующая его внутреннему душевному содержанию.
Моим командиром взвода был поручик Борис Владимирович Латур де Бернгард. Его отец, генерал, носил только одну фамилию – Бернгард. Но сыну это показалось мало. Он раскопал какие-то фальшивые документы, съездил во Францию и выяснил, что имеет право присоединить к Бернгарду прозвище – «де Латур», что значит буквально: «из башни» или «из замка».
Его отец, старый генерал-артиллерист, был известен тем, что очень старался выглядеть моложе, красил волосы, румянился и пудрился. Говорили о его повышенной эротической доминанте. У него было два сына: Борис и Георгий, чиновник министерства иностранных дел. Среди «золотой молодежи» у Георгия была совершенно определенная скандальная репутация, что не мешало ему быть хорошо принятым в обществе.
Латур был любим солдатами. Отношения у него с ними были вполне дружеские, вполне человеческие. Мягкий в обращении, он никогда не повышал голоса и не кричал на солдат. Всегда крайне сдержанный, хотя иногда казалось, что эта сдержанность дается ему не легко. Свою нервозность он умел крепко держать в руках.
Пришел он в батарею из Пажеского корпуса, и к строевой службе относился безразлично. Был постоянным ходатаем перед начальством по всем солдатским нуждам. На всякие проступки солдат и отступления от правил службы смотрел более, чем снисходительно. Говорили в шутку, что когда поручик Латур дежурит по бригаде, то караульный начальник, все дежурные и дневальные могут спать спокойно. Он их никогда не будил. Он был худощавый, высокий брюнет с довольно красивым лицом. Подстриженные усики по-английски, как их тогда носили, скрывали его коварные усмешки и язвительные улыбки. Манера говорить у него была такая, как будто он только по необходимости говорит нужные в данном случае слова, а сам думает что-то совсем другое. Он был склонен к хорошему, тонкому юмору, и, как мне кажется, был не глуп. Но все свои качества он старался тщательно скрывать из соображений хорошего тона или светской осторожности. У Бориса Латура был еще брат, чиновник министерства иностранных дел.
Мои отношения с Латуром были несколько своеобразные. Случайно я узнал один факт из его биографии, который он хотел от всех скрыть. Латур знал, что мне это известно. Конечно, я никому и никогда не говорил об этом. Но, разговаривая со мной, он как-то тревожно смотрел мне в глаза, как бы спрашивая: «Будешь молчать или нет?». Я же всем своим видом старался дать ему понять, что не собираюсь ничего разглашать и причинять ему неприятности. Тем не менее, мне кажется, он не вполне был уверен во мне, и все время опасался меня. Думаю, что от этого он не сделал ничего для того, чтобы я, будучи позднее произведен в офицеры, остался служить в батарее. Он был слишком эгоист и светский карьерист, чтобы из чувства самосохранения не желать видеть меня возможно дальше от Петербурга и гвардейской конной артиллерии. Он был типичный представитель петербургского светского общества. Холодный, эгоистичный, озабоченный только своим личным успехом в этом обществе. Но все ему можно простить, все грехи и слабости, за теплое, дружеское, по-настоящему глубоко человечное отношение к солдатам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































