Текст книги "Силуэты минувшего"
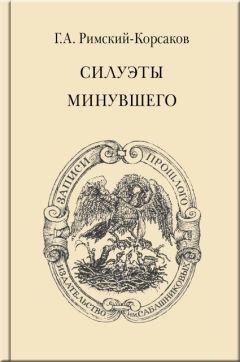
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
В это время «прикомандировался» к Правоведению один юнец-сирота. Он нигде не учился, принадлежал к высокому военному обществу. Прожигал жизнь довольно интенсивно и принимал участие во всех наших эскападах и «наворотах», как говорил милейший Борис Пронин, хозяин «Бродячей собаки». Этот славный юноша был Алек Галл, племянник известного генерала, покончившего с собой после того, как был в аристократическом Яхт-клубе ложно обвинен конногвардейцем Бискупским в нечистой игре в карты. Неизвестно, зачем сделал Бискупский такую подлость, но общественное мнение считало, что это он подкинул Галлу краплёные карты, и генерал Галл застрелился, не признавая себя виновным. Алек Галл был юноша, выросший без родительской ласки, по своей природе очень добрый, чувствительный и привязчивый. Стоило кому-нибудь сказать ему несколько теплых слов или пожалеть его, как ребенка, и он крепко привязывался, и даже больше – прилипал к этому человеку. Он напоминал маленького щенка-кутёнка, который скулит и ищет сосок матери, и, найдя чей-нибудь палец, сосёт его, блаженно помахивая хвостиком. Но это был типичный петербургский юноша хорошего общества, лишенный каких либо позывов к образованию и интеллектуальному развитию. Его идеалом было удовольствие. Труд и борьба за существование были понятия, исключённые из его словаря. Этику он понимал как «светские приличия». При всём том, он был очень простой и сердечней мальчик, и это помогало ему быстро сближаться с людьми.
Галл очень привязался к Армфельдту, в семье которого его принимали, как родного. После того, как его «пожалела» моя мать, он проникся и к ней теплым родственным чувством. Таким образом, приглашая к себе Мику Армфельдта, я естественно пригласил и Галла. Но они все пожелали остановиться не у меня, а в гостинице.
В первый же день мы помчались на бега, чтобы проверить нашу беспроигрышную систему выигрывать в тотализаторе. Однако к концу бегов для нас стало ясно, что наша система, несмотря на свою гениальность, не свободна от недостатков и требует доработки. Мы обедали в «Дрездене», где остановились мои товарищи. Мика Армфельдт жаловался, что у него болит живот. Вечером поехали смотреть «Дядю Ваню» в МХТ, и Мика остался дома и лег спать с грелкой на животе. Утром я узнал, что ночью к нему вызывали врача. Я срочно перевез его к нам, на Никитский бульвар, 12. Но ему делалось всё хуже, боли усиливались. День прошел в волнениях. Галл решил позвонить по телефону матери Армфельдта, чтобы сообщить ей о болезни сына, с тем, чтобы она переговорила с начальством Училища, что Мика может задержаться в Москве. Дело осложнялось тем, что все мы уехали в Москву без разрешения директора или хотя бы классного руководителя, рассчитывая вернуться к началу занятий. Не добившись по телефону матери Мики, Галл отправил телеграмму его тётке, которая была женой П.Г. Курлова, бывшего тогда шефом жандармов и товарищем Министра внутренних дел. На другой день московский губернатор В.Ф. Джунковский прислал узнать о здоровье Мики. Мы с Галлом отправились к нему и рассказали все, как было. Джунковский сказал нам, что его запросил Курлов и директор Правоведения, генерал Мицкевич, не фиктивная ли эта болезнь и не было ли дуэли? Очевидно мать Армфельдта была у Мицкевича и он, узнав, что ее сын уехал в компании известного скандалиста Корсакова и «бретера» Фермора, решил, что налицо дуэль и тяжелое ранение Армфельдта! Мы предложили Джунковскому свидетельство врачей, но он сказал, что ему достаточно наших объяснений.
В тот же день Фермор и Неклюдов вернулись в Петербург, а хирург Гинце потребовал немедленно делать Мике операцию аппендицита, но требовал также и согласия матери, так как считал положение больного очень серьезным. Галл опять бросился к Джунковскому, чтобы найти мать Мики по правительственному проводу. Наконец удалось получить согласие матери, и она сообщила, что выезжает в Москву.
Мику перевезли в лечебницу Руднева в Серебряном переулке на Арбате. Гинце сказал моей матери, что положение Мики очень тяжелое, что упущено много времени, что у него гнойное воспаление и что он видит один шанс благоприятный – это молодость больного.
Армфельдт потом рассказал, что когда его выносили санитары из нашей квартиры, то он, окинув взглядом всю обстановку: цветы, рояль, гравюры на стенах и нас, его сопровождающих, хотел нам сказать, что все нас окружающее мелко и ненужно, что всё это прах, и хотел сказать моей матери что-нибудь хорошее, поблагодарить ее…, но ничего не сказал, решив, что и вещи, и слова, и волнение её, и вся сцена вокруг него – всё это прах, ничто в сравнении с тем, что он умирает… Операция по удалению аппендикса продолжалась один час и 20 минут. Я ожидал в вестибюле лечебницы результата. На площадке лестницы Галл рыдал, спрятав голову в коленях у моей матери и умоляя ее молиться за Мику. В эту минуту приехала графиня Армфельдт. Раньше я с ней не встречался. Она спросила о сыне. Я сообщил ей, что операция еще продолжается. «Давно начали?» – спросила она. Я ответил, что давно, больше часа. Она посмотрела на меня долгим вопросительным взглядом и сказала: «Идёмте к нему». На лестнице, увидев рыдающего Галла, она остановилась, и еще раз посмотрев мне в глаза, спросила: «Скажите правду: это не дуэль?» Я заверил ее, что никакой дуэли не было. Лицо её было сурово и по нему нельзя было прочесть, какие думы и чувства волновали её в эту минуту. Конечно, в операционную сестра нас не пустила, но сказала, что операция закончилась. Вышел Гинце. Он был сосредоточен, и видно было, что достаточно измучен. На вопрос о сыне он ответил так: «Операция прошла удовлетворительно. Положение, тем не менее, остается серьёзным. Но всякие чудеса бывают». Три дня положение Мики было неопределенным, и у доктора был сконфуженно-предупредительный тон разговора.
Наконец Мика пришел в себя и стал возвращаться к жизни. Тогда графиня уехала, отклонив предложение моей матери поселиться на время болезни Мики у нас. Поражала её выдержка. За все эти тревожные дни ни жалобы, ни слезы, ни лишнего слова. Такая же выдержка была и у сына, за что я его очень любил. Товарищи Мики любили повторять слова, сказанные Наполеоном о его деде: «Интриган и развратник», применяя эту характеристику к внуку. Но надо признаться, что «развратником» он был не больше всех нас, грешных. Правда во время операций, под наркозом, он болтал такую чудовищную дрянь и сестры настолько смущались, что Гинце прикрикнул на них и предложил не обращать внимания на бред больного. Потом Гинце сказал графине, что он не ожидал, что светская молодёжь блестяще освоила жаргон пьяных сапожников или матросов. Но интригу Мика любил, любил как артист, как художник. Любил интригу, ради интриги. Но он никогда не пользовался недостойными приемами, ложью, клеветой, сплетней. Северная, скандинавская выдержка наряду с большим и смелым умом, и редкая человеческая обаятельность выделяли Армфельдта из рядов бледных, тусклых, заштампованных правоведов – «государственных младенцев». Я мало знаю о семье Мики. Родители его, кажется, были в разводе. Мать его была Туманова, но не кавказская, а подлинной «крови Рюрика», смоленская княжна. Средств у семьи не было вовсе. Трое Армфельдтов учились в Правоведении на стипендию «Великого княжества Финляндского». Частенько мы с Яковлевым, смеясь, говорили, что если бы Мика захотел, то мог бы стать и сам великим князем Финляндским, и обещали ему свою поддержку в этом. Но в этом-то и дело, что он сам этого совсем не хотел и все его мечты сводились в стенах училища к доброму «навороту» и – сорвать банк в «железку».
Во время войны 1914 года он стал офицером, «синим кирасиром», то есть гвардейского Кирасирского «Ея Величества» полка. За несколько дней до февральской революции я с ним обедал у «Контана». Возвращаясь домой, мы говорили о том, что «не все благополучно в Датском государстве», что в политическом мире назревают какие-то бурные процессы. Тогда уже все говорили в Петербурге, как о назначенном бенефисе Шаляпина, что – «Через две недели будет революция». «Я думаю, – сказал Мика, – что если завтра будет революция, то все мы (он, по-видимому, имел в виду офицеров гвардии и светскую молодежь) будем висеть на фонарях, хотим мы этого или не хотим. Для нас ничего другого революция не даст. Вспомни 1789 год. В новой России нам нечего будет делать». Я возражал ему и горячо доказывал, что при любом строе армия и офицеры будут нужны, а с уничтожением чиновников и бюрократов откроется безграничное поле деятельности для людей доброй воли. Мика скептически улыбался и, пожимая мою руку, сказал: «Что же, тем лучше, если это будет так, но я в это не верю».
Это была моя последняя встреча с ним. Армфельдт благополучно провёл всю войну на фронте. Весной 1918 года кирасиры разоружались где-то на Украине. Офицеры съехались в Киев. Когда Антонов захватил Киев, то началось массовое уничтожение офицеров. В квартиру, где находился Армфельдт и его однополчане – правоведы Владиславлев и Васьянов, а также Кожин, пришла группа матросов и стала проверять документы. Мика представил им паспорт, удостоверяющий его финляндское подданство. Матросы вернули ему паспорт и просили не беспокоится, а другим приказали «выходить на смерть». Конечно, Армфельдт не пожелал воспользоваться своим финским паспортом и вышел вместе с товарищами. Мир душе твоей, благородный и дорогой друг. Проклятие убийцам…
Темы «дуэли» еще не исчерпана. Я надеюсь дальше рассказать еще об одном конфликте, который угрожал завершиться дуэлью.
Осенью (1913 г.) я ездил в Москву на свадьбу сестры. Я очень не любил этот обряд, напыщенный и фальшивый. Однако венчание сестры происходило тихо, скромно и уютно, в полу-домовой маленькой церкви Шереметевых в Шереметевском переулке. «Свадебное угощение» было предложено в доме нашего дяди Николая Карловича фон Мекка на Пречистенке № 25. Не помню, кто был шафером у сестры, кроме меня и Бобрикова Миши. А у жениха, Алексея Алексеевича Вершинина: варшавский улан Феодосиу и конный артиллерист поляк NN, который после революции был в Польше генерал-инспектором польской артиллерии. В тот же вечер молодые уехали к нам в усадьбу Волочаново, Волоколамского уезда.
Усадив их в вагон-салон, любезно представленный дядюшкой «молодым» для такого торжественного случая, мы, шафера, переглянулись, помолчали и решили, что, пожалуй, можно выпить еще пару бокалов вина. Сначала почему-то поехали в театр-варьете «Омон». Там прослушали, как Плевицкая поет «Ухарь-купец» и вышли на площадь (теперь Маяковского), где извозчики-лихачи сразу же помчали нас к «Яру», тогда еще «старому Яру». Я попал туда впервые и был поражен его скромному внешнему виду.
Старенький, деревянный, двухэтажный дом, каких много встречалось не на центральных улицах столицы. Скромная небольшая передняя с немолодыми швейцарами. Небольшой зал ресторана. Между окнами зеркала-трюмо. На окнах и дверях старомодные желтые шелковые портьеры, которые висели здесь ещё во времена Островского. Никакой роскоши. Всё очень домовито и солидно, и провинциально. Публики очень мало. Почему-то кто-то предложил пройти в отдельный кабинет и послушать цыган. Пошли. Послушали. Выпили ещё. Было скучно и нудно. Цыган я вообще физически не переношу, ничего они у меня не вызывают. Поехали, но, кажется, еще не домой, а, наверное, пить кофе к сводне, мадам Глазовой.
Когда они поженились, то сестре Наталье было 17 лет, а ему около 30. Поссорившись с отцом из-за своего вынужденного ухода из полка (см. I часть), Вершинин сначала занялся… театральной антрепризой и стал возить опереточную труппу, куда входили также <…>4242
Пропуск в тексте.
[Закрыть] и Щавинский. В это время у него, у Вершинина, еще продолжался гусарский роман с одной французской артисткой «Варьете». Но надо было думать о дальнейшей своей судьбе. Он поехал в Бельгию изучать сельское хозяйство, а потом принял предложение моего брата Дмитрия и поселился у нас, продолжая вести довольно рассеянный образ жизни. На лето он вместе с моими родными переехал в Волочаново. Он был выдающийся спортсмен. Брал много призов на скачках и конных состязаниях Петербурга и Москвы. Умел хорошо объезжать лошадей. Любил собак, коров, кур и всякую живность, при условии, чтобы она была породистой. Моя сестра Наталия тоже любила всех этих животных не от скуки, а тоже как-то более глубоко и всесторонне. Эта общность интересов сблизила их. Сестра к тому же была тоже очень породиста, весьма приятной внешности, и обаятельна. А породу Вершинин очень ценил, и сила симпатии к моим детям у него измерялась в зависимости от того, кто из них был более Корсаков и кто менее. Оба любили французские романы и хорошее общество. Это не мешало моей сестре доить коров, мыть поросят, кормить щенят и вытирать их следы. Вершинин любил поговорить, то есть он любил, чтобы его слушали, не прерывая. Сестра не любила говорить и умела слушать. Кроме того, если бы Алеша неожиданно объявил бы, что его конь Барин превратился в быка, сестра Натуся ни минуты бы в этом не сомневалась. Поэтому не удивительно, что они пятьдесят лет прожили душа в душу.
Они поселились в деревне. Кроме выездки лошадей, они занялись разведением французских бульдогов и молочным хозяйством. В числе лошадей, которых тогда «напрыгивал» Вершинин, был и Барин, ставший вскоре знаменитым. Барин был строевой конь моего брата Дмитрия, которого он взял себе из очередного пополнения по совету Вершинина.
Каждому гвардейскому офицеру, кроме своей собственной лошади полагалась одна строевая. Мой брат ездил довольно хорошо, но не был «аматёр» конского спорта. Уйдя из полка, он привёз Барина в деревню, а затем продал его Вершинину. Барин, действительно, был редкий прыгун. По легкости прыжка и подъема в воздух его можно было сравнить с известным балетным артистом Нижинским, а по изяществу движений и строению ног – с Анной Павловой. Когда мы с сестрой гуляли в деревне, то Вершинин сопровождал нас на Барине и на небольшой рыси перепрыгивал все встречающиеся канавы и заборы разной высоты. Но у дорогого Алёши был довольно странный и крутой характер (как и у его отца, генерала Вершинина). Он вдруг решил, что он устарел для спорта. Несмотря на редкие спортивные качества Барина, он продал его своему товарищу по полку ротмистру Алексею Панчулидзеву, который служил в это время в офицерской кавалерийской школе.
Алексей Панчулидзев был товарищ по полку моего брата Дмитрия и Алексея Вершинина. Однако, во время столкновения офицеров гродненских гусаров с их полковым командиром Бюнтингом, в 1911 году, Панчулидзев занял нейтральную позицию и не подвергся каре, которая обрушилась на Вершинина, Потоцкого, моего брата и других офицеров. Это был человек, о котором трудно что-нибудь сказать хорошее, но и плохого в нем тоже не было заметно. Типичный кавалерийский офицер из хорошего общества, который выполняет все светские обычаи, хорошо служит и вовсе не пытается изобретать порох. Много шума наделала его женитьба. Он женился на Марии Федоровне Мейер (рожденной Бухмейер), родной сестре Федора Федоровича, зубцовского предводителя дворянства. Она была много старше Панчулидзева, и у нее от первого мужа была дочь Мара, 18 лет, и сын –16 лет. Что побудило Панчулидзева вступить в такой брак, остается тайной. Предварительно он довольно долго сожительствовал с ней, и так как она была в разводе с мужем, это никого не удивляло, и никто не мог ее осуждать за это. Она была вполне свободна. Но когда эта сорокапятилетняя женщина стала женой двадцативосьмилетнего офицера – это стало смешно. Она была ровесница нашей мамы, а мама была уже бабушкой. Ее дочь Мара была хорошенькой, и мать старалась держать ее дальше от себя и от мужа. Все-таки были случаи, когда Мару принимали за жену Панчулидзева, а не Марию Федоровну. Хотя она была довольно моложава, но… зачем им нужно было жениться?!
Весной 1914 года Панчулидзев выиграл на Барине «Императорский приз» на международных офицерских состязаниях в Вене. Дальнейшая судьба этого редкостного коня мне неизвестна. Вскоре началась мировая война. Как-то мои друзья ехали в отпуск с австрийского фронта вместе с Панчулидзевым. Он рассказал, как он с разъездом гродненских гусар захватил в плен австрийский разъезд и австриец-офицер сказал ему, что считает за честь быть пленённым ротмистром Панчулидзевым, владельцем Барина, которого знает вся кавалерия Европы! Эта изящная новеллетта совсем в стиле детей-Панчулидзевых. Ведь уверяла же Вера, жена брата Дмитрия, что ее брат Алексей не пишет ей письма из-за границы, потому что он женился на дочери германского императора Вильгельма II, ну и не хочет ей причинить неприятность. Ох, сколько раз ее брехня вредила брату!
Надо было подумать о новом месте жительства, Штукенберг предложил мне переехать к нему. Он занимал с матерью и братом Борисом небольшую квартиру на пятом этаже, в тупике Гродненского переулка. Додя и его брат мало бывали дома, и их комната днем была в моем распоряжении. У его матушки было больное сердце, и она больше лежала. Жила эта семья очень скромно. Основной источник денежных средств была пенсия, получаемая за умершего отца, инженера-путейца, одного из строителей Сибирского пути. Здесь мне было хорошо, но… я все же стеснялся хозяев. Я сказал об этом Доде, и он устроил меня на жительство в новую гостиницу «Элит» на Лиговке. Ее построил архитектор Перцев, родственник Доди, который не отказывался служить Перцеву гидом по разным темным притонам столицы. Мне был предоставлен небольшой номер с окном во дворе на 3-м этаже и «питание», то есть завтрак, обед и легкий ужин, и за все это с меня брали 150 рублей в месяц. Конечно, это было безумно дорого. Студенты снимали комнаты со столом у хозяев где-нибудь на Петербургской стороне за 25-30 рублей и даже дешевле. Но я был непрактичен, неопытен и, скажу прямо, глуп и чванлив. Я уже мнил себя шикарным гвардейским офицером, для которого недопустимо жить на разных этих выборгских и прочих сторонах. Однако моя мать отказалась предоставить мне такую большую ежемесячную сумму, зато этот расход очень любезно согласилась принять на себя наша милая тетушка, Анна Львовна, жена дяди Николая Карловича Мекка. Впрочем, через пару месяцев она сообразила, что значительно дешевле и разумнее будет мне жить с их сыном Аталлом, студентом-путейцем. Дядя Николай Карлович был председателем правления Московско-Казанской железной дороги и по делам ездил каждую неделю один раз, а то и чаще, из Москвы в Петербург. Поэтому у него была квартира, где он останавливался и где жил Аталл. Тогда эта квартира была на Шпалерной, № 44. Дядя приезжал из Москвы утром. Днем ездил по разным Министерствам, а вечером, если не возвращался обратно в Москву, то сидел дома на диване и раскладывал пасьянсы. Газета «Новое время» аккуратно печатала в хронике, что в Петербург вчера прибыл председатель правления Московско-Казанской железной дороги Н.К. фон Мекк. Но дядя так часто приезжал и уезжал, что непонятно, для чего старалась газета, разве что давала заработать хроникеру. Впрочем, мои знакомые, говорили, что все так привыкли к этому сообщению, что если бы его не было в хронике, то все почувствовали бы себя неспокойно и растерянно.
Занимался ли я? Да, и очень серьезно. Еще в «Элите» я поставил себе в номер большую черную классную доску, на которой с утра до вечера чертил всякие формулы, схемы и чертежи орудий, снарядов и пр. Отвлекался я только на поездки два раза в неделю к моему преподавателю, полковнику Старицкому (из Михайловского артиллерийского училища) и по праздникам проводил вечера у родных или в семье моего товарища Володи Балбашевского. Они изредка увлекали меня в кино «Марс», но все же ученье шло удовлетворительно. Пугала меня только физика, и еще больше химия. У меня всегда была плохая память, и механически запоминать формулы мне было немыслимо. На что я рассчитывал? На что надеялся? Не знаю, вернее всего на чудо. Я уже писал, что никакой строевой службы я в это время не нес. В батарее бывал в редких случаях. Был и на празднике первой Его Величества батареи. Это торжество произвело на меня довольно сильное впечатление, но мне стыдно сознаться – я совсем не помню, когда оно происходило.
Праздник начинался с молебна в помещении батареи в Виленском переулке. Люди были выстроены в две шеренги. Я стоял на правом фланге в первой шеренге. Рядом со мной стоял сверхсрочный вольноопределяющийся Михайлов, с которым я здесь впервые встретился. Но о нем я слышал много рассказов солдат и офицеров. Тон этих рассказов всегда был юмористический. Смеялись над его рассеянностью, над его плохой строевой выправкой, над его сильной близорукостью и над его нескладной верховой ездой.
Действительно, вид у Михайлова был комичный. Белобрысая голова, вытянутая редькой, очки, прямой длинный нос, небольшой ротик. Это лицо напоминало что-то неприличное. Характера он был добродушного и незлобивого. Это позволяло ему легко переносить всякие насмешки солдат и нетерпеливые окрики офицеров. Непонятно, почему он пошел служить в фешенебельную гвардейскую часть. Его отчим командовал где-то армейской пехотной дивизией, куда входила, очевидно, и какая-нибудь артиллерийская бригада, где ему было бы очень легко и приятно служить. Правда, к военной службе он был плохо приспособлен. Тем не менее, он хотел быть офицером-артиллеристом. Но, встретив недружелюбный прием со стороны наших офицеров, стал говорить, что никому не посоветует выходить в гвардию, где офицеры плохо воспитаны, грубы и бессердечны. Мне кажется, что он любил быть объектом смеха и шуток. Так, на празднике батареи, когда была подана команда «направо», он повернулся налево. Это вызвало хохот всей батареи и юмористические реплики офицеров.
По окончании молебна, очень непродолжительного, Эристов поднял чарку за здоровье августейшего шефа батареи, государя императора. Тост этот был покрыт, как пишут в официальных сообщениях: «громкими, долго несмолкающими криками «Ура». Затем следовали другие официальные тосты в порядке иерархической подчиненности. Наконец, Эристов провозгласив все тосты, положенные по церемониалу, ушел в офицерское собрание. Потом выпил за здоровье всех нижних чинов батареи старший офицер, капитан Огарев, и тоже ушел. Затем то же проделали по очереди, в порядке подчиненности, все офицеры. Каждый, выпив чарку, уходил. Сергей Гершельман, кроме того выпил за здоровье бывшего вахмистра. Наконец мы остались одни под началом вахмистра Бочкарева, который тоже поздравил солдат, но при этом счел нужным напомнить, чтобы «тише гуляли». Но и без того все солдаты помнили, что «до Бога высоко, до царя далеко, а господин вахмистр – вот он здесь». Батарея пошла обедать, где каждому солдату полагалось от командира по чарке водки.
Михайлов и я были приглашены к закуске к господину вахмистру. Квартира его находилась тут же в центре помещения, и состояла из одной большой комнаты, разделенной перегородкой. В передней части была кухня, а за ней находились вместе столовая и спальня. К столу были также приглашены каптенармус и старший писарь. Все трое вместе они составили «батарейный треугольник». Михайлов захмелел и ослаб с одной рюмки. Я довольно мужественно держался некоторое время и даже пошел с вахмистром в манеж, где должен был состояться концерт-спектакль для нижних чинов в присутствии высокого начальника. Что происходило со мной дальше в этот день, я не помню. Однако Бочкарев потом говорил мне, что я мирно заснул на чьей-то койке, и утром благополучно покинул гостеприимных хозяев. Какие там присутствовали генералы, я никогда бы не узнал, если бы, как оказалось потом, не попал в большую групповую фотографию, которая у меня долго хранилась. На карточке я оказался рядом с бывшими конно-артиллеристами генералами Фан-Дер-Флитом, А.П. Мезенцевым (дядя моих товарищей), генералом Слезкиным и двумя Гилленшмидтами. Один из этих Гилленшмидтов командовал «кирасирами Его Величества» (желтыми). Швед по происхождению, он принадлежал семье владельцев военных заводов в Туле. Он был известен, как большой самодур, но храбрый генерал. Когда в 1915 году у нашего верхового командования явилась мысль создать кавалерийские корпуса для проникновения в тыл противника, то командиром гвардейского кавалерийского корпуса был назначен Гилленшмидт. Однако, особых боевых лавров ни корпус, ни его командир себе не стяжали. Проникнуть в тыл неприятеля при уже определившейся позиционной войне оказалось делом нелегким. После нескольких попыток прорвать неприятельский фронт, гвардейская кавалерия спешилась и засела в окопах.
К этому времени относится рассказ об одном из чудачеств Гилленшмидта. После одного из боевых столкновений с австро-германцами на Волыни кавалерийский корпус получил распоряжение отойти от линии фронта в тыл и расположиться вдали от линии неприятельского обстрела. Свой штаб Гилленшмидт наметил разместить в одной из отдаленных деревень. Под вечер Гилленшмидт со штабом направлялся к месту своего расквартирования. Они двигались по дороге, влево от которой все населенные пункты обстреливались интенсивным орудийным огнем неприятеля. Особенно сильно немцы стреляли по большой усадьбе-фольварку, находящемуся в километре от дороги. Один из офицеров-ординарцев обратился к своему товарищу, указывая на фольварк, и сказал: «А ведь неплохо, что ночевать мы будем в N, а не в этом фольварке». Собеседник ответил: «Да, конечно. Но я не понимаю, почему немцы его так сильно обстреливают. Я сегодня там проезжал – там нет ни души. Они наверно думают, что там разместился какой-нибудь штаб или командный пункт». «Нашли чудаков», – заметил первый.
Гилленшмидт слышал этот разговор и ничего не сказал, но когда они доехали до развилки дорог, он, ни слова не говоря, повернул своего коня влево, к горящему фольварку, вместо того, чтобы взять по дороге вправо, которая вела в N. Начальник штаба обратил внимание своего командира, что он поехал не туда, куда нужно, на что Гилленшмидт ответил: «Я передумал. Сообщите частям корпуса, что мы будем ночевать вот на этом фольварке». Офицеры переглянулись и молча последовали за Гилленшидтом, проклиная про себя самодурство упрямого генерала. Однако, когда они доехали до въезда в усадьбу, обстрел вдруг прекратился. Нашли какие-то чудом уцелевшие строения, где и расположились на отдых.
Наступило утро, но Гилленшмидт как будто и не собирался покинуть полюбившееся ему живописное и тенистое местечко. Нервы у всех были напряжены до крайности, так как все ожидали, что немцы с наступлением дня опять начнут обстрел усадьбы. Но неприятельская артиллерия почему-то молчала. После полудня Гилленшмидт приказал седлать коней. Никто уже не спрашивал его, куда он теперь думает направиться. Но на этот раз он на рысях пошел в N. Когда штаб отъехал на значительное расстояние от фольварка, немцы опять начали его обстреливать, а также стреляли и по дороге к нему…
Генерал Слезкин был старинный приятель моих дядей и сосед по имению одного из них (Александра Александровича Римского-Корсакова) по Полоцкому уезду. Я помню Слезкина у дяди в Старом дворе на праздновании дня свадьбы (тридцатилетия?). Этот очень молодой генерал поражал всех уменьем говорить всякие спичи стихами любого размера и содержания. Казалось, что ему легче говорить стихами, чем прозой. Слезкин вышел в отставку генералом, но вскоре поступил на гражданскую службу и был назначен генералом для поручений при Министерстве внутренних дел. Эта должность требовала по положению ношения жандармского мундира. Слезкин одел его очень неохотно: по неписаной традиции жандармские офицеры не допускались в офицерские собрания гвардейских полков. При посещении собрания конной артиллерии Слезкин надевал свой артиллерийский мундир.
У Слезкина был сын Гога (Георгий), товарищ детских игр моего старшего брата Бориса и моих кузенов. Впоследствии Гога Слезкин стал писателем. Однако, как это часто бывает, знакомство с ним почему-то оборвалось на рубеже детства.
Этой же зимой я был приглашен и на праздник 4-й батареи. Там милейший друг наш Степан Петрович Зайченко сервировал гостям богатое угощение, после которого я попал на солдатский бал. Играли трубачи. Подмалеванные девицы с энтузиазмом отплясывали разные па-де-катры, краковяки и прочие модные тогда «салонные» танцы. Конечно, самыми элегантными и ловкими танцорами были наши писари и нестроевые. Крепко воняло потом, табаком и вином. Все были в сильном подпитии. Офицеры благоразумно отсутствовали. Одна бойкая девица в голубом платье декольте спросила меня, почему я не танцую. Я сказал, что не умею. «Идемте, я Вас научу», – приставала ко мне «девушка». Я всячески уклонялся от ее приглашений и отшучивался. Вдруг меня кто-то дернул за рукав. Оглянувшись, я увидел совсем пьяного солдата, который, едва держась на ногах, пытался мне что-то сказать: «Господин вольноопределяющийся, мне нужно Вас по секрету», – наконец выговорил он. «Я вижу, что Вы хотите иметь сношение с Нюркой… так я не дозволяю, – вдруг закричал он, валясь на меня. – Я ейный кот, понимаешь, кот, и не позволяю, вот и все…». Я старался успокоить Нюркиного «кота», но он расходился, расшумелся и явно хотел сцепиться. И вдруг совсем спокойно сказал: «А если хотите ее иметь, то будем драться на дуэли, по благородному, потому что я благородный человек и не хочу чтобы ее … без моего согласия…». Меня выручил Зайченко, увел к себе. Я ему рассказал о вызове на дуэль. Мой противник оказался денщиком нашего адъютанта Саблина. Что касается Нюрки, то любезный хозяин предложил мне, если она мне нравится, тут же предоставить ее мне. «Однако я Вам не советую. Они у нас здесь все с Обводного и Лиговки, опасно». Я поблагодарил Степана Петровича, но не воспользовался его «угощением».
Когда я рассказал Доде Штукенбергу о моей несостоявшейся дуэли с денщиком Саблина, он очень веселился. Он рассказал об этом Саблину, который тоже хохотал и допрашивал своего «рехмета» (так в конной артиллерии называли вестовых и денщиков), чтобы он признался, как он собирался драться на дуэли с вольноопределяющимся, на это тот, сконфуженно ухмыляясь, отвечал:
«Виноват, ваше благородие, выпимши был. Ничего не помню. Это все она…»
«Кто – она?»
«Да это моя…»
При этом Саблин глубокомысленно заметил Доде, что нижние чины куда больше знают и понимают, чем о них думают г.г. офицеры. Я уже не раз это слышал от них, и они это констатировали всегда с некоторым удивлением и даже с испугом.
Солдаты гвардейской конной артиллерии не отличались высоким ростом. Они были много ниже солдат гвардейской Первой пехотной дивизии и Первой кавалерийской (Кирасирской) и, конечно, Гвардейского морского экипажа. Минимальный рост гвардейского солдата был установлен в 2 аршина, 6 вершков. В первой роте Преображенского полка правофланговые бывали и в 2 аршина 11, и даже 12 вершков, то есть имели рост Петра Великого. Но они были выше солдат Второй гвардейской кавалерийской дивизии. Как известно, при очередном наборе новобранцев осенью в гвардию отбирали служить наиболее высоких парней и по возможности более красивых. Однако, на местах воинские начальники, получив распоряжение военного Министерства отправить в гвардию определенное число солдат, не всегда могли отобрать красавцев, и за неимением таковых руководствовались не эстетическим критерием, а социальным. В гвардию посылали крестьянскую молодежь посерее, «от сохи». Фабричную молодежь направляли во флот и технические войска.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































