Текст книги "Силуэты минувшего"
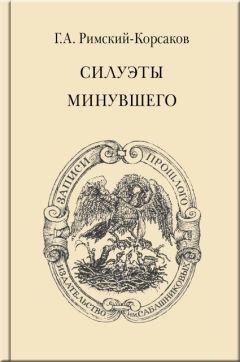
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
МХАТ и Станиславский
1904 год. Как-то мать отчима, В.Ф. Голицина100100
В.Ф. Голицина, ур. Гельцер – в прошлом «фигурантка» Большого театра, тетка народной артистки РСФСР балерины Е.В. Гельцер. Отчим автора – князь Д.М. Голицин, казачий офицер. – Прим. А.Р-К.
[Закрыть] предложила посмотреть в МХАТе101101
Автор везде в тексте употребляет вместо МХТ (Московский художественный театр) слово МХАТ (академическим театр стал позднее).
[Закрыть] пьесы Метерлинка «Слепые» и «Непрошенная» – спектакль, о котором много писали. До этого у нас часто говорили о «Юлии Цезаре». Мать считала, что ничего лучше она в театре не видала, и что только реализм некоторых сцен производит неприятное впечатление, заставляя зрителя волей или неволей принимать участие в сценической жизни действующих лиц. Это верно. В этом театре было не очень приятно сидеть слишком близко к сцене, которая ничем не отделялась от зрительного зала. Было совсем неловко наблюдать происходящие на сцене события интимные, находясь в каких-нибудь трех-четырех шагах от действующих лиц. Театр переставал быть театром и делался подлинной жизнью. Так было со всеми спектаклями, которые я видел в МХАТе до революции. Позднее из него жизнь куда-то ушла, и остался один театр. И сидеть близко к сцене стало совсем удобно, и я не испытывал никакого стеснения, наблюдая любые драмы, которые актеры «представляли» и «разыгрывали» на сцене. Спектакли в МХАТе давали какую-то удивительную эмоциональную зарядку, повышали жизнеутверждающий тонус жизни, давали радость жизни. Это было высокое мастерство сценического искусства и торжество режиссерского уменья.
Любопытно, что Ленин, посмотрев после революции спектакль МХАТа «На дне» говорил, что этот театр потерял присущий ему раньше секрет воздействия на зрителя, что спектакль стал холодным.
Л.В. Москвина, племянница В.Ф. Голициной, дочь ее брата, Василия Федоровича Гельцера достала нам ложу. Нужно ли говорить, как поразил меня внешний вид и особый порядок этого театра. Все там было скромно и строго. Никакого золота и бархата, что считалось принадлежностью всякого театра, не только императорского. В отделке основным материалом являлось дерево. Кресла, ярусы, панели стен – все деревянное. Темный серо-зеленый раздвижной занавес с белой чайкой. Грубоватые швейцары и капельдинеры (совсем не подобострастно-почтительные, как в Малом театре), – говорившие шепотом и ходящие неслышной походкой. Надо сказать, что лица их были мало приветливые, а обращение со зрителями и совсем неприветливое. Они довольно бесцеремонно, командирским тоном указывали зрителям, куда им идти, где стоять, как разговаривать. Это было неприятно особенно там, где «театр начинался с вешалки». А.К. фон Мекк, мой дядя, говорил, что он не ходит в Художественный театр и не ездит на московском трамвае из-за грубых замечаний капельдинеров и кондукторов, указывающих ему, как надо стоять, ходить, сидеть. Впрочем, в этом театре все было как-то неуютно обставлено. Строго и холодно. Разве можно было сравнить его с Малым театром, с его интимным, «домашним» зрительным залом, с его милыми, приветливыми, добродушными старичками-капельдинерами. Тепло прежде всего – это качество, присущее театру Щепкина.
Когда раздвигался занавес в МХАТе, то зрительный зал замирал от ожидания: какие еще чудеса покажет режиссер? Какие чудеса театральной техники сейчас увидит зритель? Сначала поражало именно внешнее оформление спектакля, его подлинность, мелкие детали быта.
В МХАТе никогда не было больших артистов, как это было в Малом театре. В МХАТ ходили смотреть спектакли в целом, а в Малый шли смотреть Ермолову, Лешковскую, Садовскую, Ленского, Остужева. Я не помню, кто играл Петровну в «Месяце в деревне», но не могу забыть великолепный сочный образ стареющей стервы, созданный М.Г. Савиной, – хотя в МХАТе Тургенев был подан с необыкновенным вкусом и изяществом. В этом театре не было никого, кто мог бы увлечь зрителя. Вот Орленева и Дальского ходили смотреть в «Федоре Ивановиче», а Москвин, в той же роли, растворялся в великолепном спектакле в целом, растворялся в коллективе. Метерлинк, как он был показан в МХАТе, произвел на меня громадное впечатление.
С тех пор прошло больше шестидесяти лет102102
Написано автором в 1960-х годах. – Прим. А.Р-К.
[Закрыть], но я очень отчетливо помню самые мелкие подробности этого спектакля. Его мистический тон и мрачная символика наводили на меня ужас. Моя мать говорила, что ничего страшнее она в театре не видела. Мне удалось посмотреть его дважды. Но у московской публики он особого успеха не имел. В нем не было, конечно, никакой «тенденции» и «политики», но только очень ярко поданое настроение ужаса действующих лиц. Уметь создать «настроение» – стало стилем этого театра. Уменье безукоризненно показать стиль эпохи пьесы тоже стало привилегией этого театра. Я затрудняюсь сейчас сказать, что из виденного мною тогда в МХАТе было лучше, но, пожалуй, наиболее сильное впечатление осталось от «Дяди Вани», «Привидений», «Синей птицы». «Дядю Ваню» я смотрел три раза, и каждый раз удивлялся тому, как поразительно вкусно и с необычайно художественным мастерством показал театр это далеко не первоклассное сценическое произведение Чехова. Позднее я эту пьесу смотрел еще в других театрах и принуждал себя досиживать до конца, только затем, чтобы лишний раз убедиться, что Чехова можно было смотреть только в театре… им. Горького (какой абсурд!).
Интересным спектаклем была «Жизнь человека». Как и полагалось в те годы, он был сделан в самых мрачных тонах. Спектакль шел на фоне черных бархатных стен.
Очень много говорили и шумели тогда по поводу «Горе от ума». Декорации писал Добужинский. Получилась замечательная Грибоедовская Москва. Пожалуй, только вряд ли все в доме Фамусова было такое новое, чистое и нарядное. У господ-дворян в домах было грязновато и не так уж красиво. А вот купеческие дома действительно блистали и поражали чистотой, порядком и богатством. Фамусову-Станиславскому, купцу Алексееву, далеко было до природного аристократа Ленского-Гагарина. Старого барина у Станиславского не получилось. Это был глава торгового дома, но не помещик-дворянин, московский старожил с арбатских переулков. Да и был он грубоват: Фамусов с Большой Ордынки, но не с Пречистенки. Ничего дворянского не было и в Софье. Слишком была она интеллигентна. Артистка играла современную нам Софью, а не капризную, кисейную девицу дворянской крепостной Москвы.
И Чацкий-Качалов был не тот темпераментный, живой энтузиаст, сподвижник декабристов, если не сам будущий смелый участник драмы 14 декабря. Слушать Качалова, как всегда и везде, было наслаждение, но тоже, как всегда, его герой был лишен необходимого для этой роли жара и сценического пыла. Чацкий-Качалов выглядел очень корректным интеллигентным юношей, московским студентом, сынком из хорошего общества. По Художественному театру это общество подавляет Чацкого, испепеляет его и мешает его активности. Он побежден и раздавлен. Тогда, в 1908 г., Чацкий в финале свой монолог: «Вон из Москвы…» произносил совсем подавленным тоном. Он поражен, он разбит нравственно и физически. Он задыхается, едва может выговорить: «Карету мне, карету». Чацкий уничтожен, Фамусовы торжествуют.
Интересно отметить, что когда в 30-х годах театр возобновил «Горе от ума», то трактовка образа Чацкого была уже совсем другая. Чацкий приобрел тон смелого и решительного героя. Он совсем не побежден, он только в этой первой стычке с обществом потерпел поражение. Но он полон сил бороться дальше. Покидая Москву, он не смирился, он протестует, он негодует. Почти угрожает: «Вон из Москвы!.. Карету мне. Карету!!..» Последние слова он почти кричит. И насколько сам Чацкий-Качалов в 1938 г. повзрослел, или вернее постарел! На генеральной репетиции он не вбегает к Софье (правда, художник сделал неудобную, крутую лестницу на антресоли, где комната Софьи), а почти влезает, запыхавшись, и с трудом поднимается с колен после слов: «Чуть свет – уж на ногах, и я у ваших ног». Тем не менее, зрительный зал шумно аплодирует, приветствуя маститого актера, нарушая тем самым традицию театра. Впрочем, традиция была уже давно нарушена. В 1921 или 1922 г. мне как-то пришлось быть по делу у администратора МХАТ Румянцева. Он принял меня в кабинете Станиславского. Толстый серо-зеленый ковер на полу. Серые суконные портьеры. Тяжелая ампирная мебель красного дерева, обитая серым сукном. Матовый свет, тишина, разговор в полголоса, во время которого я замечаю, что Румянцев все к чему-то прислушивается. «Что-то скребется. Вы не слышите?» – «Мыши наверно», – замечаю я. – «Мыши?! Мыши в Художественном театре?! Мыши в кабинете Константина Сергеевича!!! Нет, это слишком!» Румянцев бросается искать мышей под диван. Я школьничаю и тихонько скребу ногтем кресло, на котором сижу. «Вот опять! Слышите?» – и бедный Румянцев ползком по ковру бросается в другую сторону. Я скребу стол. Румянцев прислушивается. Встает и молча возвращается на свое место. У него взволнованный голос. Мрачное выражение лица. Мысли где-то витают. Он не слушает меня и очень доволен, что я быстро кончаю нашу беседу. Уходя, я вижу, что Румянцев совсем подавлен. Еще бы! Мыши в МХАТе! Что скажет княгиня Марья Алексеевна?! Румянцев не знает, разрешает ли традиция иметь МХАТу мышей. Укладываются ли мыши в идейный профиль театра? Что-то было фальшивое, неприятное в этом профиле. Прежде всего, необычайное купецкое самодовольство и зазнайство. Вот какое мы, московское купечество. Все могим. Нашему капиталу все подвластно. Угодно суконный трест? – пожалуйте. Хотите – камвольную фабрику, первую в России? – получайте. Хотите лучший театр? – вот он. Лучшее в мире собрание французских импрессионистов? – у Ивана Абрамовича Морозова. Лучшая картинная галерея – П.М. Третьякова (мануфактура). Первый в мире музей театрального искусства – на Зацепе у А.А. Бахрушина (кожевенное производство). Первая в мире теория сценического искусства – К.С. Алексеева103103
Алексеев – настоящая фамилия Станиславского.
[Закрыть], председателя правления камвольного треста.
У Сергея Александровича Попова104104
Научный сотрудник Театрального музея имени Бахрушина в 30-х гг.
[Закрыть] был написан весьма солидный труд: «Роль московского купечества в развитии русской культуры». Для печати он не предназначался. Да и ни одно наше издательство не согласилось бы напечатать книгу, прославляющую купеческое сословие за его прогрессивную деятельность. В этой деятельности много было противоречивого и странного. Почитайте, что писал Тихонов (Серебров) о С.Т. Морозове, что написано о С.И. Мамонтове. А что еще не написано о К.С. Станиславском! А может быть уже и написано, но не может быть напечатано. А рассказано тоже много.
«Почему он моргает все время, как обезьяна?» – писал про Станиславского Буренин. И это верно. В Москве никто не осмелился такое написать про создателя МХАТ. Ну, а Буренин, рецензент «Нового Времени», газеты, враждебной всему прогрессивному и всему не петербургскому, – он мог писать, что хотел. Действительно, Станиславский моргал как-то особенно: медленно опуская и поднимая веки. Такая манера или привычка могла быть уместной только в некоторых ролях, где надо было создать образ самоуглубленного, сосредоточенного человека, как, например, Ракитин или Штокман. Но Фамусову, Сатину и особенно Астрову не надо было так моргать. Это мешало зрителю и воспринималось как неприятный жест или навязчивый нервный тик. Не мешало такое моргание в ролях комедийного плана, как граф в «Иванове», граф в «Провинциалке». Да, комедия была родной сферой этого артиста. Вполне верю, когда говорят, что кавалер Рипофратта была его лучшая роль.
Много интересного мог рассказать о К.С. Станиславском хорошо его знавший с детских лет С.А. Попов. Он же был, вместе со своим братом Н.А. Поповым, деятельным участником литературно-художественного кружка, руководимого Станиславским в 90-х годах. Кроме того семьи Поповых и Алексеевых были связаны самыми тесными дружескими отношениями, по-видимому, на почве общих коммерческо-торговых интересов. Алексеевы были крупные шерстянщики-камвольщики (фабрика в Даниловской слободе, в Замоскворечьи), а Поповы – старинные суконщики. Им принадлежала известная «Лоскутная» гостиница в Охотном ряду, вернее – в самом начале Тверской. Этот квартал теперь снесен, образуя площадь.
В школьные годы (1880-е) у Алексеевых в доме ставились любительские спектакли, в которых принимали участие и братья Поповы. Попов отмечал у Станиславского удивительный талант организатора и крупного дельца. Не без сарказма и горечи он указывал на то, что эти прозаические способности удивительно переплетаются у Станиславского с высокоразвитым художественным чувством и артистическим мастерством. И эта его художественная натура артиста Станиславского постоянно вступала в конфликт с купцом Алексеевым. Вот пример: когда в 1905 г. открывался театр-студия МХТ на Поварской, где С.А. Попов был администратором (по совместительству с основной своей должностью председателя правления суконного треста Поповых), то желая сделать приятный сюрприз Константину Сергеевичу, он заказал большое живописное панно тогда еще совсем молодым начинающим художникам Сапунову и Судейкину. За работу Попов уплатил художникам гроши, всего 75 рублей. Панно все признали великолепным и поместили на стене верхней площадки входной лестницы театра. Тогда Попов пригласил посмотреть панно и Станиславского. Тот в восхищении долго смотрел на панно и шептал: «Ах, как хорошо! Ах, какая прелесть!» – и вдруг, повернувшись к Попову с исказившимся страхом лицом, с широко раскрытыми глазами испуганно вскричал: «Но, позвольте, сколько же вы за него заплатили? Вы же знаете, что у нас нет денег на такие непроизводительные расходы!» – «Не волнуйтесь, Константин Сергеевич, всего 75 рублей.» – «Ну тогда другое дело», – и, повернувшись к панно, опять начал восхищаться им. Художнику Станиславскому панно очень понравилось, а купец Алексеев испугался непроизводительного большого расхода. Здесь большой артист и художник чуть не забыл, что он директор Даниловской камвольной мануфактуры. Но кровь предков-дельцов вовремя напомнила ему о себе. И надо думать, что эта кровь прижимистого и расчетливого дельца не раз руководила поступками и деятельностью всемирно известного главы Московского Художественного театра.
Интересные подробности о возникновении этого театра-студии на Поварской поведал мне как-то Борис Константинович Пронин, очень известный организатор артистического кабаре «Бродячая собака» в Петербурге, а потом «Бродячего энтузиаста» в годы НЭПа в Москве. В начале века Пронин служил, если не ошибаюсь, помрежом в Художественном театре. Тогда же не без успеха играл там и В.Э. Мейерхольд царя Ивана Грозного. Мейерхольд еще не был режиссером, но очень мечтал о режиссерской работе. И вот как-то, рассказывает Пронин, Станиславский обращается к нему и говорит: «Если вы сегодня не заняты после спектакля, я хотел бы с вами поговорить. Поедем ко мне домой…»
По дороге они оба молчали, а когда приехали, Станиславский провел Пронина в свой кабинет, усадил в кресло, тщательно задернул портьеры на окнах и дверях, зажег настольную лампу с большим абажуром, из-за чего комната погрузилась в приятный полумрак. «Что за таинственность?» – подумал Пронин. «Чего он хочет от меня. Даже странно»… Но это было еще не все. Станиславский достал из книжного шкафа бутылку французского красного вина, поставил ее перед Прониным и сказал: «Пейте, прошу Вас». Тут Пронин совсем растерялся и подумал: «Ну, значит разговор будет какой-то чрезвычайный, раз Константин Сергеевич, который никогда не пьет, поставил мне бутылку»… Константин Сергеевич начал так: «Я пригласил вас, чтобы посоветоваться по поводу одного очень интересующего меня дела»… И Пронин отметил про себя: «Станиславский советуется с Прониным. Недурно получается…» И дальше Станиславский изложил свой план создания театра-студии, которая, являясь филиалом МХАТ, должна была готовить кадры мхатовцев, но не только актеров, но и режиссеров, и художников, и всего обслуживающего персонала. В Студии создается такая ячейка, «малого МХАТа», которая направляется в какой-нибудь город, хотя бы в Саратов или Казань, там развертывается, как МХАТ № 2, вооруженный системой Станиславского, и при этом в своей художественной деятельности, также как и финансовой, находится под полным контролем дирекции Московского МХАТа, являясь его «дочерним предприятием». Потом отпочковывается от студии, театральной фабрики, другая ячейка – МХАТ № 3 и направляется также в какой-нибудь город. Потом следующая и так далее. Все они находятся в административном подчинении МХАТу №1 и экономически от него зависят, так как центральная касса всей этой художественной организации находится в Москве. Всеми этими малыми МХАТами руководит московский художественный совет. Какие цели преследует эта театральная организация? Борьба с провинциальным безвкусием и пошлостью, насаждение высокого искусства, поднятие театральной культуры. Сейте разумное, доброе, вечное на театральной почве.
«Ну и ну, – подумал Пронин, – Молодец Алексеев! Широко хватил: Всероссийский театральный трест!». А вслух сказал: «Это великолепная идея, Константин Сергеевич: создать Всероссийский МХАТ! Я горячо одобряю и поддерживаю эту мысль».
«Да, но прошу вас пока держать это все в полном секрете. Я поделился с вами моей мечтой, зная, что вы сторонник всяких смелых экспериментов»… («Откуда у него было такое мнение обо мне – не знаю. Он никогда до этого со мной так обстоятельно и долго не разговаривал», – признался Пронин).
Поскольку в студии все должно было быть молодое и новое, встал вопрос и о новом режиссере-постановщике для нее. «Что вы думаете о Мейерхольде?» – спросил Станиславский. «Мне кажется, он очень способный и будет полезный для студии». Пронин с удовольствием согласился, что Мейерхольд будет там вполне на месте.
Так рождалась студия, которой все же так и не суждено было родиться. О дальнейшей ее судьбе рассказывал С.А. Попов. Его Станиславский пригласил директором-распорядителем студии. Встал вопрос о деньгах. Подсчитали, что для начала надо иметь не менее ста тысяч рублей. Решили обратиться к московским тузам, к купечеству. Договорились, что студия будет иметь статус: «товарищество на паях». Установили, что стоимость одного пая – десять тысяч рублей. Тузы (не помню, кто именно) внесли паи и дело началось. Впрочем, внесли паи все, кроме Станиславского. Когда Попов напомнил ему о пае, то получил ответ, что все вложили денежные паи, а он, Станиславский, вносит свой творческий пай, который стоит, конечно, дороже, чем десять тысяч рублей…
Для открытия студии готовилась пьеса «Шлюк и Яу» в постановке Мейерхольда. Художник С. Эйзенштейн. Был декабрь 1905 г. Бастовали заводы. Стреляли пушки. Дрались на баррикадах. Тем не менее, была назначена генеральная репетиция, на которую пришел Станиславский. Он вошел в зрительный зал вместе с С.А. Поповым, когда репетиция уже началась. Они остановились у задних дверей. Постояв немного, Станиславский тихо сказал, как бы про себя: «Нет, это не то. Это нельзя…». Все же он досмотрел репетицию до конца, а потом пригласил весь руководящий состав студии в кабинет и сделал такое заявление: «Господа, когда на улицах Москвы грохочут пушки – искусство должно молчать. Мы не можем открыть наш театр, когда на улице льется кровь…» и т.д. Потом с таким же заявлением он обратился ко всему составу студии и объявил о ее закрытии на неопределенное время. Театр-студия на Поварской прекратила свое существование.
Что же произошло? С.А. Попов объясняет это так: когда Станиславский увидел работу Мейерхольда, он сразу понял, что Мейерхольд не его последователь, что он не член семьи МХАТ. Он увидел, что Мейерхольд имеет свое ярко выраженное артистическое лицо и что, если Мейерхольда оставить режиссером в студии, то она может обратиться в опасного соперника МХАТу. Зачем же он, Станиславский, будет поддерживать, опекать и финансировать конкурента? Ни о каком филиале МХАТа, его дочернем предприятии, теперь, с Мейерхольдом, не может быть и речи. Короче: Станиславский испугался Мейерхольда. Декабрьское восстание в Москве явилось очень удачным предлогом, чтобы без шума прикрыть студию.
Дальше опять рассказывал Пронин. Мейерхольд с группой студийных актеров не вернулся в МХАТ. Мейерхольд предложил им ехать в Тифлис и там начать экспериментировать, и открыть театр на совсем новых основаниях. Очевидно, что в понятие «новые основания» входило и полное отсутствие у них денег. Но они все были молоды и верили в особый талант Мейерхольда. Поехали все, конечно, в 3-м классе. Но, не доезжая немного до Тифлиса, Мейерхольд перешел в вагон 1-го класса, для того, чтобы не уронить свою репутацию перед Тифлисскими жителями. Сняли какой-то зал на несколько спектаклей (не помню, что они ставили). Уговорили администрацию гостиницы дать им на спектакль мебель из их номеров. Спектакль был «стилизованный», для этого перевернули мебель с ног на голову и накрыли какими-то тряпками. Продержались несколько вечеров, а потом решили бежать, кажется в Харьков или в Киев. Там Мейерхольд бросил всех и бежал в Петербург к Комиссаржевской.
Позднее С.А. Попов рассказывал еще один случай, подтверждающий необыкновенный талант Станиславского к коммерческим операциям. В 1934 или 1935 г. Станиславский стал болеть, и ему предложили поехать полечиться куда-нибудь на заграничный курорт. Перед отъездом Станиславский предложил, под большим секретом, бывшим пайщикам «Даниловской камвольной мануфактуры», которые еще уцелели в Москве, в том числе и С.А. Попову, дать ему доверенность на продажу их паев за рубежом тем, кто еще верит в восстановление капитализма в России. Надо заметить, что стоимость пая была высокая, несколько тысяч рублей. Конечно, дать нотариально оформленную доверенность было слишком опасно, и тогда решили, что все пайщики дадут свои подписи на чистом листе бумаги, а уже там, на месте, Станиславский напечатает текст доверенности. Предложение это исходило от самого Станиславского, и никто ни минуты не поколебался поставить свою подпись, настолько все доверяли Константину Сергеевичу Алексееву, главе «Даниловского треста». На личном доверии были основаны крупные коммерческие операции, и займы между двумя фирмами – «Алексеевы» и «Поповы» – проделывались без каких-либо формальностей, хотя суммы займов бывали и значительные. Попов говорил, что если бы Алексеев обратился к нему с просьбой одолжить сто или двести тысяч, он дал бы их ему без всякой расписки.
Станиславский уехал, захватив паи и доверенность. Полечился на курорте, потом вернулся в Москву. Попов не хотел его беспокоить разговором о паях, зная, что Константин Сергеевич плохо себя чувствует, и ждал, когда он сам об этом заговорит. Так прошло немало времени, и Попов решил поговорить об это деле с братом Станиславского, Владимиром Сергеевичем, тоже пайщиком и тоже подписавшем доверенность на продажу паев. В.С. Алексеев ничего не мог сказать Попову по этому поводу и предложил обратиться непосредственно к Константину Сергеевичу. Попов не счел для себя это возможным, а Станиславский молчал. Действительно, вопрос этот был слишком деликатный, чтобы кто-нибудь решился заговорить о нем. При встрече с Поповым, Станиславский довольно скупо рассказывал о своей поездке, но, между прочим, упомянул, что его сын, инженер, купил себе в Алжире дачу. Когда я спросил Попова, чем он объясняет молчание Станиславского, тот ответил, что вполне допускает, что Станиславский забыл о паях и доверенности, выданной Алексееву пайщиками Даниловской мануфактуры.
Много могла рассказать о последних днях жизни К.С. Станиславского моя дальняя родственница Любовь Дмитриевна Духовская. Последние восемь лет жизни Константина Сергеевича она находилась при нем в должности секретаря, сиделки, няни, доверенного лица. Л.Д. Духовская, по первому мужу Воронец, была близкой родней семье моих друзей Воейковых-Собко, где я ее и встречал в 30-х годах.
Поступила Любовь Дмитриевна к Станиславскому работать на должность секретаря. Она не без юмора рассказывала, как подробно Станиславский перечислял ей все обязанности и, наконец, вздохнув, сказал, что за ее работу может ей платить не больше 150 рублей, при этом добавил, что на завтрак и обед она не должна рассчитывать, но чай она будет пить с ним и его женой, Марией Петровной Лилиной, а сахар он просит приносить свой, так как может случиться, что у них сахара не хватит… (sic!). Потом, перед отъездом Станиславского за границу, долго говорилось о том, что в его отсутствие Любовь Дмитриевна не будет исполнять своих секретарских обязанностей и поэтому, следовательно, не будет получать свой гонорар, но что Станиславский надеется, что, когда он вернется, она согласится у него работать.
Так и сделали. Потом, когда Станиславский стал слабеть и больше лежал, чем ходил, она стала для него и няней, и медицинской сестрой, и вполне доверенным человеком. Я поинтересовался, продолжала ли Любовь Дмитриевна приносить свой сахар? Оказалось, что сахар она имела свой, так как прекратилось вообще совместное чаепитие. Мария Петровна жила на своей половине дома и редко появлялась в комнате Константина Сергеевича, и только приходила к нему в исключительных случаях.
Не могла не удивляться Любовь Дмитриевна необыкновенной бережливости, а вернее сказать, скупости этой семьи. У дивана сломалась ножка, и надо было ее починить. Просили Любовь Дмитриевну достать столяра. Она послала им нашего хорошего знакомого, Константина Никитича Дунаева, мастера на все руки, бывшего тогда заведующим книжным складом одного из издательств («Круг»). Всем нам было очень интересно знать, как наш приятель Никитич будет чинить диван у великого Станиславского. А у Станиславских починка дивана обратилась в очень сложную проблему. Долго проверяли знания Никитича по столярной части. Умеет ли он владеть инструментом? Приходилось ли ему когда-нибудь чинить диваны? Как он думает прикрепить отскочившую ножку к дивану? Есть ли у него хороший столярный клей? и т.д. и т.п. И, наконец, наступил самый трудный момент разговора: сколько Никитич хочет получить за свою работу, и тут же Мария Петровна заметила, что много заплатить они не могут. Никитич прикинул в уме, что если он рекомендован Л.Д. Духовской, то много запрашивать он не может, и назвал двадцать рублей (столяр взял бы 50 рублей). Тогда Станиславский сказал, что если бы он обратился к театральным столярам, они с удовольствием сделали бы эту работу даром, но что он не хочет эксплуатировать их труд и отнимать время из-за таких пустяков. Мария Петровна заявила, что больше пяти рублей они заплатить не могут. Начали торговаться. Никитич сбавлял цену, но Станиславские не прибавляли ни одного рубля. Наконец, Никитич, обозленный таким скупердяйством Станиславских, сказал, что из уважения к знаменитому артисту, если у него сейчас нет возможности заплатить нормальную цену за работу, он починит диван бесплатно. Но Станиславские отказались принять такое предложение Никитича и он уехал. Но спустя несколько дней пришла Любовь Дмитриевна и упросила Никитича приклеить ножку за пять рублей, чтобы избавить ее от неприятных нудных разговоров со Станиславскими.
Я как-то сказал Любови Дмитриевне, что было бы весьма желательно, чтобы она вела дневник, куда записывала бы все то, что говорит и делает Константин Сергеевич. Она удивилась моему предложению, но потом я ее уговорил, убедив, что она обязана для потомства зафиксировать каждый день жизни великого артиста, что ее дневник будет иметь для истории театра такое же значение, как записные книжки Бетховена. Она, наконец, согласилась, и я умолял ее записывать всё, даже самые мелочи текущей жизни, вплоть до описания качества стула Константина Сергеевича. Спустя некоторое время, встретив меня, Любовь Дмитриевна сообщила, что начала дневниковые записи, и что она сама признает их теперь необходимыми. Я не знаю судьбу этого дневника Л.Д. Духовской. После кончины Станиславского в 1938 г. она мне говорила, что дневник свой она передала в музей МХАТа, и что она использовала свои записи для того, чтобы написать воспоминания о Константине Сергеевиче. Не знаю, были ли они написаны. Потом началась война. Я уехал из Москвы, а позднее узнал, что Любовь Дмитриевна уезжала к родным в Кострому и там умерла. Семья Воейковых-Собко тоже закончила свое существование.
При встречах с Л.Д. Духовской, очень, к сожалению, не частых, я всегда старался направлять наш разговор на ее пребывание в доме №6 по Леонтьевскому переулку. И каждый раз узнавал какие-нибудь любопытные эпизоды из жизни семьи Алексеевых-Станиславских.
Интересно было, как Л.Д. Духовская относилась к своему шефу. Она признавалась, что прожив уже несколько лет рядом со Станиславским, она все же не знает его и часто совсем не понимает. Очень у него сложный характер. Но из всего того, что Л.Д. рассказала о нем, я все больше убеждался, что у этого великого театрального деятеля было два лица: артистическое и коммерческое. Лицо Станиславского и лицо Алексеева. Лицо большой творческой личности, большого гуманиста, – и лицо купчины-скряги, стяжателя-бизнесмена. Лицо человека симпатичного, обаятельного, очень умного, мечтателя, идеалиста, и другое – лицо, никакой симпатии не внушающее, лицо черствого эгоиста, мелочного педанта, и позера, и лицемера.
Вот эпизоды из жизни К.С. Станиславского, которые мне запомнились из разговоров с Л.Д. Духовской.
Станиславский получал много писем с просьбой о помощи. Писали разные люди: и студенты, и артисты, и безработные престарелые интеллигенты, и высланные из Москвы и пр. Все просили денег на жизнь, на хлеб. Читать эти письма Станиславскому было скучно и неинтересно. Это чтение отнимало время, а тем более ответы. Если было желание ответить иногда, то К.С. просил Л.Д. как своего секретаря, читать получаемые письма, а о наиболее интересных докладывать ему и самой отвечать. Писем бывало по десятку в день, и все одного содержания: пришлите денег. И вот однажды Станиславский говорит: «Знаете, сердце болит, читая эти мольбы о помощи. Сколько горя! Так хочется всем помочь. Я вас прошу – займитесь сами этим делом. Я вам вполне доверяю. Я дам вам деньги, и вы сами будете посылать тем, кто более нуждается в помощи». И Константин Сергеевич достает из своего бумажника… десять рублей и передает Духовской, которая, онемев от удивления, молча берет их. Она думает: что это? Беспредельная наивность, глупость, ханжество, лицемерие или – что это за трагикомедия?
Станиславский производил иногда осмотр своих сундуков, где хранились всякие вещи, главным образом всякая одежда и белье. Сундуков было много. Хранилось все бережно. Любовь Дмитриевна доставала из сундуков вещи, показывала их Станиславскому, и он подсчитывал их по инвентарной записи. Был целый сундук с рубашками. Разбирая его, Духовская вспомнила, что незадолго до того она получила письмо из концлагеря от одного своего родственника. Он писал, что совсем износился и просил прислать ему рубашку. Она решила рискнуть и попросить у Станиславского рубашку для отсылки в лагерь. Она сказала: «Да, у вас рубашек сохранилось много. А вы знаете, что есть у нас люди, у которых совсем нет белья. Вот мой родственник попал в концлагерь и просит прислать ему что-нибудь из белья. Он совсем раздет…». Константин Сергеевич глубоко вздохнул, и после паузы сказал: «В какое ужасное время мы живем. Как страшно. Столько горя и несчастий». Да, было совершенно ясно, что Станиславский был не из тех людей, кто для ближнего готов пожертвовать своей последней рубашкой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































