Текст книги "Силуэты минувшего"
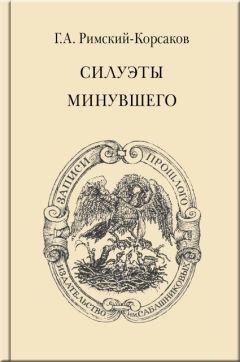
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Многие офицеры конной артиллерии в Павловске носили не русские кители, а английские френчи-рубашки из мягкого, защитного цвета сукна с английским гербом на пуговицах. Шил их портной Брусс, из английского магазина на Невском. Моду эту ввел Линевич. Это стала как бы особая форма, присвоенная павловским офицерам учебной команды. Командир 5-й батареи, барон Велио, и некоторые из старших донцов носили обыкновенные кители2828
Когда началась война с Германией, то большинство наших офицеров, а также и других гвардейских частей, оделись в этот английский китель-рубашку с четырьмя большими карманами.
[Закрыть].
Линевич позволял себе надевать этот домашний костюм не только на территории своей части, но и являлся в нем на званые вечера павловского начальства. Так много шума наделало его появление в домашнем френче на балу у командира гвардейского сводного казачьего полка, свиты генерала графа Граббе. Эта вольность благополучно сходила Линевичу, но не прошла бы у другого.
В отношении к солдатам Линевич был очень неровен. Как у всех дурно воспитанных людей, у него настроение играло большую роль в его поведении. В самом деле, мог ли старый дядька, сибирский казак, преподать своему воспитаннику правила общественного поведения и подлинного джентльменского обхождения?
Когда Линевич появлялся на строевых учениях в манеже, то все обращали внимание на задок его фуражки. Если он был приподнят и торчал кверху, значит Линевич был сильно не в духе и ученье проходило бурно, с истошным криком, хлопаньем бичом по лошадям, по людям, по чём попало. Доставалось и нам, вольноопределяющимся, но все же в пределах благоразумия, так, чтобы мы не могли бы счесть себя оскорбленными.
С перекошенные от злобы лицом, с налитыми кровью глазами (очевидно припухшими от вчерашнего загула) Линевич гонялся за кем-нибудь из нас по манежу, когда не получался заданный им строевой прием. Иногда он доходил до такого бешенства, что бросал в виновного бич, комья земли и даже раз запустил свою фуражку. Как правило, было замечено, что чем больше злился и бесновался наш командир, тем хуже у нас все получалось. Даже лошади и те начинали нервничать, дурить и не слушаться всадников. Впрочем, сколько бы Линевич ни кричал на занятиях, я не помню, чтобы он наказывал солдат нарядами. Никаких дальнейших неприятных последствий для солдат его беснование не имело. На другой день Линевич приходил на ученье чистенький, свежий; правда припудренный, но веселый и довольный. В такие дни все в манеже шло прекрасно. И люди, и лошади чувствовали себя превосходно, а на барьере лошади даже прыгали выше, чем обыкновенно. Тогда Линевич отпускал по нашему адресу довольно серенькие остроты или, прервав ученье, рассказывал офицерам, своим помощникам, анекдоты. Линевич никогда не бил солдат ни рукой, ни стеком, как это делал его помощник – поручик Перфильев. Солдатам он импонировал своей ловкостью и удальством. Он мастерски рубил и брал барьеры, что не все офицеры умели делать. В отношении к вольноопределяющимся был вежлив, но, разговаривая с ними, всегда делал страдающее лицо. Мы хорошо усвоили его манеру: для сильнейшего разноса нас ругать нашего соседа. Нам говорилось: «Мезенцев, уберите, пожалуйста, зад», а впереди идущему: «Савченко, убери ж…, что сидишь, как … на именинах?»
Мне для строевых занятий достался конь Донец. Это было умнейшее животное. Он прекрасно знал все команды и с голоса выполнял их. Как-то я прозевал команду, и услышал голос Линевича: «Корсаков, не мешайте вашему умному коню выполнять мою команду!». Раза два в месяц Линевич приглашал на наши гимнастические и верховые занятия трубачей. Удивительно, что музыка прекрасно действовала на нас и лошадей. Все труднейшие гимнастические упражнения под музыку проделывались легко, без всякого напряжения, а лошади крепко держали ритм рыси и галопа, меняя аллюр по слуху, не дожидаясь приказа наездников.
Редко, но бывало, что Линевич устраивал ночные тревоги. Тогда вся учебная команда носилась за Линевичем по полям, болотам и оврагам, окружающим Павловск. Конечно, в таких случаях Линевич бывал сильно в подпитии. Надо заметить, что и пить Линевич тоже умел хорошо, и в соревнованиях такого рода выходил победителем.
Старые солдаты любили рассказывать, как Линевич умел «гулять». Тон их рассказа свидетельствовал о том, что они в душе очень гордились своим командиром. Рассказывали, что как-то на маневрах наши офицеры попали в гости к драгунам2929
2-я батарея, где тогда служил Линевич, действовала вместе с гусарским и драгунским полками.
[Закрыть]. Пили всю ночь. Наутро Линевич в свою очередь пригласил драгун гулять в походную палатку 2-й батареи. Гуляли еще день и ночь. Наконец в «живых» остался один только Линевич, а из драгун – штаб-ротмистр Римский-Корсаков (не родственник), первый пьяница во 2-й кавалерийской дивизии. Трубачи и песенники уже давно перестали играть и петь. Корсаков запросился «домой». Хозяин его удерживал. Гость рвался уходить, а Линевич его не отпускал и стыдил. Корсаков отказывался пить. Тогда Линевич вдруг рассвирепел и, обнажив шашку, потребовал, чтобы гость пил за здоровье 2-й батареи. Тот тоже пришел в ярость и схватил пустую бутылку. Вестовые стали разнимать своих офицеров. Безобразную сцену прекратил трубный сигнал тревоги. Все бросились «по коням», а через несколько минут Линевич уже вел галопом свою батарею на позицию.
Такого рода геройство особенно нравилось нашим станичникам-донцам. Они умели по достоинству оценить казачье ухарство сибирского казачка – Линевича. Гомерическая гульба была в традициях славных сынов Дона.
Я лично был свидетелем подобного же фантастического гуляния Линевича с нашими офицерами. Как-то летом 1 и 2 кавалерийские дивизии были срочно вызваны из лагерей Красного села для учебного отражения десанта в Финском зализе. После стрельбы по движущимся мишеням в море, мы к вечеру расположились на ночлег где-то около Ораниенбаума. Вахмистр Бочкарев пригласил меня ночевать в свою палатку. Рядом, в ста шагах находилась офицерская палатка-столовая. Гулянье началось с зарей. Всю ночь там играли трубачи и пели песенники. Всю ночь оттуда раздавались отчаянные крики, вой и улюлюканье. Раннее солнце осветило картину столь же живописную, сколь и назидательную. На ярком фоне зелени высилась белая палатка, сверкающая в лучах солнца, как шатер шемаханской царицы, а вокруг неё, в самих разнообразных позах лежали «трупы» господ офицеров, выползших из палатки.
Конечно, я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Не спал и мой хозяин, Бочкарев. Он был озабочен тем, чтобы солдаты не последовали примеру господ офицеров и не перепились бы. Он поминутно обходил все лагерное расположение и караульные посты. Он знал, этот старый солдат-дипломат, что за малейшее нарушение порядка отвечать будет он, а не офицеры.
Мне не раз приходилось слышать горькие сетования со стороны солдат на вопиющую расточительность их командиров. Они называли это «развратом». Они прикидывали в уме, сколько один офицер мог «прогулять» в вечер денег, и ужасались. При этом они сильно приуменьшали подлинный расход денег, не представляя себе реальные ресторанные цены. Так у них сложилось мнение, что самое дорогое вино – это шампанское. Мне не хотели верить, что есть красное вино по 12 рублей за бутылку. «Зачем же его пьют?» – спрашивал наш взводный.
Я замечал, что солдаты значительно острее переживали свое экономическое неравенство с офицерами, чем социальное. Солдат не возмущало то, что офицеры пьянствуют. Но они негодовали на то, что офицер мог пропить в один присест столько, сколько крестьянину не заработать и за год. Тяжело и страшно было наблюдать ту пропасть, которая отделяла офицера от солдата. Для тех, кто был воспитан в известном предубеждении к военной службе и к «военному духу», для тех, кто внимательно читал Толстого, а потом и Куприна, кастовый дух армии, узаконенная пьяная праздность, нарочитая расточительность офицерского общества – все это было очень противно.
К нам, вольноопределяющимся, Линевич относился свысока. Он отклонял наши попытки пригласить его к нам, ни во время нашей службы, ни позднее. Как-то раз я со Штукенбергом был в Мариинском театре. Устав разрешал нам сидеть в императорских театрах не ниже 2-го яруса. Мы там и находились. Внизу, в бенуаре, мы заметили Линевича. Он сидел в ложе конной артиллерии3030
Многие гвардейские полки имели постоянные абонированные ложи в Мариинском театре.
[Закрыть] и смотрел на нас в бинокль. На другой день после ученья Линевич милостиво обратился к нам: «Я вчера хотел к вам подняться, господа, и поболтать о балете, но вы сидели так высоко, что мне стало лень лезть к вам, и я не пошел. Как вам нравится Павлова? Что? Суха? Я так и знал…» – и отошел от нас, не дожидаясь нашего ответа.
Имя Линевича ещё громко прозвучало незадолго до войны на ежегодных, весенних конных состязаниях – Concours hippiques – в Михайловском манеже.
Будучи во Франции, Линевич вывез оттуда трех рыжих кобыл, купленных у его приятеля, одного из Лейхтенбергских. На одной из скачек в манеже на этих кобылах скакали наши офицеры-артиллеристы: Юрий Гершельман, Барановский и Линевич. Они взяли все три первые приза. Не обошлось, конечно, без буффонады в стиле «молодой конной артиллерии». Офицеры-победители, дурачась, одевали перед выездом одни и те же шпоры, которые, как они говорили, заколдовала жена Барановского (рожд. Бюцова), очень милая и неглупая дама. Переодевание шпор происходило на глазах у всей публики. Многих это очень веселило. Другие считали это недопустимой вольностью. Но этот спектакль был очень по сердцу нашему wunderkind’у, или enfant gâté3131
Баловень (фр.).
[Закрыть], Линевичу. И к нему удивительно шло прозвище «Юлиус», которое ему дал кто-то из нас. Действительно, он очень был похож манерами на того старшего «униформа» в цирке, который проводил беседы с клоунами: «Господин Юлиус, пожалуйте сюда…» – клоун хлопает бичом, и тот выходит на манеж.
В начале войны Линевич получил в командование первую батарею, в которой я начинал мою военную службу. Весной 1915 года я был произведен в офицеры армейской кавалерии. Мне нужно было получить мои военные документы. Я узнал, что первая батарея отведена на отдых на линию железной дороги Гродно-Вильна. Я отправился туда. Случилось так, что приехав на один день, мне пришлось задержаться на неделю. Задержка моя произошла из-за самоубийства молодого солдата Соловьева. Он бросился под поезд и не оставил никаких записок. Говорили только, что он сильно тосковал. Случай этот всех очень разволновал. Для Линевича это была большая неприятность. Надо было производить дознание и докладывать о случившемся разным большим начальникам, в том числе и царю. Линевич проявлял кипучую деятельность. Впервые я видел его без грима и рисовки. Он был по-настоящему взволнован и огорчен.
Когда я напомнил Линевичу о моих документах, он поморщился и спросил: «Разве вы так торопитесь нас покинуть?» Пришлось ждать. Наконец, я получил мои бумаги. И вот наступил последний мой ужин вместе с офицерами батареи. «Собрание» помещалось в тесной и грязной литовской халупе. После нескольких рюмок водки я узнал опять прежнего Линевича, веселого и беззаботного удальца-гуляку. Он очень живо и остроумно рассказывал разные забавные случаи из своей службы в Сибирском казачьем полку, к которому он был прикомандирован во время Японской войны3232
Гвардия в этой войне участия не принимала, но многие гвардейские офицеры пошли добровольцами и находились в различных сибирских полках. Все, кто вернулся, привезли орден Владимира четвертой степени с мечами.
[Закрыть].
Так, он рассказывал, что по прибытию в полк он стал делать визиты офицерам. Первым он явился к командиру полка. На вопрос Линевича, дома ли барыня, денщик ответил: «Подъесаула нет, а сама дома, пожалуйте». Потом пошел доложить о приходе Линевича и, вернувшись в гостиную, таинственно прошептал: «Так что барыня оправляется, просила вас обождать, сейчас управится». И действительно, через пару минут вышла любезно улыбающаяся командирша, потирая руки, обильно смоченные одеколоном, приготовив их таким образом для поцелуйного обряда.
Ужин наш подходил к концу, когда Линевич вдруг встал и потребовал, чтобы все наполнили свои стаканы. Потом он сказал: «Господа, в рядах нашей батареи несколько лет прослужил вольноопределяющийся Римский-Корсаков. Теперь он уходит от нас… Пожелаем ему удачи в жизни и счастья».
Я был глубоко потрясен совсем неожиданным теплым обращением ко мне Линевича. В глубине души я очень горько переживал, что не мог остаться служить в этой батарее, к которой я искренно был привязан, как к офицерам, так и к солдатам. Я вскочил и хотел ответить на дружеский тост, но от волнения не мог ничего сказать. Слезы хлынули из глаз. Я подошел к Линевичу, молча обнял его, крепко поцеловал. По лицам офицеров я видел, что они искренно сочувствуют мне.
Позднее, уже после войны Линевич женился. Женой его стала Обольянинова, бывшая замужем за уланом Трубецким. Ещё учась в Москве, я был как-то с сестрой на вечере у нотариуса Н.А. Жеребкова, бывшего правоведа, женатого на Трубецкой, сестре улана. На этом балу была с мужем и будущая жена Линевича, с которой мне пришлось танцевать, хотя я и очень робел перед петербургской светской красавицей. Она была свежа, молода и совсем не походила на серых и скучных петербургских дам. Лицом она была похожа на Линевича. Уже после революции я узнал, что Линевич уехал во Францию, где он надеялся найти себе занятие и место в жизни при посредстве Лейхтенбергского.
Дмитрий Сергеевич Перфильев состоял помощником начальника учебной команды. Он был сыном директора орловского кадетского корпуса. Окончив Пажеский корпус, он вышел в третью конную батарею, расположенную в Варшаве. Там у него произошла какая-то тяжелая романтическая драма. Он сошелся с одной дамой общества. Хотел на ней жениться, добившись развода, а муж дамы сгоряча покончил с собой. Тогда дама отказалась выйти замуж за Перфильева, и он просил о переводе его в Петербург. Так он стал офицером второй батареи, а потом получил назначение в Павловск. Здесь он вел тихий образ жизни, «провинциальный», т.е. нигде не бывал и напивался от случая к случаю в офицерском собрании, как все его товарищи. У него было маловыразительное, несколько припухшее от пьянства лицо, маленькие, недобрые глазки и тонкие сжатые губы. Фигура была щупленькая, петербургская. В руках у него всегда был тонкий стек, которым он частенько хлестал солдат, чаще всего за «здорово живете», вымещая на них свое дурное настроение, а, может быть, это была часть программы «мувманта». Солдаты не любили Перфильева за надменность и пажеское высокомерие. Вскоре после февральской революции Перфильев поехал с фронта в командировку и пропал. Никто не знал, куда он девался.
Другим помощником Линевича был Николай Александрович Барановский. Очень неповоротливый, всегда как-то стеснялся и краснел. Прежде, чем что-нибудь сказать, он долго сопел и фыркал. За это его прозвали «морж», и лицом он был похож на это симпатичное животное.
Н.А. Барановский кончил Александровский лицей. Был вольноопределяющимся. Держал офицерский экзамен. Был женат на Н.Е. Бюцовой, дочери дипломата, очень не глупой и милой даме. Н.Е. Барановская была маленького роста, очень худенькая и немного сутулая. На голову она одевала большой капор с кружевами, из под которого зимой довольно комично торчал ее большой нос. Солдаты всегда подсмеивались над ней, а донцы выражали свое крайнее удивление, как это Барановский мог взять себе такую «плохую бабу». «Что с неё толку?» – говорили они. В обращении Барановский бывал грубоват, лишен тонкости и такта. Кроме того, он был чрезвычайно рассеян. Про него рассказывали, что он однажды поцеловал по рассеянности руку начальника штаба гвардейского корпуса, генерала Гулевича. Будто, поднимаясь по лестнице на вечер к начальнику штаба, Барановский обдумывал, кому там надо будет целовать руку: «Конечно, генеральше. А ему, генералу? И ему тоже: ведь он же женат», – так рассудил этот морж! Как известно, в старину в светском обществе было принято целовать руку только замужним женщинам. По аналогии с этим обычаем Барановскому почему-то бросилось в голову, что и женатому генералу тоже следует поцеловать руку! По этому поводу в офицерских кругах очень веселились, поскольку ходили слухи, что в своей личной жизни Гулевич был более похож на женщину, чем мужчину.
У Н.А. Барановского был брат Василий Александрович, бывший правовед, типичный белорусский помещик. У него была страсть к конским скачкам. Ежегодно великим постом он приезжал в Петербург, чтобы скакать на конских состязаниях (concour hippiques) в Михайловском манеже. На протяжении нескольких лет Барановский скакал на сером коне – «Филарете» – и никогда никаких призов не брал. Но это его совсем не смущало, и он продолжал упорно скакать каждую весну. По имени коня этого Барановского стали звать Филаретом. Впрочем, он был очень добродушный и чуткий человек.
Мать Барановского была московского купеческого рода, из семьи известного книгоиздателя Сабашникова.
Совсем незаметной фигуркой был третий офицер команды, Энден-младший. Очень подвижный, маленький, шустрый офицерик, только что окончивший Пажеский корпус. Его прозвище было – Чижик, хотя он более был похож на воробья. Не знаю, куда он потом делся.
Из других офицеров-артиллеристов Павловского гарнизона мы чаще всего встречались с полковником бароном Велио, командиром пятой батареи. Это был сумрачный, хмурый, всегда как будто чем-то недовольный человек. Лет ему было около сорока. Немного сутулый, плотный, ходил, опираясь на палку, похожий больше на помещика чем на офицера. Смотрел он как-то боком, исподлобья. Однако солдаты знали, что стоило только Велио увидеть жену генерала Геринга, как сумрачный полковник весь преображался, подтягивался, лицо озарялось светлой улыбкой, глаза смотрели весело, и весь он молодел лет на двадцать. «Quid non facit amor»3333
Что любовь не делает (лат).
[Закрыть], – писал поэт Овидий. Солдаты пятой батареи очень внимательно следили за романом своего командира для того, чтобы в счастливую минуту выпросить у него что-нибудь такое, в чем в другое время хмурый полковник наверно бы отказал им.
Мы всегда бывали рады, когда приезжали какие-нибудь офицеры из Петербурга в гости к нашим. Тогда занятия заканчивались раньше или проходили уже только под командой вахмистра. Начиналось гулянье в собрании с песенниками. Всякие вечерние занятия откладывались или проходили без офицеров, что всегда было очень приятно.
Одним из частых гостей, посещающих Павловский гарнизон, был известный в гвардейских кругах ротмистр Алексей Панчулидзев. Он состоял адъютантом какого-то высокого начальника, и вся его служба проходила в том, чтобы посещать по очереди офицерские собрания гвардейской кавалерии. Он был очень глуп, что не мешало быть очень самоуверенным и довольным собой. Он так привык к успеху в высшем свете, что потерял чувство самокритики, глубоко веруя в то, что все, что делает и говорит, всем очень нравится.
Алексей Панчулидзев был сыном Евгения Алексеевича Панчулидзева (о нем чуть дальше) и состоял ктитором церкви Удельного ведомства, самой фешенебельной в Петербурге. Про священника этой церкви рассказывали, что, проходя во время службы с крестом по храму и обращаясь к прихожанам, чтобы его пропустили, он говорил: «Pardon, madame, pardon monsieur».
Панчулидзев-отец служил в лейб-гусарах, но ушел в отставку, заплатив несколько десятков тысяч рублей долга за своего однополчанина. Кажется, это был полковник Котляревский. В этом полку был обычай отвечать всем офицерам за долги одного. Котляревский служил в эскадроне, которым командовал Николай II, будучи наследником. Когда Котляревский разорился и должен был уйти из полка, то царь назначил ему пожизненную пенсию из собственных, «кабинетских» средств в размере трех тысяч в год.
Я встречал этого Котляревского, когда потом служил в Борисоглебске (Тамбовской губернии). Он производил впечатление очень скромного и тихого человека. Глядя на него, трудно было себе представить, что он мог «прогулять» свое большое состояние, да еще наделать долгов. Судьба Котляревского сложилась трагически. После Октября он продолжал жить в усадьбе своих друзей. Его никто не тревожил. Но вот, в 1920 году, появилась банда Антонова. Её лозунг был: «Бей жидов, офицеров и комиссаров». Котляревский погиб.
Появление Алексея Панчулидзева в нашем манеже сопровождалось веселыми оживленными возгласами офицеров. Наша смена брала барьеры. Линевич обратился к Панчулидзеву, пожимая его руку: «Ты как раз во время. Сейчас ты нам покажешь, как надо брать барьеры».
«А что же, ты думаешь, что я не возьму ваш паршивый барьерчик. Ты знаешь, что на парфорсной охоте у графа Эстергази я получил почетный бант…»
«Подайте коня его высокоблагородию», – распорядился Линевич. Панчулидзев лихо вскочил на лошадь, поднял её в галоп, сделал круг и пошел на барьер, но… проскакал мимо, к великому удовольствию наших офицеров. Не смущаясь, Панчулидзев снова поскакал к барьеру и… снова лошадь закинулась.
«Она не хочет», – сказал Панчулидзев, спрыгивая на землю.
«Это не кобыла, а конь, ваше высокоблагородие», – почтительно заметил наш вахмистр.
«Разве?.. То-то я вижу, что дурак, прыгать не умеет».
А наши солдаты смотрели на эту буффонаду и говорили: «За такую езду у нашего брата шпоры снимают, да ещё пять нарядов дают».
Очень верную характеристику Панчулидзеву дал в своей книге Игнатьев. Но, как это ни удивительно, у этого великосветского балбеса была очень строгая и серьезная мать. Говорили, что её сынок частенько получал от неё оплеухи, несмотря на офицерское звание. Она прославилась как заклятый враг революции. Она требовала жестоко расправиться с восставшим народом, сурово обличала Керенского и Временное правительство за слабость, ругала генералов «бабами». После Октября она усилила свою контрреволюционную агитацию и, как говорили, очень смело пошла на смерть в дни объявления красного террора.
Как-то постом, во время занятий, в манеж зашел один из офицеров пятой батареи и что-то сказал Линевичу такое, от чего у того фуражка свалилась на затылок, а глаза буквально от ужаса полезли на лоб. Забыв о нашем существовании, офицеры стали взволнованно о чем-то совещаться.
Не успели мы слезть с коней и вывести их из манежа, как уже знали потрясающую новость: капитан Кологривов, старший офицер четвертой батареи, был убит солдатом той же батареи. Обстоятельства убийства были следующие. В четвертой батарее очень расшаталась дисциплина. Командир батареи, граф Кутайсов, очень милый и симпатичный человек, совсем был не военный. Он устранился от командования и только подписывал то, что ему подавали вахмистр и каптенармус. Самые распущенные солдаты оказались в батарее Кутайсова. Еще незадолго до гибели Кологривова произошел случаи очень показательный для настроения чинов 4-й батареи. На улицах столицы был задержан солдат, конно-артиллерист, просящий милостыню. Он обратился за «Христа ради копеечкой» к одному барину. Барин пожалел солдатика, расспросил его, какой он батареи, и тут же сообщил об этом своему брату, адъютанту Николая Николаевича. Скандал получился грандиозный.
Кологривов взялся так подтянуть дисциплину, как всегда её подтягивали в русской армии, т.е. кулаком, нарядами, отданием под суд и лишением отпусков.
В цейхгаузе стали пропадать вещи, в том числе оружие. В день убийства была обнаружена пропажа двух наганов с патронами. Тогда Кологривов приказал запереть двери и обыскать весь личный состав батареи. Сам он встал у двери, ведущей в верхний этаж казармы, и обыскивал каждого проходящего солдата. Были пропущены и обысканы все нижние чины, когда последний из них, подойдя вплотную к Кологривову, выпустил в него несколько пуль из нагана, а сам бросился бежать в верхний этаж казармы, где успел забаррикадировать дверь. Когда же туда поднялся вахмистр, чтобы задержать убийцу, то с верхней площадки в него загремели выстрелы. Вахмистр отступил. Осажденный приступил к активной обороне. Он стал стрелять из окон по офицерам, которые показывались на дворе или на улице (в Виленском переулке).
Перепуганное начальство вызвало пожарную команду и обратилось за помощью к преображенцам, по соседству.
Кутайсов решил пойти уговорить убийцу сдаться. Но тот крикнул: «Не подходи, буду стрелять!» Кутайсов ушел. Наконец, к вечеру начались приготовления к штурму при содействии пожарных. Осажденный не стал ждать начала военных действий. Он открыл окно и крикнул: «Прощайте, товарищи!». Раздался выстрел. Все было кончено. Преступник покончил с собой. Защищаться он не мог. Патронов у него больше не было.
Тело погибшего солдата до прибытия военного начальства положили в цейхгауз. Кутайсов вошел туда, приказал всем выйти и закрыл за собой дверь. Солдаты заинтересовались, что он будет делать, и подглядели, как их командир встал перед их погибшим товарищем на колени и стал молиться. Потом поклонился ему в землю и, перекрестившись, вышел. Это христианское прощание Кутайсова с военным преступником и убийцей произвело очень сильное впечатление на солдат.
Какие последствия для командования конной артиллерии имело это беспрецедентное событие? Было объявлено, что Кологривов пал жертвой служебного долга в результате несчастного случая, вызванного внезапным помешательством убившего его солдата. Вахмистр четвертой батареи был уволен, и на его место назначен С.П. Зайченко, вахмистр учебной команды.
В связи со смертью Кологривова, у нас, вольноопределяющихся, возник сложный дипломатический казус: надо ли нам присутствовать в церкви на отпевании Кологривова, или это не обязательно? Учебная команда по приказу не была назначена присутствовать на похоронах. Однако, учитывая наше особое положение: ни солдат, ни офицер, – мы опасались, чтобы наше отсутствие не было бы, при желании, неправильно истолковано. Мы решили явиться в церковь все четверо. Но на нас никто не обратил внимания. Офицеры уж очень были взволнованы и удручены случившимся.
За несколько лет до описанного происшествия в Петербурге произошел случай, наделавший много шума. 6 января 1905 года, в праздник Крещения, при водосвятии на Неве, взвод первой батареи конной артиллерии, производя установленный салют, вместо холостого выстрела обстрелял картечью толпу придворных во главе с царем Николаем II. Никто не пострадал только потому, что орудие было нацелено выше, и пули пролетели над головами собравшихся, ударив в стены и окна Зимнего дворца.
Как это могло случиться? Расследование установило, что заряд картечи остался по недосмотру в стволе орудия после учебной стрельбы. Старший офицер батареи, капитан Ротт-1, был уволен из гвардии в армию, где он получил в командование одну из конных батарей.
Все эти из ряда вон выходящие случаи, эти «ЧП», как их именуют в Советской армии, а именно: стрельба по царской семье, собирание милостыньки солдатами, наконец – убийство капитана Кологривова, создали гвардейской конной артиллерии славу самой распущенной, расхлябанной и недисциплинированной части. При всяком другом главе государства и верховном командовании армией такие происшествия повлекли бы за собой суровое наказание начальникам части и, в первую очередь, командиру. Между тем генерал Орановский не только не был привлечен к ответственности вместе с командирами батарей, но получил, как я уже писал, почетную награду – был зачислен в свиту царя. Можно ли считать такой порядок нормальным? Не свидетельствует ли это о полном разложении всей государственной системы, о деморализации «образцовых» гвардейских частей? Действительно, рыба начала дурно пахнуть с головы.
Однако перечисленные печальные события, случившиеся в гвардейской конной артиллерии на протяжении каких-нибудь шести – семи лет, на этом не закончились. Летом 1913 года в Красном селе, на лагерном сборе, произошло ещё одно трагическое происшествие. И на этот раз это случилось в четвертой батарее у графа Кутайсова.
Батарея ездила на учебную стрельбу на военное поле. Вернулась к обеду в Красное село. Командир приказал старшему офицеру разрядить оставшиеся снаряды, для чего нужно было у них вынуть капсули. Калзаков, старший офицер, поручил наблюдение за этим делом одному из младших офицеров, который в свою очередь передал это дело вахмистру. Когда почти все капсули были вынуты, кто-то позвал Зайченко (вахмистра), и доканчивать разрядку снарядов осталось трое солдат. Они спешили скорее доделать свою работу и пойти обедать. Один из них, солдат первого года службы, для быстроты решил не пользоваться специальными щипцами, а взял молоток и, приказав товарищу придержать снаряд, стал выколачивать капсуль. Произошел взрыв. Солдата, который помогал держать снаряд и прижал головку его к своему животу, разнесло на мелкие части. Двое других были сильно контужены.
Кутайсов донес о случившемся рапортом Орановскому, командиру бригады. Орановский доложил об этом случае командиру гвардейского корпуса, Безобразову (генералу «вот-ведь»), а этот последний – великому князю Николаю Николаевичу, командующему войсками гвардии и округа. И, наконец, рапорт Кутайсова попал министру Сухомлинову для доклада царю. К рапорту командира батареи был приложен акт произведенного дознания за подписями старшего офицера, одного из младших и старшего писаря батареи. В акте, между прочим, было написано, что в результате взрыва, происшедшего от неосторожного обращения со снарядом, был убит канонир Афанасьев, происходящий «из крестьян села Волчки, Рославльского уезда, Костромской губернии». Царь внимательно прочитал рапорт и наложил такую резолюцию: «Сожалею о случившемся, но Рославльского уезда в Костромской губернии не знаю».3434
Рославльский уезд входил в состав Смоленской губернии.
[Закрыть] Получив такое деликатное указание царя на незнание им географии России, министр счел нужным заметить Безобразову допущенную Орановским ошибку в рапорте. Безобразов объявил в приказе по гвардейскому корпусу выговор Орановскому за небрежное составление рапорта.
Орановский в приказе по батарее объявил строгий выговор командиру батареи Кутайсову и приказал наложить строгое взыскание на тех, кто допустил ошибку в названии губернии. Кутайсов посадил под арест старшего офицера на трое суток, младшего офицера (производившего дознание) – на семь суток, и писаря, писавшего рапорт и дознание, разжаловали в рядовые.
Таким образом, благодаря резолюции царя, фиксировавшего свое внимание не на факте гибели человека, а на канцелярской описке, совершенно изменилось отношение начальства к содержанию рапорта. Никто не понес должного наказания за преступную халатность при исполнении служебных обязанностей. Взыскания были наложены за незнание отечественной географии. По этому поводу говорили, что Николай, как все Романовы, обладал очень хорошей памятью. Особенно хорошо он знал географию. Он отлично помнил фамилии всех генералов и командиров частей. Помнил, где какой полк расположен, а ведь их было сотни. Кроме того, говорили, что Николай особенно хорошо знал Костромскую губернию, так как считал себя, как Романов, дворянином этой губернии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































