Текст книги "Силуэты минувшего"
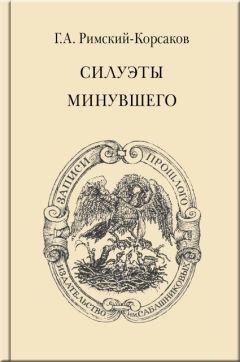
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Занятной фигурой выглядел некий приятный молодой человек Энгельгардт. Он был штатский, отношения к бригаде не имел и приехал в Колпну вместе с семьей командира из Москвы, где ему было скучно и, главное, нечего было кушать. Время было голодное, а в Колпне местные жители еще жили по старинке и хорошо кушали. Я приехал в Колпну в базарный день. Окрестные крестьяне навезли продавать много всякой живности и всяких плодов. За три рубля я купил ведро огурцов и буханку белого хлеба, в результате чего схватил жестокий гастрит. Меня вылечил бригадный врач Кайранский, брат поэта, очень интересный человек, автор драмы «Козья кровь».
Было лето. Тепло. Сытно. Фронт где-то далеко под Харьковом. От скуки решили дать самодеятельный концерт. Пенькова пела, А.М. Вертоградский играл на скрипке. Кто-то – на фо-но. А я был конферансье. На концерт приехал председатель губисполкома из Орла. Говорят, что я выступал удачно. Публика хохотала, а председатель спросил Штанге, указывая на меня: «Они что, из московского цирка?»
В июле мы поехали с А.А. Штанге в Москву за обмундированием, и вернуться в милую Колпну нам уже не пришлось. Генерал Мамонтов, совершая свой кавалерийский рейд по советским тылам, побывал в Колпне. Красноармейцы разбежались. Командиры – кто попрятался, а кто и перешел к Мамонтову, в том числе и командир бригады, с Римским-Корсаковым, Энгельгардтом и Кайранским. Брусилов отказался перейти служить к белым. Его они расстреляли.
Когда я в первый раз ехал из Москвы в Колпну, со мной в Орле произошел любопытный и довольно неприятный случай. В поезде я ехал с бывшим кавалерийским офицером Кузьминым-Караваевым и много с ним говорил о службе в царской армии. С нами в купе ехал еще один гражданин, ничем не примечательный. Мне и Кузьмину надо было в Орле явиться в губвоенкомат, чтобы получить направление в Колпну, находящуюся в прифронтовой полосе. Когда мы с вокзала пошли в город, нас догнал товарищ в кепке и попросил предъявить документы. Мы ему их показали. Он вернул их нам и сказал, что председатель губисполкома ехал с нами в вагоне и ему наши разговоры показались подозрительными: бывшие офицеры тогда ехали на Юг к Деникину в белую армию.
В Орле в военкомате мне выдали предписание ехать в Колпну и я, вернувшись на вокзал, расположился в буфете пить кипяток. Вдруг ко мне подходит тот же товарищ в кепке, опять спрашивает документы и, прочитав мое предписание, говорит мне: «Идите со мной». Я пошел, захватив и свой чемодан.
В помещении железнодорожной ЧК «кепка» оставил меня одного и куда-то ушел с моим документом. Спустя некоторое время он вернулся, отдал мне документ и сказал: «Ладно, езжай дальше». Я спросил его, в чем дело? Оказалось, что мое предписание было подписано не самими начальниками военкомата, а их заместителями – «подпись неразборчива» – и поэтому «кепка» звонил в военкомат, чтобы выяснить подлинность моей командировки в Колпну. Когда я уже сидел в вагоне, «кепка» еще раз увидел меня и очень добродушно напутствовал: «Ну как, сидишь? Счастливо…»
После рейда Мамонтова и разгрома нашей «бригады» в Колпне, наш «Особый отдел» направили в Казань, а оттуда перевели в Сарапуль. Тамарину очень было приятно находиться подальше от начальства, да и нам тоже. Для связи с Москвой там был оставлен Аренд – весьма колоритная фигура. Бывший офицер, кавалерист, товарищ Славина по кавалерийской школе, он был напуган советской властью до предела возможного. Случилось так, что до революции он был прикомандирован к Московскому жандармскому дивизиону для написания его истории. Аренд, сын военного врача, считался знатоком военной истории и позднее стал работать в Ленинградском Военно-историческом музее. Советская власть ловила жандармов и уничтожала. Аренду было очень трудно доказать, что он жандармом никогда не был.
Аренд был нам очень полезен. Он исполнял всякие служебные поручения Тамарина и наши частные просьбы. Однажды к нам в Сарапуль приехал молодой еврей с приказами Реввоенсовета. Он привез Славину записку от Аренда с поклонами от родных и знакомых. В конце записки Аренд писал: «Ну, будь здоров, полундра, твой Аренд». Это было ловко зашифрованное предупреждение Аренда об осторожности в отношении прибывшего из Москвы курьера. Тамарин стал его кормить богатыми обедами (а в Москве тогда был голод) и снабдил его при отъезде всякими продуктами для московского начальства: и мукой, и пшеном, и свининой, и бараниной, и маслом – все по «государственным ценам», т.е. по копейке за пуд.
Тогда начальником Главного штаба, которому мы подчинялись, был бывший полковник Генерального штаба Н. Раттель, а его заместителем М.М. Загю, тоже полковник Генштаба, брат М.М. Балбашевской, матери моего товарища по Правоведению Володи Балбашевского, семья которого в данное время5656
Написано в 1970 г. – Прим. А.Р-К.
[Закрыть] проживает в Сан-Пауло, а сам Володя умер в 1967 г. в Германии. Михаила Михайловича Загю я хорошо знал, встречал у Балбашевских. Это он, служа в Ставке начальником управления связи, придумал сокращения названий: Главковерх, Наштаверх, ГУВУЗ, ПУР, ГУМ и т.д.
Это начальство очень охотно принимало дары Тамарина, более того, оно считало нашей обязанностью снабжать их продуктами. По этому поводу я имел раз с Загю очень неприятный разговор. Наш отдел имел собственный служебный вагон 1-го класса для служебных разъездов. Как-то я приехал в нем в Москву, а когда явился в штаб, Загю меня спросил, что я им привез? А случилось так, что я никаких продуктов на этот раз не привез. Тогда Загю повел меня в свой кабинет, тщательно прикрыл дверь за собой и очень недовольным тоном спросил меня: «Скажите, зачем мы дали вам вагон? Чтобы вы только катались в нем? Нет, вы должны нам привозить продукты, а не кататься. Так нельзя. Передайте это вашему начальству».
Я буквально онемел от удивления. Как?! Уважаемый мною офицер русской армии, брат уважаемой Марии Михайловны, служащий в Красной Армии военспец, вдруг объявляет мне, что наш «Особый отдел» организован не для нужд Красной Армии и защиты революции, а для снабжения продуктами двух полковников царской армии! Было что-то отвратительно циничное и наглое в словах Загю. После этого разговора Загю перестал быть для меня «уважаемым», а когда я его как-то спросил, что он знает о судьбе его сестры Марии Михайловны и ее семьи, и он мне с раздражением ответил, что ничего не знает и не хочет знать, я перестал с ним кланяться. Конечно, осторожность и бдительность в те годы были необходимы, и Загю, видимо, поступил правильно, что отрекся от сестры-эмигрантки, но сказать все это он мог другим тоном.
Позднее, уже в Москве, наш молодой курьер-еврей, хитро улыбаясь, спросил меня, очень ли мы тогда все в Сарапуле перепугались, когда он приехал туда? Ему, оказывается, было поручено (кем?) написать подробный отчет о нашем поведении и настроении. Я ему, конечно, не открыл секрет «полундры».
А потом еще раз приезжала ревизовать деятельность нашего отдела комиссия в составе бывшего командующего 11-й армии в войну 1914 г. генерала Гутора и генерала Н.П. Серебренникова, бывшего командира Павлоградских гусар (см. «Войну и мир»). Этот последний был очень похож на генерала Брусилова, и Иммерман, сопровождавший этих генералов, забавлялся тем, что собирал толпу зевак около вагона, таинственно сообщая на остановках железнодорожникам, что он сопровождает «самого Брусилова».
Эта генеральская комиссия хорошо у нас кушала, приятно отдыхала и много подвезла с собой в Москву продуктов. Что делать – генералы «тоже хочут кушать». Конечно, они дали вполне благопристойный отзыв о нашей деятельности. И в самом деле, мы ничего плохого не делали, контрреволюцией не занимались, спекуляцией тоже, кокаин не нюхали и не пьянствовали, хотя такая возможность у нас была.
Отступая от Сарапуля, белая армия Колчака взорвала большой мост через Каму. Ленин приказал его восстановить в течение трех месяцев. Была зима, и морозы достигали 45°. Работа шла день и ночь. Чтобы согревать рабочих, им выдавали ежедневно на каждого по полбутылки водки. Очень многие рабочие продавали эту водку по 5 руб. за бутылку (дешевка!!!).
Мы жили в бывшей гостинице, в центре города. Там было довольно чисто и даже жарко, но нас одолевали крысы. Они паслись вокруг нас во время нашей еды, а по ночам бегали по нашим кроватям. Но в общем мы наслаждались покоем и сытной пищей. Я отправлял в Москву посылки с мукой и пшеном. По вечерам пели. Я аккомпанировал, как умел, а Голубев, наш служащий канцелярии, молодой парень, пел. Кроме того, нас развлекал старый музыкант-татарин, у которого была до революции в Сарапуле музыкальная школа. Весьма любопытной фигурой был «король электричества и секретной магии» Интус Канот, а по паспорту Степан Никифорович Терентьев. Он устраивал сеансы магии – пропускал через себя токи высокого напряжения (одевая калоши) – и всякие фокусы. Он же доставал нам водку и любые продукты по спекулятивной цене. Он не обижался, когда его ругали вором, шарлатаном, паразитом, спекулянтом и прочими поносными именами. Он же предлагал «валюту», т.е. царские деньги и золотые кольца. Его гнали. Он печально вдыхал и говорил, что теперь каждый может обидеть Интуса Канота, а вот раньше перед ним преклонялись такие люди, как уездный полицейский исправник. Однако, на другой день он являлся снова и спрашивал, не нужно ли кому свинины или баранины?
В январе 1921 г. меня отправили в составе ремонтной комиссии закупать лошадей у населения для армии. Замначальника отдела Малышев предупредил нас, чтобы платили за лошадь не свыше 250 руб. (в среднем), а председатель комиссии Иммерман объяснил мне, что государственная закупочная цена установлена в 320 руб. и что Малышев и Тамарин заработают, таким образом, на каждой лошади по 70 руб.
Все члены комиссии разъехались в разных направлениях, чтобы съехаться в назначенный день в городе Чистополе (на Каме). Я отправился в сопровождении десяти красноармейцев в Мензелинский уезд Уфимской губернии. Это был совсем глухой татарский край, разоренный к тому же гражданской войной. Хороших коней там было очень мало. Мне надо было закупить 50 голов. Я сначала был очень разборчив и придирчив. Но время шло, и надо было спешить, и я стал брать то, что предлагали, лишь бы лошадь не имела каких-либо явных дефектов. Во многих случаях удавалось купить значительно дешевле назначенного лимита в 250 руб. Каждый владелец коня выдавал мне расписку в получении денег и ставил какую-нибудь татарскую закорючку вместо русской подписи.
Следует отметить, что население охотно продавало лошадей. Этому способствовало и то, что члены комиссии пользовались в сношениях с населением не грубыми административными приемами и приказами, а умели войти в доверие к людям и доброжелательно к ним относились. В то суровое время это была совсем неожиданная тактика, которая безусловно давала вполне положительный результат.
В Чистополе я получил телеграмму от начальника, вызывающего меня в Казань. Поручив закупленных лошадей команде красноармейцев, я с двумя товарищами поехал в санях в Казань. Ехать надо было больше ста километров.
Мы несколько задержались с отъездом, и едва мы переехали через Каму и углубились в большие леса, как настала ночь. Совсем стемнело. Зима была суровая. Мороз свыше 30°, хотя и без ветра, был очень чувствителен. Одеты мы были в полушубки. На ногах валенки. Но, проехав три часа без отдыха, мы почувствовали, что надо погреться. Да и нашей паре лошадей стало тяжело. Между тем, место было глухое и никаких деревень нам не попадалось. Лес и лес.
Наконец вдруг громадные сосны расступились, и на большой поляне появилось какое-то селение. Большие избы на высоком фундаменте, сложенные из вековых бревен. К избам примыкали высокие и крепкие заборы, образующие внутренние дворы, населенные собаками, которые подняли неумолкаемый лай при нашем появлении. Архитектура домов и их внешность резко отличались от обычных деревенских изб. Занесенные снегом столетние сосны, обступившие их, создавали какой-то берендеевский пейзаж. Нигде ни одного огонька. Куда стучать? Кого просить о ночлеге? Выбирать не приходилось, и мы постучали в первую же избу, или вернее сказать – в первый двор. Собаки громко лаяли, но никакого движения внутри не было заметно. Что за деревня? Нас никто о ней не предупреждал. Похоже, что это даже не деревня, а раскольничий скит, жилище тех, кто жил еще по старой вере.
На стук во второй и третий двор нам тоже не ответили. Но не ночевать же нам на улице? И тут я вспомнил рассказ поэта Клюева, который говорил, что у них в Онежском крае никто не откроет дверь, если не услышит: «Во имя Отца и Сына и святого духа», и тогда хозяин ответит – «Аминь» и впустит гостя. Я решил попробовать и здесь использовать эту магическую формулу заклинаний, и когда я, постучав, громко произнес: «Во имя Отца…», в ответ за крепкими воротами раздалось: «Аминь, аминь». Заскрежетали засовы, заскрипели замки, звякнули цепи и калитка в цитадели приоткрылась.
– Что за люди? – спросила женщина, плотно повязанная теплой шалью.
– Мамаша, пустите нас, Христа ради, переночевать. Совсем застыли. Едем по казенному делу в Казань.
– Сколько вас?
– Трое, матушка. Люди верные, вас не обидим.
Она отвернулась от меня и что-то сказала в сторону дома, после чего заскрипели болты и ворота открылись, чтобы впустить наши сани.
– Идите в горницу, – пригласила она нас и пошла вперед, освещая дорогу фонарем.
Пройдя какие-то тесные закоулки, она распахнула дверь в большую горницу с русской печью, полатями и божницей со многими темными иконами, перед которыми светилась лампадка, а под потолком ярко горела «молния». Мы вошли, остановились в дверях, и я, сняв шапку, крестясь, поклонился иконам: «Мир дому сему». Поклон иконам, безусловно, оказал благотворное влияние на хозяйку. Но я чувствовал, что лёд еще не сломлен. В горнице было очень жарко, но я не считал еще возможным снять свой полушубок. Я сел к столу и положил рядом с собой мой маузер.
– Чайку бы нам, хозяюшка, – попросил я.
– Чаю нет. Сам знаешь, какое время. А самовар поставим…
Надо иметь в виду, что край, где комиссия закупала коней, был лишь недавно освобожден от колчаковцев, и настроение у местного населения было неустойчивое и к советской власти выжидательное. Кто-то мутил татар и восстанавливал их против русских. Шла тайная агитация за Великую Татарию, за создание особой Казанской республики, независимой от Москвы. К представителям советской власти отношение было настороженное, а иногда и просто враждебное, переходящее в открытые выступления и кровавые погромы.
Членами комиссии были в основном специалисты-лошадники, бывшие офицеры-кавалеристы старой армии. Им в помощь придавались красноармейцы двух национальностей: татары и русские, поскольку приходилось иметь дело с татарским и русским населением. Приезжая в татарскую деревню, посылался вперед красноармеец-татарин. Он быстро объяснял своим соплеменникам цель нашего приезда, и что за проданную лошадь начальник платит тут же наличными деньгами. У нас был большой запас «керенок», которые население брало более охотно, чем другие деньги. На «черной бирже» в Москве «керенки» тоже ценились дороже и по своей ценности стояли на втором месте после царских денег.
Также быстро татарин-красноармеец находил для нас квартиру у какого-нибудь татарина побогаче. У татар всегда в избах было очень чисто и сытно. Можно было вполне спокойно спать на хозяйских перинах, не опасаясь набрать себе на память кучу всяких «домашних» насекомых.
В избах у русских крестьян было совсем по-другому. Грязь, нищета и изобилие всяких паразитов не поддается описанию. Вши, клопы, блохи и тараканы самых удивительных зоологических видов: рыжие, черные и даже белые! Спать в такой избе можно было только на скамейках, густо посыпав себя пиретрумом или дустом, а ножки скамейки поставив в блюдечки с водой, и по возможности при ярком свете лампы. Огонь свечи не пугал всех этих чудовищ, и они устремлялись на свою жертву.
У русских было и голодно. Не всегда даже можно было получить молоко, масло и яички, не говоря уже о курице или баране. И все население очень страдало от отсутствия соли, и, делясь с хозяевами нашими скромными запасами соли, мы всегда устанавливали с ними добрые отношения. Надо заметить, что в это время и в Казани, даже в самых лучших столовых, обеды готовились без соли, и надо было приносить соль с собой, но пользоваться ею украдкой от посетителей, так как у них мог возникнуть вопрос о происхождении запасов этой соли и законности пользования ею.
Но никаких запасов сахара у нас не было. Полностью отсутствовал сахар и у населения, так что чаек надо было пить с молочком и радоваться, если удавалось купить к чаю меду, но по очень дорогой цене. Хлеба нам вполне хватало, так как мы получали красноармейский паек. Однако надо заметить, что все продукты питания были очень дорогие, и содержать себя нам стоило дорого. Но уж одно то было важно, что мы питались, тогда как члены наших семей в то же время, живя в центральной России, в Москве и Петрограде, кушали лишь свой жалкий паек и по 200 гр. «комитетского» хлеба, состав которого определить было трудно и на вкус и на запах. Как обрадовались мои родные, когда мне удалось им послать пуд пшена!
Никогда никаких недоразумений или столкновений у нас ни с кем из населения не было. Я носил в портфеле большую сумму денег, и никто на нее не покушался. А ограбить меня при желании было совсем просто. Приходилось ездить и ночью. А в ночь на Новый год я ехал даже один в розвальнях из города Мензелинска в Чистополь. Я, правда, положил себе на колени большой маузер, чтобы морально воздействовать на возчика и чувствовал себя поэтому весьма уверенно. А ведь ничего не стоило кому-нибудь на дороге пристрелить меня из винтовки, тем более, что ехать приходилось и через большие леса. Конечно, я подвергался тогда серьезной опасности, но понял это только много лет спустя, и задним числом испугался. А тогда я совсем не думал о возможности моего ограбления. Возможно, что мое спокойствие и уверенность поступков могли импонировать населению и внушать некоторое уважение ко мне, как к представителю советской власти…
1970-71 гг.
Фёдор Шаляпин
Шаляпина в первый раз я услышал во «Вражьей силе»5757
Речь идет о возобновленной 24 сентября 1902 года постановке оперы в Большом театре. «Вражья сила» – опера А.Н. Серова (1820 – 1871) по пьесе А.Н. Островского «Не так живи, как хочется».
[Закрыть] Серова. Он пел Ерёмку. Это было в 1902 году. Я плохо помню этот спектакль, и кроме образа Шаляпина-Ерёмки ничего не запомнилось. Я был тогда совсем юным мальчиком-подростком и в первый раз попал в Большой театр. После Мариинского театра Большой мне показался очень неприветливым, хмурым, тёмным и грязным. Всё в нём для меня было чуждым. И капельдинеры были не такими. И одеты они были более неряшливо, и имели более провинциальный вид. В Мариинском и сцена, и зрительный зал были меньше и выглядели интимнее. И даже пахло в Большом театре не так, как в Мариинском. Сразу же при входе зритель обонял крепкий запах уборных, а в Мариинском больше пахло газом. Впрочем, и там, и тут пахло ещё пылью. Вентиляция была плохая.
Мы сидели в ложе бенуара. На сцене хор изображал весёлое масленичное гулянье. И даже катались с горы на санках. Вдруг в толпе гуляющих показалась высокая худая фигура, в драном зипуне и портах, с драной шапчонкой на голове. Фигура ходила, пошатываясь, среди народа и что-то бренькала на балалайке, и ещё ничего не пела.
«Это Шаляпин?» – спросил я у матери.
«Да, сиди и молчи».
Шаляпин по своему костюму мало чем отличался от других певцов на сцене, но почему-то я сразу понял, что это должен быть он. Содержание оперы я тогда ещё не знал, и не знал также, кого поёт Шаляпин. Хористов, изображавших народ, было много, но все они совсем по-другому ходили по сцене и держали себя не так, как Шаляпин. Они поднимали руки, опускали, махали ими, поворачивались – то есть двигались по сцене, как это было положено «народу» в оперном спектакле. Они играли, изображали, а вот только один Шаляпин жил. Движения его были вполне натуральные, вовсе не театральные, но пластичные, чёткие, и при этом ничего лишнего, всё в меру. Этот нищий подвыпивший оборванец иногда топтался на месте и приплясывал. Но другие тоже топтались и приплясывали. Но он это делал как-то особенно ярко, впечатляюще, артистично, и эта бьющая в глаза артистичность приковывала к нему общее внимание. И это умение, а вернее особое его дарование быть всегда главным, первым на сцене, какую бы партию он ни исполнял – было особенностью его артистической индивидуальности.
Я помню «Мефистофеля»5858
«Мефистофель» – опера итальянского композитора и поэта Арриго Бойто (1842 – 1918), по поэме «Фауст» Гете. Эту оперу в Большом театре Шаляпин первый раз пел в свой бенефис 3 декабря 1902 года.
[Закрыть] Бойто. Сцена в античном мире. Фауст поёт с Еленой лирический дуэт. Что делает в это время Мефистофель? Он терпеливо ждёт, когда Фауст выскажет Елене свои чувства. Античная красота – это не его стихия. Ему нечего делать. Ему скучно. Ему жарко. Он садится в холодок на ступеньку храма и дремлет. Конечно, в зрительном зале никто не слушает дуэт. Все с напряжённым вниманием смотрят на Шаляпина-Мефистофеля и ждут, что он ещё покажет. А он показывал до предела насыщенную сценическую паузу. Я не знаю, как другие певцы проводят эту сцену. Но мне думается, что Шаляпин нашёл единственное правильное решение. Он мог бы во время дуэта уйти со сцены за кулисы. Но он не захотел прервать драматургическое развитие своего сценического образа. Наоборот, эта мимическая сцена очень помогла подчеркнуть идейный конфликт Мефистофеля с миропониманием Фауста, идеалом которого является античная красота. Музыка оперы «Мефистофель» очень бледная и слабая. Ее совсем не слышно. И только благодаря Шаляпину она приобрела мировую известность.
Из античной Греции Мефистофель попадает на Брокен, на шабаш ведьм. Здесь он совсем другой. Он преображается. Он доволен. Он попал в свою стихию. Здесь он дышит свободно. Здесь он господин, он повелитель, он царь вселенной. Его приветствуют все тёмные силы мира. Шаляпин одет во что-то вроде «купального костюма», и он драпируется в длинную широкую серую мантию, которую в сцене с земным шаром он сбрасывает и предстаёт полуголым. Но когда занавес закрывается и он выходит на вызовы публики, то тщательно прикрывает мантией свою наготу. Он знает, что поёт в императорском театре, где слишком голое тело не допускается.
«Мефистофеля» я слышал шестьдесят лет назад. Музыка забыта полностью, а Шаляпин очень ярко сохранился в памяти.
Уже много раз об этом писали, но повторять это можно ещё и ещё раз. Каждый спектакль с участием Шаляпина поднимал творческий тонус всего театра. Шаляпин зажигал «огнём святого искусства» всё вокруг себя, и сам горел этим огнём. Все вокруг Шаляпина настраивались на особый, шаляпинский, приподнятый тон. И все особенно как-то волновались и дрожали. И певцы-солисты, и хор, и оркестр, и даже балет: а вдруг Шаляпину что-нибудь не понравится, что-нибудь покажется не так. Тогда он будет скандалить, ругаться, убежит из театра, начальство переругается, переполошится… Не дай Бог! Но не только чувство страха проникало в сознание его товарищей по сцене. Каждый участник «шаляпинского» спектакля хотел поднять своё творчество, своё исполнение до «шаляпинского» уровня. Каждый хотел быть достойным шаляпинского гения. Каждый считал за особую честь петь, играть, танцевать в спектакле вместе с Шаляпиным.
Мне не раз приходилось встречать совсем маленьких певцов, которые, уже будучи старенькими, гордо поднимали голову, когда говорили: «Я пел вместе с Шаляпиным…» А пел он, может быть, только запевалу в хоре крестьян в «Сусанине», или, в лучшем случае, офицера в «Севильском цирюльнике». Но он знал, что «петь вместе с Шаляпиным» – это лучшая артистическая аттестация, это уже высокая характеристика, потому что петь плохо рядом с Шаляпиным было нельзя. Когда пел Шаляпин, то поднималось настроение даже у рабочих сцены, у обслуживающего технического персонала и, конечно, у капельдинеров и сторожей. Будет полный сбор по особо повышенным, «шаляпинским» ценам на билеты. В Большом театре соберётся вся финансовая, торгово-промышленная Москва, «сливки общества» (конечно, не дворянского, которое в то время в театрах уже почти не бывало). Буфет будет торговать, а не пустовать, как обычно. Комендант театра полковник Переяславцев наденет новый мундир! Наконец, в самом зрительном зале будет светлее – зажгут все люстры. Все будут ждать чего-то небывалого, прекрасного. Да, будет создана сама собой, без приказа начальства, «праздничная обстановка».
Много писали и говорили о необычайной способности Шаляпина перевоплощаться в совсем разные сценические образы. Вот Борис Годунов – фигура, полная трагизма, и здесь же, в этой опере, он мог создать бесподобный комический образ пьяницы-монаха Варлаама, образ-сатиру. Вот глубоко драматический образ русского крестьянина-патриота Сусанина, а рядом – Дон Базилио, один из самых впечатляющих комических образов на оперной сцене. А вот, опять же, мудрый скептик Мефистофель, образ которого полностью заполняет весь спектакль «Фауста»5959
«Фауст» – опера французского композитора Ш. Гуно (1818 – 1893).
[Закрыть] и как бы ведёт за собой весь оркестр, оживляя его и заставляя по-новому звучать жиденькую партитуру старенького милого Гуно, поднимая её до уровня своего творческого гения.
Следует иметь в виду, что только лишь слушать Шаляпина было мало, чтобы полностью оценить его могучий талант. Собинова можно было слушать, и не обязательно было глядеть на него, так как он создавал преимущественно музыкальный образ. Нежданова обладала чудесным тембром голоса и редкой красотой звука, но от этой малоэмоциональной артистки с невыразительной внешностью никто и не требовал показать яркий сценический образ. Она была только замечательная певица, но не артистка. Шаляпина же надо было и слышать, и видеть, чтобы полностью воспринять его гениальную творческую индивидуальность. Вот почему самая совершенная грамзапись не может дать нам полное представление о величайшем артисте.
В его артистическом творчестве в равной мере воплощался и великий музыкальный талант, и драматический. Он – певец и актёр на театральной сцене, но такой же певец и актёр и на концертной эстраде. У нас многие певцы прекрасно поют «Блоху» Мусоргского. Но надо было видеть, как эту же «Блоху» пел Шаляпин. А какая изумительная мимика сопровождала романс «Как король шёл на войну» Кенемана, или как вдохновенно, прочувствованно исполнял он «Элегию» Масснэ, или страшного до отчаяния «Двойника» Шуберта!
Мимика достигала у него высшего предела. Вот он, Грозный-Царь, въезжает на коне на площадь крамольного Пскова («Псковитянка»). Он не поёт, молчит, и только смотрит с коня на стоящий на коленях народ. Здесь уже нет Шаляпина и Н.А. Римского-Корсакова, а перед нами только Иоанн IV, московский царь, собиратель русской земли «под свою руку». Это уже не театр, а историческая картина, Здесь уже не искусство, а политический реферат.
Я совсем не помню «Веру Шелогу» – пролог к «Псковитянке»6060
«Псковитянка» – опера Н.А. Римского-Корсакова, по драме Л. Мея. В Большом театре поставлена в 1901 г. вместе с музыкально-драматическим прологом «Боярыня Вера Шелога». Шаляпин пел партию Ивана Грозного с 1896 года.
[Закрыть], но не могу забыть, как входил Грозный в терем к своему хитрому врагу Токмакову. Как он нагибается, чтобы не задеть головой за притолоку, как нерешительно останавливается и затем произносит своё презрительно-издевательское: «Зайтить, аль нет?» И такое же непреходящее впечатление от появления Дона Базилио в первом акте «Севильского цирюльника»6161
В опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини Шаляпин впервые спел в Москве, в Большом театре, 15 ноября 1913 г.
[Закрыть]. Дверь слегка приоткрывается. Просовывается конец длинной поповской шляпы. За ней появляется кончик длинного утиного носа Дона Базилио, носа подвижного, как у собаки. Он сначала нюхает, чем пахнет в доме Бартоло, и входит только потом. И начинает разматывать бесконечной длины шарф. А как он комично бегает вприпрыжку по сцене, спасаясь от буйного Альмавивы, и как при этом, высоко задирая полы своей рясы, показывает тонкие ноги в красных чулках и громадные поповские туфли с пряжками! Этот шарф и красные чулки были одними из любимых находок Шаляпина.
А сколько было шума и восторгов у любителей оперного искусства по поводу исполнения Шаляпиным небольшой партии князя Гремина в «Евгении Онегине»! Дело в том, что свою арию «Любви все возрасты покорны» Шаляпин пел, обращаясь к Онегину со своим волнующим признанием, сидя на диване. Это было неожиданно смело.
Однако у Шаляпина были не только победы, но и артистические неудачи, которые Фёдор Иванович признавал, но не любил вспоминать. Так совсем не удалась ему партия отца Дубровского в опере Направника. Возможно, что ему была чужда музыка оперы, написанная без особого творческого подъёма и в академическом стиле.
Шаляпин был чрезвычайно требователен ко всем исполнителям оперного спектакля и, конечно, прежде всего к самому себе. Его скандалы в театрах чаще всего происходили из-за повышенного чувства ответственности, как исполнителя, перед слушателями, перед автором, перед оперным искусством. Он очень резко критиковал тех дирижёров оркестра, кто только добросовестно умел читать ноты, но не пытался раскрыть их смысл, содержание и идею оперного произведения. «Смотрят в партитуру и ничего, кроме нот, там не видят». Вот почему он так ценил С.В. Рахманинова как дирижёра, который умел необыкновенно чутко и вдохновенно подойти к исполнению оперы.
О Шаляпине написано много, но видимо ещё не всё. А рассказывали о нём ещё больше, чем писали. Шаляпиным, конечно, занимались газеты. О нём говорилось всюду. Не всегда говорили правду. Очень много выдумывали всяких небылиц. Вот Шаляпин стрелял в привидение. Вот он убил вора, который ночью влез к нему в окно. Вот он чуть не задушил известного тенора на репетиции, а другого хотел избить и загнал его в оркестр. Парикмахер брил клиента и занимал его рассказом о новом чудачестве Шаляпина. (Между прочим, тогда, в те далёкие времена, парикмахеры занимали посетителей вежливым разговором, стараясь обставить посещение парикмахерской возможно более приятно для клиентов. Тогда не приходилось слушать, как мастера громко говорят о выполнении плана, о своих мозолях и ценах на картошку).
О Шаляпине говорили гимназисты и студенты. О нём можно было услышать в приёмный день за чашкой чая у какой-нибудь дамы из общества или на именинах у профессора университета. Много толковали, конечно, и в артистической среде. Много было фантастических рассказов, но много было и достоверных фактов.
Так, например, когда – ещё до первой мировой войны – Шаляпин пел в Лондоне с русским составом артистов, администрация гастролей задерживала выдачу зарплаты, несмотря на неоднократное обещания не затягивать расчёт. Тогда вся труппа с Шаляпиным во главе, собравшись на репетицию, заявила, что если к вечеру артисты не получат денег, то петь они не будут. Больше всех шумел и волновался Шаляпин. Настал вечер. Денег труппа не получила. Артисты ходили по сцене и не думали одеваться к спектаклю, – должны были давать «Псковитянку». Импресарио бегал, уговаривал артистов, клялся, что после сегодняшнего аншлага он завтра же рассчитается со всеми полностью. Его никто не слушал. Звонки были уже даны. Оркестр на месте. Вдруг кто-то сообщает, что Шаляпин в своей уборной гримируется, собираясь петь. Сначала этому не поверили, а потом, страшно рассерженные, бросились к Шаляпину требовать от него объяснений его нетоварищеского поступка. Хористы собрались перед дверью уборной Шаляпина и кричали: «Предатель! Скотина! Продажная шкура! Выходи! Мы тебе покажем!» и прочие неприятные русские слова. Вдруг дверь уборной распахнулась и показался… нет, не Шаляпин, а сам царь Иван Васильевич Грозный, в шапке Мономаха и с жезлом в руке. Он остановился, нахмурил брови, строго взглянул на хористов и пошёл прямо на них, бросив на ходу: «Сейчас начинаем». Все кинулись одеваться. Импресарио рассудил правильно. Он уплатил деньги только одному Шаляпину и тем самым сорвал забастовку артистов. Он отлично знал, что если Шаляпин будет петь, то все артисты последуют его примеру. Это мне рассказывал один из участников того спектакля.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































