Текст книги "Силуэты минувшего"
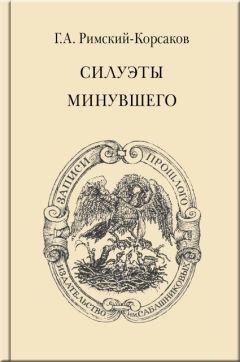
Автор книги: Георгий Римский-Корсаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Когда я стал вольноопределяющимся, то в ряду других неприятных последствий солдатского положения явилось и посещение парикмахерских, где я постоянно мог встретить офицеров и генералов. Военный обычай требовал в таких случаях подойти к офицеру и, отдавая честь, спросить разрешение остаться и сидеть в его присутствии. Здесь мы уподоблялись юнкерам военных училищ, а не солдатам. Сложность этого дела заключалась в том, что под белой простыней нельзя было видеть погоны офицера, а, следовательно, и знать, как к нему обратиться: ваше благородие, ваше высокоблагородие или, наконец, ваше превосходительство1818
В гвардейской конной артиллерии младших офицеров титуловали: «ваше благородие». К капитанам и полковникам обращались: «ваше высокоблагородие». Князей и графов независимо от чина называли: «ваше сиятельство». К баронам обращались: «ваше высокородие». В других гвардейских полках всех офицеров до чина полковника включительно именовали: «ваше высокоблагородие». В армии было принято такое же обращение, как и в конной артиллерии (по уставу). Конечно, князей и графов называли «сиятельство» только тогда, когда знали их в лицо.
[Закрыть].
Приходилось изворачиваться и призывать на помощь солдатскую смекалку: Например, при входе в парикмахерскую сначала посмотреть на вешалку и определить, какие на офицерском пальто погоны. Генералов сразу можно было узнать по красным лампасам на штанах. Но бывали трудные случаи, когда в парикмахерских креслах сидело два офицера под простыней, да ещё с намыленными физиономиями! Военный этикет требовал в таких случаях обратиться к старшему в чине. А внешний вид гвардейских офицеров часто обманывал. Иногда Алексей или Семен приходили на помощь и, не отрываясь от бритья, носом указывали мне на старшего офицера. Но однажды ни вешалка, ни носы Алексея и Семена мне не могли помочь…
Стало известно, что командиром Лейб-гвардии Драгунского полка назначен граф Нирод, адъютант великого князя Николая Николаевича, с производством его в генералы. Случайно я знал Нирода в лицо.
Как-то, заехав в парикмахерскую и бросив взгляд на вешалку, я увидел два серых офицерских пальто и оба генерал-майорские, В одном из сидящих под простыней я сразу узнал Нирода и обрадовался, что теперь я уже не ошибусь и блесну сейчас моим знанием гвардейских командиров. Смело подойдя к Нироду и назвав его – «ваше сиятельство», я спросил разрешение остаться. Мое обращение видимо польстило молодому генералу, и он просиял от удовольствия, но тут же спохватившись, сказал: «Да, но почему вы не обращаетесь к своему начальству?»… И он указал глазами на сидящего в другом кресле совсем молодого офицера с намыленной щекой, который при ближайшем рассмотрении оказался все тем же… генералом Герингом!
Я смутился, покраснел и повернулся к Герингу, который, между тем, вежливо отказывался от чести, которую ему любезно передавал Нирод, как старшему генералу, а Нирод в свою очередь доказывал Герингу, что он, как младший генерал, не смеет вторгаться в священные права старшинства. Пока оба генерала изображали Версаль на Караванной, я стоял с рукой у козырька и не знал, что делать дальше. Меня выручил Алексей, этот фигаро-дипломат. Он предложил мне занять свободное кресло.
Нирод, между тем, не без самодовольства говорил Герингу: «Удивительно, как это быстро все узнали…», – намекая на то, что я, служа в другой дивизии и в другом гарнизоне, под простыней признал его генеральство и приветствовал «сиятельством».
Между прочим, Геринг принадлежал к той семье Герингов, которая породнилась посредством браков с потомством А.С. Пушкина и его сына Александра Александровича.
На военной службе я стал стричь голову машинкой №00. Когда в 1914 году я отправлялся на фронт, то вместе с термосом и флаконом одеколона купил себе машинку «00», с которой не расставался вплоть до 1950 года, когда её у меня украл школьник, товарищ сына. Брился я всегда безопасной бритвой, и поэтому пока у меня была машинка, я никогда не ходил в парикмахерские. И вот, начав бывать после 1950 года по необходимости в парикмахерских города Петропавловска, где я проживаю1919
Написано в 1965 году .– Прим. А.Р.-К.
[Закрыть], я наглядно мог убедиться в глубине той пропасти, которая отделила советский мир, советский быт, воспитание советских людей, от старого, дореволюционного мира, его обычаев и понятий о благопристойности и вежливости. Впрочем, и наши общественные столовые и магазины также указывают на резкие изменения, происшедшие в сознании людей.
До 1917 года нельзя себе было представить, чтобы не только в столицах, но даже в самых глухих и жалких провинциальных городках России мастера-парикмахеры могли бы себя держать развязно и невнимательно с посетителями. У нас утерялся секрет, или вернее, элементарное правило вежливого и приветливого обхождения с клиентами. Как правило, у нас «мастера» (за редким исключением очень низкой квалификации) ведут между собой очень оживленный и громкий разговор о своих личных делах, совершенно не считаясь с присутствием клиентов, игнорируя как бы самый факт их существования, как будто они имеют дело не с людьми, а с заводскими станками, на которых они должны побольше выработать, побольше заработать, перевыполнить план, руководствуясь лозунгом: «готово, следующий!».
Было бы неправильно думать, что до революции работники парикмахерских не старались бы побольше заработать. Но в основу их работы было положено качество их труда, а не количество обработанных голов. И в понятие качества работы входило не только умение стричь и брить, но и уменье занять посетителя. Как «обходительно», вежливо, предупредительно, а главное внимательно относились работники парикмахерских к посетителям, стараясь сделать все возможное, чтобы произвести приятное впечатление уменьем себя держать с достоинством, без раболепства и пресмыкательства, уменьем вести благопристойный разговор. Клиента полагалось занимать, и уменье это делать очень ценилось. От обстановки, от уменья принять клиента зависела посещаемость парикмахерской, т.е. доход хозяина, а также и мастеров, которые получали за свой труд «на чай» от 30 копеек до одного рубля. Миллионер А.А. Бахрушин давал «на чай» не больше 15 копеек.
В женских отделениях у посетительниц бывали свои любимцы из мастеров, на которых под большие праздники, устанавли валась очередь. Многие состоятельные клиентки приглашали мастеров к себе на дом. Поговаривали, что иногда тут дело не обходилось без романов.
В известной московской парикмахерской «Базиля» на Кузнецком мосту одновременно работало не менее десяти мастеров, но было тихо, как в церкви. Конечно, разговаривали с клиентами в полголоса, чтобы не нарушить тон спокойной благопристойности учреждения, чтобы не делать этот разговор общим, чтобы проводить его более интимно. Со случайными посетителями разговор шел на обывательские темы: «лед прошел», «весна обещает быть холодной», «открывать сад Эрмитаж будут в шубах» и т.п. Но как только посетитель начинал делаться «своим клиентом», разговор менялся. С ним можно было поговорить и на городские, и на общественные, и даже политические темы.
В Москве я обычно стригся у «Братьев Орловых» на Тверской, против Брюсовского переулка. Однажды, поговорив со мной о Гучкове, новом городском голове, о борьбе графини Уваровой с городской управой за запрещение проводить трамвай по Красной площади, мастер прошептал мне на ухо: «А вот тот господин у окна, это сам сенатор Гарин…». Взглянув в указанную сторону, я увидел крайне невзрачного господина средних лет, с несколько уродливым оскалом рта, как будто он все время смеялся. Этот сенатор приехал в Москву в связи с шумом поднятым газетами по поводу будто бы открывшихся больших злоупотреблений в московской полиции, и у градоначальника, генерала Рейнбота, обвинявшегося в получении взяток с публичных домов. Результатом ревизии Гарина явилась отставка Рейнбота. Не знаю, брал ли Рейнбот взятки или нет, но один из самых шикарных веселых домов в Москве помещался на Спиридоновке напротив дома Морозова, где проживал сам градоначальник с супругой. Рейнбот был женат на Зинаиде Григорьевне Морозовой, вдове известного мецената-миллионера Саввы Ивановича Морозова.
Очень часто именно от своего парикмахера можно было узнать какую-нибудь городскую новость, узнать «верную лошадь» на ближайших бегах, услышать, как реагирует город на новый закон или распоряжение правительства, узнать сколько «взял» Шаляпин со своего концерта, посудачить про новое чудачество авиатора Уточкина и т.д.
Каждый мастер должен был знать своего клиента, знать круг его интересов, интересоваться его делами, но без навязчивого любопытства, знать, когда можно было пошутить, а когда и «посеръёзничать». Вся эта «политика» требовала основательного знания жизни, опыта, ловкости, смышлености, дипломатического такта. Вот почему посещение парикмахерской в старое время многим доставляло такое удовольствие, что они ходили туда каждый день.
Недавно2020
В 1960-е годы. – Прим. А.Р.-К.
[Закрыть], находясь в парикмахерской, я услышал, как одна из мастериц, проводив своего клиента, громко жаловалась на него: «Подумайте только, я ему предлагаю освежить голову, а он говорит – «не надо». – Ну, не хочешь и черт с тобой, старый пес». Комментария этот факт не требует.
С таким же чувством приятного удовлетворения, чувством радости бытия, происходило и посещение в далеком прошлом ресторанов. В России меньше, чем в какой-нибудь другой стране, обед являлся актом, освещенным традицией. Но, тем не менее, и у нас умели обедать, каждый по своему достатку. Существовало три вида «точек питания»: кафе-столовые, чаще всего при кондитерских, без подачи горячих кушаний и спиртных напитков; рестораны (1, 2 и 3 разрядов), посещаемые чиновниками, интеллигенцией, служащими, студентами, торговым классом. Для низких слоев населения были многочисленные чайные, трактиры, пивные, кухмистерские. В каждом из этих заведений посетитель встречался уважительно, обслуживался со вниманием, независимо от того, сколько он съест и выпьет. Гвардейские офицеры могли посещать рестораны только 1-го разряда. В ресторане «кафешантанов» разрешалось находиться только в кабинетах, а не в общей зале.
Были извозчичьи чайные, где хозяева раза два в год кормили и поили посетителей бесплатно (на именины хозяина). Были студенческие столовые, где обед (щи с мясом – 200 гр. и котлета – 200 гр., с гарниром) стоил 27 копеек. В Народных домах котлета стоила 6 копеек, и была чистота поразительная.
Накормить вкусно, обслужить быстро и внимательно, с тем, чтобы захотелось прийти сюда ещё раз и ещё много раз, – таков был закон частного предпринимателя, трактирщика. В ресторан приходят, чтобы поесть и отдохнуть, для деловой беседы и для приятного времяпрепровождения. В ресторане каждый находит то, что ему нужно. И у «Эрнеста» – в самом дорогом и аристократическом петербургском ресторане, помещавшемся на Каменноостровском проспекте (между прочим, у него не было никакой вывески), и в самой бедной харчевне Галерной гавани посетитель встречался с уважением, как гость хозяина. Только у «Эрнеста» обед с бутылкой вина стоял 15-25 рублей, а в Галерной – 25 копеек.
Все мысли хозяина ресторана, трактира, пивной были направлены на то, чтобы привлечь, как можно больше посетителей. Если мне в «Праге» что-нибудь не понравилось, то я буду ходить в «Метрополь» или «Эрмитаж». Если рабочих Трехгорки плохо обслужит хозяин в трактире на Пресне, то будьте уверены, что они к нему не придут посидеть за кружкой пива после работы, а их трудовые деньги заполучит какой-нибудь другой паук в Проточном переулке.
Как-то я был в Пресновке2121
Поселок в Северном Казахстане. – Прим. А.Р.-К.
[Закрыть], в 1942 году, в районной столовой, один вид которой, казалось, был скопирован с харчевни Калифорнии или Аляски, как мы их себе представляем по рассказам Джека Лондона, Майн-Рида, О. Генри. Совсем молоденькая официантка во время подачи обеда посетителям села на стул и начала щелкать семечки.
«Что случилось, Клава? – спросила её буфетчица. – Почему ты перестала подавать обед?».
«А, ну их к черту. Надоели», – очень просто ответила девушка.
В столовой №1 в городе Петропавловске в углу стояло переходящее Красное Знамя, награда за лучшую работу. Во время обеда, в разгар работы, в столовую пришла официантка Тася, бывшая в этот день свободной. Она только что купила себе босоножки. Это событие крайне заинтересовало всех остальных официанток. Они бросили обслуживать посетителей и начали по очереди примерять туфли, высказывая попутно свои замечания и веские соображения. Одна из них объясняла своим товарищам по работе, что, как известно, от резиновой подошвы очень потеют ноги. Другая, не менее авторитетно говорила о том, что от матерчатых туфель всегда бывают мозоли, от которых она не знает, как избавиться. А посетители? Они сидели тихо и смирно, не протестуя, и терпеливо ожидали, когда кончится эта импровизированная конференция по мозолям!
Конечно, описанную сцену увидеть в дореволюционное время в каком-нибудь ресторане было бы невозможно. Это было бы немыслимо увидеть и в любом трактире, где посетителей обслуживали не лакеи во фраках, а половые, «молодцы», как их называли – в белых рубашках и штанах. Ничего подобного нельзя было бы встретить и в демократических «Народных домах», которые обслуживались тоже девушками-официантками.
Я ручаюсь, что за всю историю торговли в России не могло быть случая, когда продавец старался бы опорочить качество продаваемого им товара. А вот я, покупая однажды в предвоенные годы соевые конфеты в одной из московских кондитерских, услышал от продавщицы искреннее сочувствие: «Как вы можете есть такую гадость?». Другой раз в Мосторге, когда я покупал ботинки, продавщица с полным сознанием своего гражданского долга предупредила меня: «Не берите эти ботинки – это стахановская работа» (то есть брак!!!).
Я очень часто нарушал установленное правило отдания чести. Уж очень надоедало подчас. Иногда бывали и комические случаи. Так однажды я куда-то спешил и шел пешком. Завернув за угол, я столкнулся с очень представительным генерал-адъютантом. Мне было лень становиться во фронт, и я ограничился лишь отданием чести, бодро прошагав мимо, и, видимо, ошарашив его своим нахальством. Генерал остолбенел, остановился и с растерянным лицом смотрел мне в след. Потом я его встретил в театре, и узнал, что это был генерал-адъютант, светлейший князь Голицын, начальник царской охоты.
Иногда, под веселую руку, мы дурачились. Как-то, после хорошего завтрака у нашего друга Андрея Крона, я со Штукенбергом шел по Литейному проспекту. В этот предвечерний, сумрачный час генералы должны были сидеть смирно по домам, и мы шли, весело поглядывая на прохожих. Вдруг откуда ни возьмись из одного из подъездов вышел граф Дона-Шлобиттен, генерал-адъютант германского императора, который был командирован состоять при особе русского императора. На началах взаимности при Вильгельме II состоял наш русский генерал, граф Татищев. Такой обычай обмениваться генералами, по-видимому для шпионской работы в высших сферах общества, существовал у нас со времен Николая I. Дона-Шлобиттен носил форму прусского генерала, надевал каску и плащ. По уставу мы были обязаны становиться ему во фронт, что мы с Додей Штукенбергом и проделали. Немец нам откозырял двумя пальцами и не взглянул на нас. «Какой нахал», – сказал Штукенберг. И тут мы вспомнили, что не зашли в кондитерскую, где нам надо было что-то купить. Мы повернули обратно и увидели Дона-Шлобиттена, опять идущего нам на встречу. Я предложил укрыться в ближайший подъезд, но Додя воспротивился.
«Он подумает, что мы его боимся». И мы опять, с шиком и звоном шпор, распространились перед другом Вильгельма Гогенцоллерна. Однако, и на этот раз этот высокопоставленный шпион не обратил на нас внимания, слегка лишь отмахнувшись от нашего приветствия.
Штукенберг возмутился: «Давайте его научим, как надо себя вести в русской столице! Идем скорее!» Мы быстро перешли Литейный, обогнали немца по другой стороне улицы и, забежав ему вперед, бодро зашагали навстречу и лихо стали во фронт. На этот раз немец заметил нас, и удивленно взглянул, но, увидев наши почтительные лица, доброжелательно кивнул нам и бросил: «Очень ка-ро-шо». На что мы ответили: «Рады стараться, ваше сиятельство!», – а немец ещё покивал нам головой и отдал честь по русскому уставу – всей ладонью.
«Вот как их надо учить. Теперь он нас век не забудет!», – рассмеялся Штукенберг.
Однако то, что могли себе позволить господа вольноопределяющиеся, конечно, было невозможно для рядовых солдат. Нам приходилось слышать много рассказов от наших товарищей, как к ним на улицах придирались офицеры, особенно молодые, за плохое отдание чести. Впрочем, случаи отобрания увольнительных записок были редки. Обычно офицер ограничивался разносом солдата и приказанием вернуться в часть и доложить своему командиру, что ему было сделано замечание. Исполнить это приказание или не исполнить – оставалось на совести провинившегося. Старшие офицеры избегали вообще замечать нарушение правил устава, а тем более, если они находились где-нибудь не в многолюдном месте. Можно было нарваться на очень грубый отпор, вплоть до мордобоя.
Если мы, люди развитые и много видавшие и много знающие, попадали в трудное положение и часто ошибались и в отдании чести, и в правильном обхождении с начальником, то солдатам было подчас еще труднее догадаться, как поступить и что говорить. Подавляющее большинство солдат никогда не жило в городе, и почти никто не бывал в таких Вавилонах, как Петербург, который выделялся из всех других больших городов Империи своим разлагающим бытом, чудовищным развратом и полным отсутствием моральных принципов.
Вообще надо признать, что положение вольноопределяющихся на службе было фальшивое. Мы были и не солдатами, и не офицерами. Устав рассматривал нас, как солдат нижних чинов, которые пользуются по образованию льготой – служат всего год, причем, в конце срока службы держат экзамен на чин прапорщика и потом увольняются в запас. Если вольноопределяющимся и делались какие-нибудь послабления по службе (например: проживание не в казарме, а на частной квартире), то исключительно по усмотрению командира части. Но хотя мы и были нижними чинами и господа офицеры говорили нам в строю «ты», но в то же время они знали, что не только нас нельзя тронуть пальцем, но и выругать. Если Линевич кричал в манеже на езде: «Савченко, что ты болтаешься, как ..... в проруби» То нам он кричал: «Мезенцев, что вы болтаетесь, как бревно в проруби», а уж Мезенцев должен был знать, какое это бревно болтается, и обижаться на Линевича за такое картинное сравнение было невозможно.
Обращались офицеры к нам по-разному. Линевич говорил «вы», но на езде хлопал бичом по ногам. Правда, предполагалось, что он хлопает по лошади, а наши ноги случайно попадались под бич. Перфильев говорил «ты», но обыгрывал это «ты», как актер, играющий на сцене, считая, что мы тоже играем роль солдат. Это входило в его представление о выработке в нас «мувманта». Барановский сопел, как морж, и говорил с нами примерно так: «Корсаков, вы меня понимаешь?» Энденмладший говорил «ты» без всяких фокусов и это, пожалуй, было приятнее всего.
Нелепость нашего положения подчеркивалась ещё более при встречах с женой Барановского. Здороваясь, мы целовали ей руку, а он, её муж, сопел и буркал: «Здорово». Целование руки дамам, между прочим, глубоко возмущало наших солдат. Особенно волновались станичники. Они отплевывались и говорили: «Как? Разве это возможно, чтобы бабе руку целовать? Да за какие это грехи? Да она, паскуда, руки свои бог знает куда сует, а я ей буду потом их целовать!..»
Полное смешение всех правил устава в отношении вольноопределяющихся произвело открытие небезызвестного в Петербурге в дореволюционные годы (1911-1914) «Скетинг-ринга», на Марсовом поле. Это учреждение было открыто благотворительным Комитетом по улучшению быта заключенных в тюрьмах, возглавляемого высокопоставленными особами. Это был теплый и большой сарай овальной формы, в середине которого была площадка для катанья на коньках с роликами. Кругом за барьером стояли столики кафе-ресторана, за которыми сидела публика, смотрящая на катавшихся. Было очень светло (неоновое освещение), очень уютно, очень прилично, очень элегантно и весело. Играл военный оркестр. Публика, которая посещала этот «ринг» была смешанной. Тут бывали гвардейские офицеры, «золотая молодежь», лицеисты, правоведы, пажи, а также министры, дипломаты, старые генералы. Очень много светских дам и девушек, семьи крупных чиновников, адвокатов, финансистов. Одним словом – «сливки» петербургского общества. И в то же время, на равных правах там каталась «Анна Ивановна», Женя Шточек, Лирио из «Аквариума» и много других милых особ2222
Их биографии заслуживают написания отдельной главы, если я найду для этого время.
[Закрыть], с которыми было кататься много веселей, чем с девушками из приличных семей.
На «Скетинг-ринге» я бывал ещё правоведом. В 1911 году по распоряжению шефа Училища правоведения, принца А.П. Ольденбургского, наш класс был командирован на «Скетинг», чтобы научиться кататься и потом учить своих товарищей. Предполагалось, что это катание полезно для здоровья. Может быть, это так и было бы, если бы впускали больше чистого воздуха, хотя вентиляция там была и неплохая, но все же нельзя было сравнить закрытый зал с улицей, даже и петербургской.
Сделавшись вольноопределяющимся, я ни минуты не сомневался, что я имею право посещать «Скетинг». По-видимому, и военное начальство в этом не сомневалось. Кроме того, никто не стал бы проверять, кто разрешил мне кататься. Правда, на ринге я чувствовал себя вполне уверенно и свободно, а вот вой ти, сесть, чтобы надеть ролики, а потом пройти по проходу до ринга, бывало мучительно из-за обилия всякого начальства, перед которым надо было тянуться. Все же, несмотря на всю сложность военного ритуала, я бывал на «Скетинге» довольно часто.
Из военных постоянными посетителями «Скетинга» были: павлоградский гусар Анненков, ротмистр Родзянко (кавалергард), казак-атаманец Солдатенков, полковник Старицкий – преподаватель Артиллерийской академии. Этот последний проделывал очень сложные фигуры для того, чтобы решать практически различные задачи по физике. Он был специалист по проблеме скорости и движения. Молодежь частенько потешалась над седым полковником, который ни на что не обращал внимания, вертелся на одной ноге или делал крутые виражи перед носом прелестных особ, на которых он ни разу не взглянул.
Встречи с великими князьями нас не пугали. Старые все ездили в автомобилях с императорским вымпелом у левого переднего колеса. Младшие – Кирилл (моряк), Борис (гусар), Андрей (конно-артиллерист), а также Дмитрий Павлович (конногвардеец), правда, много ходили пешком, но не были опасными. Да и мы их хорошо знали в лицо. Страшным был только один: Николай Николаевич – «лукавый», будущий главнокомандующий в войну 1914 года. Он же тогда командовал всеми войсками гвардии и любил прицепиться на улице к любому солдату. Попадало и офицерам. В лагерях, в Красном Селе, когда солдаты замечали на дороге его автомобиль, то прятались в канавы «от греха».
Вскоре после поступления в учебную команду я решил начать готовиться к офицерскому экзамену. По рекомендации одного из наших офицеров я договорился об уроках по математике и основам артиллерийской науки с полковником Птициным, преподавателем офицерской стрелковой школы в Царском Селе. По желанию моего преподавателя он должен был сам приходить ко мне в Павловск два раза в неделю, имея в виду необходимый моцион после учебных занятий. Со свойственной артиллеристам педантичной точностью он определил расстояние от его квартиры в Царском до моего дома в Павловске в три с лишним версты, подсчитал в сколько минут он проходит обыкновенным шагом версту, т.е. 500 саженей, и высчитал время нахождения в пути так аккуратно, что появлялся у меня минута в минуту в назначенный час. Такая пунктуальность была очень в духе русской артиллерии, чего нельзя сказать про кавалерию, а тем более пехоту.
Полковник Птицын имел очень запоминающуюся внешность. Он был так похож на Николая II, что бывало просто неловко смотреть на него. Сходство было не только внешнее (борода, усы, глаза, фигура, рост), но и в жестком выражении лица, и в манере говорить, в жестах, в потрагивании рукой усов и бороды. Совсем не удивительно поэтому, что многие солдаты, встречающие Птицина на шоссе и в Павловске, становились истуканами ему во фронт. Конечно, старые солдаты гвардейских полков Царскосельского и Павловского гарнизонов не ошибались и не принимали Птицына за Николая, зная, что царь один пешком по улицам не бродит, и что он не носит артиллерийский мундир. А молодые солдаты, да ещё всяких вспомогательных частей, они считали, что царь или не царь, а лучше стать ему во фронт: кашу маслом не испортишь.
Действительно, все военнослужащие войск гвардии знали, что Николай никогда не ходит пешком. Проживая в Царском Селе в Александровском Дворце, он гулял только в дворцовом парке, тщательно охраняемом и отгороженном от той его части, куда свободно допускались все желающие. В Ставке, во время войны, он ходил гулять ежедневно по шоссе, тоже сильно охраняемом. Так что встретить его идущим «просто так» было невозможно. Кроме того, у Николая были излюбленные мундиры, которые он постоянно носил, кроме исключительных случаев, когда он надевал какую-нибудь форму, соответствующую данному поводу: например, парад или полковой праздник. Если он приезжал на полковой праздник, то он надевал мундир полка, который посещал. На парадах он чаще всего был в форме Преображенского полка. В домашнем быту он любил носить короткую офицерскую тужурку, как он изображен на известном портрете В. Серова. Последние годы он предпочитал носить форму стрелков императорской фамилии: малиновую шелковую рубаху с погонами, черные шаровары и мягкие высокие сапоги с отворотами.
Думаю, что давно пора мне рассказать о моих товарищах-вольноопределяющихся. Начну с Мезенцевых, Александра и Михаила. Отец их, Александр Петрович Мезенцев, бывший конно-артиллерист, член Государственной Думы 3-го созыва, принадлежал к партии земцев-октябристов. Он был сыном директора Пажеского корпуса, генерал-лейтенанта Мезенцева. Семья была крайне патриархальной, вела замкнутый образ жизни и жила традициями шестидесятых годов. Оба сына с презрительным скептицизмом относились к реакционному царскому правительству.
Саша Мезенцев был уже «старик». Ему было лет двадцать шесть. Он принадлежал к категории «вечных студентов», т.е. таких, которые никак не могли закончить университет, да и не очень к этому стремились. Влюбчив он был до чрезвычайности, но привык скрывать свои страсти, будучи воспитанным в очень строгих правилах. К своей военной службе он относился, как к неприятной необходимости, и почему-то с первого же дня занял резко отрицательную позицию по отношению ко всем офицерам учебной команды. В результате у него и его брата создались с ними очень холодные отношения. Здесь, может быть, сыграло роль то, что семья Мезенцевых была старой конно-артиллерийской семьей, в которой очень осуждалось новое направление, новый тон, усвоенный молодым поколением конно-артиллеристов, лидером которого был Линевич. Надо думать, что Линевич и другие молодые офицеры знали, что их очень не одобряют «старики», в числе которых был и генерал Сергей Петрович Мезенцев2323
С.П. Мезенцев был женат на Вере Пушкиной, дочери А.А. Пушкина, сына поэта. После 1917 года он мирно и благополучно проживал в Москве. В 1937 году он был выслан из Москвы вместе с В.С. Гадоном, бывшим командиром Преображенского полка, и В.Ф. Джунковским. Они были дряхлыми старцами. Не знаю, какую опасность могли эти больные и расслабленные старики представлять для советского строя?
[Закрыть], брат Александра Петровича. Младший их брат, Борис Петрович был полковник в отставке, тоже конно-артиллерист. Он посвятил свою жизнь поклонению артистке петербургского балета Ураковой. Этот совсем безобидный, тихий, скромный холостяк, человек, далекий от какой-либо политики, погиб в 1918 году на барже в Кронштадте, когда был объявлен красный террор.
По окончании учебной команды и лагерного сбора все мы сдавали экзамен на чин прапорщика. Кроме нас четырех собралось ещё человек двадцать – вольноопределяющихся разных частей. Как и следовало ожидать, эти экзамены явились пустой формальностью. Решающим моментом была топографическая съемка местности на окраине Красного Села. И вот тут Мезенцев, который весь год бузил и фыркал, не желая изучать тот учебный материал, который нам преподавали, посылая к черту и военную службу, и её науку, и наших преподавателей, вдруг обнаружил очень хорошие знания по всем предметам. Вся его буза, оказывается, была просто хорошим тоном, позой старого студента, презирающего военную службу. И, конечно, из Саши Мезенцева получился бы очень неплохой офицер, если бы он пошел служить, конечно, не в конную артиллерию, а в один из гвардейских кавалерийских полков 2-й дивизии. Не знаю, почему он этого не сделал.
Во время первой войны с Германией Мезенцев служил в штабе 6-й армии, охранявшей подступы к Петербургу. Командовал этой армией генерал Фан-дер-Флит, тоже конно-артиллерист, друг и старый товарищ Александра Петровича Мезенцева. Он взял Сашу Мезенцева к себе адъютантом. Конечно, и тут Саша чертыхался и клял свою скучную и однообразную штабную службу и рвался на фронт, но, думаю, что в глубине души был очень доволен своей судьбой. Штаб армии помещался в самом Петербурге, и Саша Мезенцев всю войну проспал мирно в своей постели в родительском доме. Впрочем, бывало, что он не всегда спал дома, где в таких случаях говорилось, что он дежурит в штабе. А между тем…
Как-то уже во время войны, обедая с Мезенцевым в одном из ресторанов (кажется, у Донона), я встретился со своей доброй приятельницей Е.Д. Зиновьевой. Ещё когда я был гимназистом в Москве, а Женя ученицей балетной школы Большого театра я переживал пору первой чистой влюбленности. Отец её был итальянец, известный оперный режиссер Доменико Дума. Несмотря на свою жгучую и очень эффектную внешность итальянской красавицы, Женя была не только русская (по матери) и православная, но и глубоко целомудренная московская мещанка, с очень ограниченным миропониманием и примитивными вкусами.
Мои родные, очень напуганные моим увлечением, самого безобидного характера (в наше время это называется «дружить»), захотели тогда меня отправить учиться в Петербург, в училище Правоведения, чтобы разлучить с Женей. Уговорить меня на этот переезд поручили самой Думе. Она этого достигла исключительно легко и быстро, сказав мне, что она сама… в ближайшие дни переводится служить в Мариинский театр.
В Петербурге я скоро познакомил Женю с правоведом Петей Зиновьевым, за которого через два месяца она вышла замуж. Я поревновал (для приличия) и быстро утешился в вихре новых петербургских развлечений.
Эта случайная встреча А. Мезенцева с Женей Зиновьевой оказалась для него роковой. Вскоре я узнал, что он собирается на ней жениться. Когда я приехал с фронта в Петербург меня захотели видеть оба «потерпевших» – Женя и Мезенцев, оба хотели излить все, что у них накопилось на душе. Роман их проходил с надрывом. Мезенцев, покручивая свой ус, с увлажненными страстью глазами, исповедовался мне в своем чувстве к Жене, которое, как ему казалось, она недостаточно разделяет. Женя со своей стороны умоляла меня, во имя нашей старой дружбы, посоветовать, что ей делать? Ей тоже «казалось», что она недостаточно любит Сашу, чтобы стать его женой, и ее пугает чуждая ей по духу и общественному положению – чопорная, аристократическая – семья Мезенцева, в которой, как она думала, она не найдет себе место. Она, бесспорно, была права. Я посоветовал ей воздержаться от официального замужества, и в заключение прибавил, чтобы она не беспокоилась: если ей захочется ещё раз выйти замуж, то я достану ей и третьего мужа. Однако, на следующий раз Женя обошлась без моей помощи и вышла замуж за Севастьянова, бывшего лицеиста, сына директора почтового ведомства и, кажется, не сожалела об этом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































